12. Солнцеворот
12. Солнцеворот
Поэма "Солнцеворот" стала одним из главных замыслов 1930 года. Работать над ней Андреев начал, возможно, уже весной и сообщал об этом Вадиму в недошедшем до нас письме. В нем даже могло быть начало поэмы. В следующем письме он говорит о стихотворческих проблемах, волновавших его в связи с поэмой, позднее пропавшей:
"Милый брат!
Послание это — исключительно литературное.
По порядку.
О "вольных" и "классических" размерах.
Форма диктуется заданием. Поэтому ни в каком случае нельзя осуждать ни того, ни другого принципа, ни "классического", ни вольного. Можно лишь говорить о конкретностях и частностях. Напр<имер>: тому или иному заданию не свойственна ни монументальная четкость ямба, ни мечтательная напевность дактиля; сама тема диктует: рваный стих.
Можешь ли ты представить себе "Двенадцать" написанными с первой до последней строки, скажем, анапестом? — Абсурд. — Или "Демона", вздернутого на дыбу "советских октав" Сельвинского? — Абсурд. У Демона затрещат суставы, порвутся сухожилия, и тем дело и кончится: вместо Демона получится мешок костей.
И утверждаю: тема Революции, как и всех вихревых движений, имеющих к тому же и движение обратное (тут А опережает Б, В отстает от Б, а Г движется назад) — ни в коем случае не может быть втиснута ни в ямб, ни вообще в какой бы то ни было "метр".
Но, с другой стороны, столь же неправильно было бы пытаться дать напряженную боль и мощь массового движения, сметающего все преграды и все рубежи, в расслабленно — лирических вольных стихах с их развинченными суставами. Вольный стих — явление декаданса, и, напр<имер>, в моей поэме он будет фигурировать именно в этой роли.
Что же касается основных ритмов моей поэмы — это ни классический стих, ни вольный размер. Менее всего он — вольный: он подчинен железным законам. Не может иметь места в нем ни внезапное выпадение слога, ни — ничем не мотивированное прибавление такового, ни уменьшение или увеличение количества ударов. Например, может ли быть назван вольным следующий ритм:
Схема: _ / _ / _ / _ _
_ /
/
/
и т. д. — 16 строк — строфа. Это — костяк.
Облеченный же плотью, он выглядит так:
Мятеж туманит головы.
С костром
схож
луг.
Вперед! Пылают головни.
Разбой.
Дрожь
рук.
Крепчает темень черная
В груди.
Злой
ветр
Коряжник выкорчевывает,
дик,
как
вепрь…
Мотив стихийного разбоя (разгром усадеб, партизанщина, зеленые), с несколько плясовым оттенком. (За ритм этот готов стоять до гробовой доски.) Согласись, что тут ’’вольный стих" и не ночевал. Ты можешь оспаривать другое: подбор слов, звучание, образы — одним словом, воплощение, а не идею. И тут я уже не буду так тверд в отстаивании своих стихов"[139].
Поэму Андреев писал с вдохновенным запалом и в сентябре собирался закончить первую часть, "вероятно, строк около 600", — как он сообщал брату. Предыдущая поэма "Красная Москва" ему уже казалась несовершенной, хотя лучшие куски из нее он включил в "Солнцеворот". Впрочем, позже он и "Солнцеворот" назовет ученической поэмой. В ней, по его признанию, он находился под сильным влиянием Коваленского, разделяя "его временное увлечение спондеями"[140]. Но для Даниила Андреева увлечение спондеями не стало временным, позднее он писал о спондеике "как принципе стихосложения".
Изощренный версификатор, Коваленский широко использовал спондеи и в драме — мистерии "Неопалимая Купина", писавшейся им в 27–м году, но оставшейся незаконченной, и в написанной через год поэме "Гунны". Тогда Даниил не только находился под всеподавляющим литературным влиянием Александра Викторовича, но и разделял многие умонастроения ментора. Впадая в особые мистические состояния, тот просил зятя записывать его высказывания. Какими они были — неизвестно. Таинственные состояния Коваленского, природу которых он умел внушительно объяснять, настраивали на возможность иноприродных откровений.
В то время, когда Андреев задумал "Солнцеворот", Коваленский завершал поэму "1905 год"[141]. На революционную поэму Коваленский возлагал расчетливые надежды, самонадеянно рассчитывая выдвинуться "в первые ряды советских поэтов". Тема считалась актуальной. Как раз исполнялось двадцатипятилетие со дня начала первой русской революции. Этой востребованной темы он уже коснулся в вышедшем в том же году в издательстве "Молодая гвардия" историческом очерке "Нескучный сад", уделив событиям 1905 года отдельную главку. Но в поэме, вольно или невольно, Коваленский вступал в самонадеянное соревнование с Пастернаком, чья поэма "Девятьсот пятый год", названная самим поэтом "относительной пошлятиной" и "добровольной идеальной сделкой со временем"[142], стала известной и признанной.
"1905 год" Коваленского не стал большой удачей. Продуманный конформизм, раздвоенность, как ни старался автор подхлестывать стиховой рассказ спондеической энергией, сказались. Успеха поэма не имела, хотя появилась в "Красной нови" и попала в революционную антологию. Она осталась безуспешной попыткой автора войти в сомкнутые ряды современных советских поэтов. Но ее своеобразная, местами выразительная метрика оказала на ученика явное влияние, отозвавшись даже в зрелых стихах Даниила Андреева. Он навсегда запомнил ее строфы с барабанной дробью спондеев:
Гонит чужой долг,
Дышат рады шпал,
— Слушай снегов толк:
— Пал, Порт — Артур, пал…
— Пал, Порт — Артур, пал!
— Строй, и за ним строй…
Вон — впереди — встал
Новых Цусим рой…[143]
Поэме Коваленский предпослал два эпиграфа. Первый — из Ленина, второй из "Медного Всадника" Пушкина. Ленинские слова эпиграфа — "Революция началась… Вероятно, волна эта отхлынет, но она глубоко встряхнет народное сознание… За нею вскоре последует другая" — очевидно перекликаются с утверждением Андреева в письме к брату, что революции, как и все вихревые движения, имеют и движение обратное… Но его больше впечатляла другая поэма Коваленского — "Гунны", о революции 17–го. Позже, на следствии, он уклончиво определил ее мысль: "Великая революция — это грандиозный сдвиг национального сознания…"
Судя по всему, "Солнцеворот" Даниила Андреева был поэмой о Революции и Гражданской войне, о новой смуте, связанной "вихревым движением" с временами самозванцев. Поэтому некоторые строфы ее позже естественно вошли в "Симфонию о смутном времени" "Рух".
Но не только уроки домашнего ментора и старшего друга усваивал поэт. Поэзия двадцатых, и не одни Маяковский и Есенин, Хлебников и Волошин, но и Тихонов, Сельвинский, Пастернак, часто совсем чуждые его мироощущению и поэтике, так или иначе отзывались в его начальных опытах. А работая над "Солнцеворотом", Андреев с особым пристрастием читал размашистые поэмы Сельвинского, прежде всего "Уляляевщину", тоже поэму о смуте. "Слышал ли ты что-нибудь о нем? — спрашивал он брата о Сельвинском. — Хотя поэзия не ступала на эти страницы даже большим пальцем правой ноги, — все же этот "поэт" — самое значительное, на мой взгляд, явление нашей литературы за последние несколько лет. Он чрезвычайно остроумен, и если разъять слово — то и остр, и умен (по — настоящему).
Он считает себя учеником школы Пастернака, но надо отдать ему честь, отнюдь не Пастернак. Кстати: твоей любви к Пастернаку не разделяю. Мне в оба уха напели, что это гениальный поэт, — но я, как ни бился, сумел отыскать в его книгах всего лишь несколько неплохих строф. Вероятно, я его просто не понимаю. Но мне претит это косноязычие, возводимое в принцип. Он неуклюж и немилосердно режет ухо. Но талантлив — несомненно, и жаль, что заживо укладывает себя в гроб всяческих конструкций".
Пишет он брату и о других новинках литературы: "Кроме Сельвинского, еще рекомендую: Чапыгина, роман "Разин Степан" — первый роман о России, заслуживающий названия "исторического"; Тынянов, "Смерть Вазир — Мухтара" — блестящий роман о Грибоедове и — "Кюхля" о Кюхельбекере. Писатель очень культурный, что ставит его выше огромного большинства наших литераторов, которые, не в обиду им будет сказано, при всей своей революционности, обладают, однако, куриным кругозором. Даже Шолохов — несомненный талант (читал его "Тихий Дон"?), но ведь интеллектуально это ребенок.
В последнее время у нас наблюдается острый интерес к Хлебникову. Появилось, наконец, 1–е собрание его сочинений, и среди поэтов циркулирует слух, что это — гений, которого в свое время проглядели. Не думаю, конечно, что гений, но черты гениальности — есть. Поэт интересный исключительно — но главным образом своими любопытнейшими экспериментами и исканиями".
В том же письме он делится с братом литературными интересами и предпочтениями: "…Нельзя ли достать у вас там Вячеслава Иванова что бы то ни было (если нет какого-нибудь собрания сочинений)? Здесь он стал величайшей редкостью и стоит бешеных денег. Если б тебе удалось его добыть — очень прошу, пришли: это один из моих любимейших поэтов, и я по — настоящему страдаю, не имея его постоянно под рукой.
Мандельштама я знаю скверно — его тоже очень трудно достать — как и Ин<нокентия>Анненского, которого я безрезультатно ищу вот уже 1 1/2 года. Вообще же, если хочешь знать, наконец, определенно, то ставлю точку над i: учителя мои и старинная и нержавеющая любовь — символисты, в первую голову — Блок…"[144]
Солнцеворот — 25 декабря, в этот день солнце поворачивает на лето, зима на мороз. В названии поэмы символика времени: солнце, как Божий лик, говорит, что мистическое время уже поворотило "на лето", а историческое, зимнее время явно поворачивает "на мороз". Не зная поэмы, подобный сюжет можно только предполагать. Но, прослеживая постепенно складывающийся в миропонимании Даниила Андреева образ времени, видевшего в нем то вихревые движения, то смену красных и синих эпох, с почти физическим ощущением мистерии непрестанного сражения сил тьмы и света, можно думать, что похожая мысль присутствовала и в его поэме "Солнцеворот".
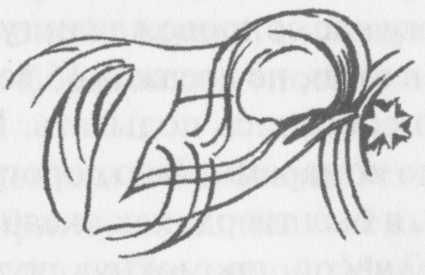
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
СОЛНЦЕВОРОТ 1941 г
СОЛНЦЕВОРОТ 1941 г Серым и угрюмым начинал 1941 год свой разбег. Насколько Франция может быть прекрасной летом, настолько отвратительной зимой. День шел за днем, ничего особенного не происходило. Только когда я на свое восемнадцатилетие пригласил несколько товарищей на
СОЛНЦЕВОРОТ 1945 г
СОЛНЦЕВОРОТ 1945 г Наверное, прошли часы, прежде чем колеса перестали грохотать, и я от этого очнулся. К моему удивлению, повозка стояла у больницы, теперь переоборудованной под госпиталь. Солдат, чье вмешательство спасло меня от расстрела, дал мне знак, чтобы я слезал.
Солнцеворот
Солнцеворот Я очень люблю магнитные бури, я благодарен им.Мне приятны разнообразные возмущения на Солнце и выброс протуберанцев.В работе я бывал близок к тому, чтобы поклоняться Солнцу - с оттенком уважительной благодарности, в отличие от моих пациентов, которые больше
Часть третья СОЛНЦЕВОРОТ 1927–1930
Часть третья СОЛНЦЕВОРОТ 1927–1930 1. Большая отрада, что я не писатель Весной Андреев поехал в Ленинград. Там он чаще всего останавливался в бывшей квартире отца на Мойке. На нее выходили длинные окна кабинета, а из спальни виделось Марсово поле, а дальше, за деревьями, можно
12. Солнцеворот
12. Солнцеворот Поэма "Солнцеворот" стала одним из главных замыслов 1930 года. Работать над ней Андреев начал, возможно, уже весной и сообщал об этом Вадиму в недошедшем до нас письме. В нем даже могло быть начало поэмы. В следующем письме он говорит о стихотворческих
Зимний солнцеворот: "Взирай на Солнце…"
Зимний солнцеворот: "Взирай на Солнце…" Это изречение Р. Штейнера дал 17 декабря 1906 года в Берлине. Вскоре после того, как Р. Штейнер начал читать лекции в Столярной мастерской Гетеанума (осень 1914 года), члены Антропософского общества предложили ему каждый раз в качестве