12. Предгория
12. Предгория
Чем беспощадней становилось время, тем бодрей и громче звучала музыка, чаще маршировали физкультурники, аплодисменты непременно переходили в овацию. Террор усиливался — ширилась радиофикация. Начало 1934 года — это XVII съезд ВКП(б), доклады Сталина, Молотова, Кагановича. Торжество сталинского всевластия. До Андреева, как и до всего народа, доносился лишь гул речей, лозунгов и призывов. Интересующиеся вникали в доступные по газетам и слухам подробности. Еще не отменены продуктовые карточки. Но в Москве появились первые троллейбусы. Соседняя Остоженка, скоро ставшая Метростроевской, была перекопана — строилось метро.
Заодно на ней снесли храмы Воскресения и Успения, хотя, как считали многие, строительству они совсем не мешали. Но к сносу храмов москвичи уже привыкли, одни — принимая как должное, другие хмуро помалкивая.
17 августа 1934 года открылся первый Всесоюзный съезд писателей. О нем писали все газеты: овации Сталину и Горькому, доклад Бухарина о поэзии, речи писателей.
Это лето Андреев большей частью провел в Москве, иногда выезжая за город. Довольно долго пробыл на даче Муравьевых на Николиной горе. С Николаем Константиновичем он мог беседовать о многом, а в это лето они могли обсуждать только что вышедшую книгу Ганди "Моя жизнь", которую оба прочли, или говорить о стихах Максимилиана Волошина, увлекших старого адвоката. В сентябре Муравьев писал давнему соратнику в Харьков: "Я сейчас очень интересуюсь Волошиным и собираю его работы. Последний сборник его стихотворений издан в Харькове, если не ошибаюсь, в 1923 г. Не могли бы Вы антикварным путем приобрести для меня эту книжку…"[186] Речь шла о книге "Демоны глухонемые".
С первого знакомства, еще в 1929 году, Даниил особенно близко сошелся с Гавриилом Андреевичем Волковым, ставшим мужем Татьяны Муравьевой. Волков изучал творчество Льва Толстого, участвовал в редакторовании его Полного собрания сочинений. Занималась Толстым и Татьяна, работавшая вместе с мужем в музее Толстого на Пречистенке. Любовь к Толстому у нее была наследственной, с писателем долгое время общался ее отец, участвовавший в составлении его духовного завещания.
Возле дома с мезонином, в сосновом бору, вместе с Волковыми Даниил совершал долгие прогулки. Они дорого обошлись его друзьям позже. Сравнительно недалеко от Николиной горы, в Зубалово, находилась дача Сталина. Но Даниил меньше всего думал о соседстве правительственных дач и живших в них вождях. Он пребывал в иных мирах, слушая жужжание веретена времен Майи, говорил в стихотворении "Из дневника" — "… на восток, за желтый Инд / Ложится пыль моей дороги". На этой лирической дороге перед ним вставали "орлиные высоты Непала", Бенарес, индийские бархатные ночи…
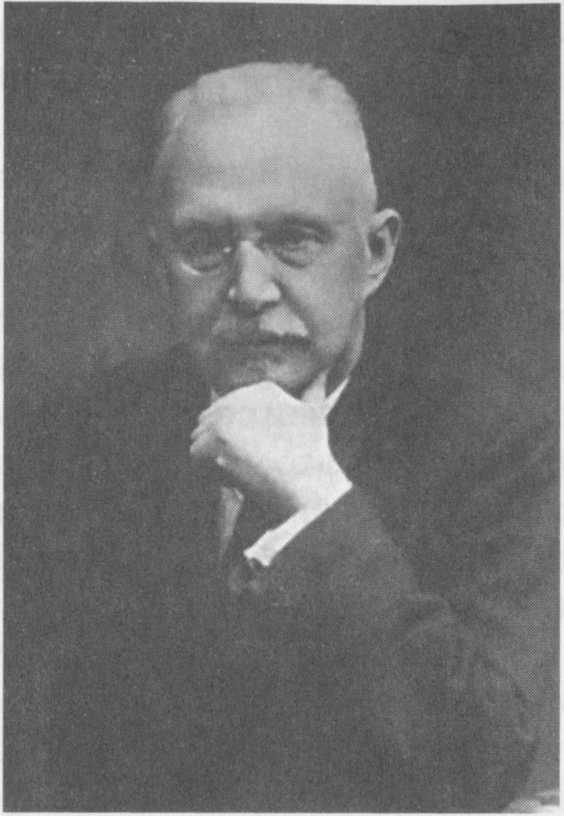
Н. К. Муравьев. 1930–е
Он и в этом году жил поисками собственной Индии, уходя в необычные состояния вдохновенных полугрез, иногда встречая тот единственный образ, который, казалось, скоро появится в московской толпе. Ее, видевшуюся выражением идеала настолько достоверным, что он верил — встречался с ней в иной жизни, куда ему приоткрылась щелочка сознания, и возможна встреча в этой. "Сцена у реки (в поэме) действ<ительно>была", — записал он через годы в тюремной тетради о видении, изображенном в поэме "Бенаресская ночь":
… На берег вышла. Солнце тканью
Из света — стан ей облекло;
Над грудью влажно расцвело
Жасмина сонного дыханье,
И — обернулась… В первый раз
Забыл я снег и лед в Непале,
И прямо в душу мне упали
Лучи огромных, темных глаз.
Я вздрогнул: там, под влагой черной
Индийских бархатных ночей,
Сиял цветок нерукотворный,
Как чаша золотых лучей.
Мерцала в этом детском взоре
Тысячелетняя тоска
Старинных царств, уснувших в море
Под золотым плащом песка;
Неуловимые для слуха,
В нем реки звездные текли
Неизмеримых странствий духа
Еще до солнца и земли…
Я видел путь наш в море мира,
Сквозь плещущие времена,
И звук, ликующий как лира,
Из сердца рос: — Она! Она!
Известен рассказ со слов самого поэта, в котором сквозит самоирония, об одной истории, связанной с этой поэмой: "Однажды он ехал в трамвае, и вот на одной из остановок увидал девушку, которая стояла, прислонившись к столбу, держа в руках что-то прозаическое, вроде бидончика для молока и продуктовой сумки, и, видимо, ожидая свой номер. Что-то в ее наружности поразило его: "Она?!" — И он выпрыгивает уже на ходу из трамвая<…>Но, будучи очень застенчивым, не решается подойти к ней и смотрит на нее издали. Вслед за ней вскакивает в трамвай и едет, не теряя ее из вида, до железнодорожного вокзала, где она выходит. Он за ней. Она входит в здание вокзала, он за ней. Она, уже смешиваясь с густой толпой, проходит через контроль на перрон, а у него нет перронного билета, и он остается… Но так как дверь, через которую она вышла, вела к пригородным поездам, то он решает, что, стало быть, она должна приехать в Москву еще. И он ездит к этому вокзалу и ждет у этого перрона. Уж не помню, сколько дней, или недель, он так ездил и по сколько часов ждал там, только однажды он увидел ее опять! Атак как он понимал, что невозможно будет объяснить ей кратко — почему он обратился к ней, то он брал с собой эту индийскую поэму, где говорилось о любви, о предназначенности друг другу и прочих поэтических вещах<…>
И он подошел к ней, подал эту тетрадь — "прочтите" — и спросил, когда она снова будет в Москве. Через сколько-то дней он опять помчался на вокзал… Вот она, идет! Что-то она ему скажет?! Она возвращает ему тетрадь со словами: "Я замужем""[187].
Романтический, мистический мир поэта, вторая реальность. Но какой бы фантастической она ни казалась, как бы ни верил он в то, что в прошлой жизни "был индусом, принадлежал к касте брахманов, но был изгнан из нее за брак с неприкасаемой"[188], у него на столе стояла фотография вполне земной Галины Русаковой, а все его видения оказывались связаны с творившимся на московских улицах и советских просторах. Поэтический путь через великие религиозные мифы, становившиеся частью собственного мифотворчества, вел к мистерии современности, к совершавшемуся на его глазах в России. Чтобы осмыслить эту мистерию, следовало пройти путями человеческого духа, и не только Востоком, но и Западом.
Возможно, в 1933 он написал строки, надолго ставшие лирическим руководством к действию:
Чтоб лететь к невозможной отчизне,
Чтобы ветер мечты не стих,
У руля многопарусной жизни
Я поставил тебя, мой стих.
Чтобы сердце стало свободным,
В час молитв — подобным свече,
Знаменосцем — в бранные годы,
Трубадуром — в лунном луче.
Стихотворение заключает позднее составленный цикл "Предгория", начинающийся со стихов о Феодосии. Точной даты, когда оно написано неизвестно, но именно в 1934 году он вновь побывал в Крыму. Может быть, эта поездка как-то была связана и с летними беседами о Волошине с Муравьевым. 20 октября 1934 года помечено его стихотворение "Могила М. Волошина", написанное в Коктебеле. Поэзию Максимилиана Волошина Андреев любил, ценил его чрезвычайно, и в "Розе Мира" поэт среди тех, кто вступил в Синклит сразу после смерти. Высокой попыткой назвал он религиозно — этическую заповедь Волошина: "В дни революций быть человеком, а не гражданином". О единственной их встрече со слов поэта сообщила его вдова: "Летом 1931 года он встретил в Москве, на улице, Максимилиана Александровича Волошина и, преодолев на этот раз свойственную ему болезненную застенчивость, подошёл к нему и представился. Совершенно понятно, что встречен он был Максимилианом Александровичем с полным дружелюбием, радостью и тут же приглашён в Коктебель. Но этим летом у Даниила денег не было совсем, а на следующий год Волошина уже не было в живых".
1 декабря страну потрясло убийство Кирова. Обсуждали убийство и у Добровых. В 1948 году во время следствия эти разговоры всплыли. По крайней мере, в протоколе допроса Андреева в Лефортово есть такое показание: "Коваленский, будучи особенно озлоблен против Сталина, в 1934 году после убийства Кирова заявлял, что покушение на Кирова не дало ощутимых результатов и не смогло вызвать изменений в стране. Если уж жертвовать собой, говорил Коваленский, так надо было стрелять в Сталина"[189]. Но ходили слухи, особенно в Ленинграде, о том, что за покушением стоят и НКВД, и Сталин. Словно бы заранее готовясь к событию, советская юстиция мгновенно внесла изменения в уголовно — процессуальные кодексы, принятые "Постановлением ЦИК и СНК СССР" в тот же день. Изменения касались "дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти". Пункты были следующими:
"1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора".
Начались открытые, мало чем ограниченные, но еще прицельно выборочные репрессии.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК