Часть двенадцатая РОЗА МИРА 1957–1959
Часть двенадцатая
РОЗА МИРА 1957–1959
1. Освобождение
Когда Алле Александровне в конце марта в Институте Сербского объявили, что муж переведен в тюрьму, она ринулась выяснять — куда. Позвонила следователю, ведшему пересмотр дела, тот заявил, что ничего не знает. Побежала в "Матросскую тишину", в Бутырку, в Лефортово… Нигде нет.
"А я-то, зная состояние Даниила, подумала, что он просто умер. В морге надо искать! — вспоминала она дни неизвестности. — В конце концов прибегаю в справочную ГБ на Кузнецкий, 24, кидаюсь к дежурному:
— Боже мой, ведь у него же был инфаркт, он ведь умирает! Мне не говорят, где он. Ну что, где он — в морге?!
Я совершенно обезумела, готова была стену лбом пробить. И дежурный, перед которым катились волны таких дел, при мне звонил следователю, но следователь и ему не сказал.
Тем временем уже кончался апрель. А я все ходила к тому дежурному, и вот, наверное, 19 или 20 апреля при мне он сам позвонил следователю. Я слышала в голосе дежурного бешенство, потому что он видел, как я езжу из тюрьмы в тюрьму, как прихожу и умоляю: "Он же болен, смертельно болен. Почему мне не говорят, где он, почему мне не говорят даже, жив ли он?".
<…> И вот я прихожу 22 апреля, прямо перед окончанием срока, и дежурный мне говорит:
— Успокойся, жив, завтра выйдет. Завтра придешь сюда, вот придешь, и он сюда придет.<…>
На следующий день, 23 апреля, я пришла, в руках у меня была книжка "Наполеон" Тарле, я листала ее, не в состоянии прочесть ни единого слова, и никогда больше не смогла взять эту книгу в руки. Даниил вошел в приемную, где я ждала. Я встала, мы взялись за руки и пошли к маме, потому что больше идти нам на свете было некуда. Стоял солнечный день, такой же, как тот, когда Даниила арестовали"[578].
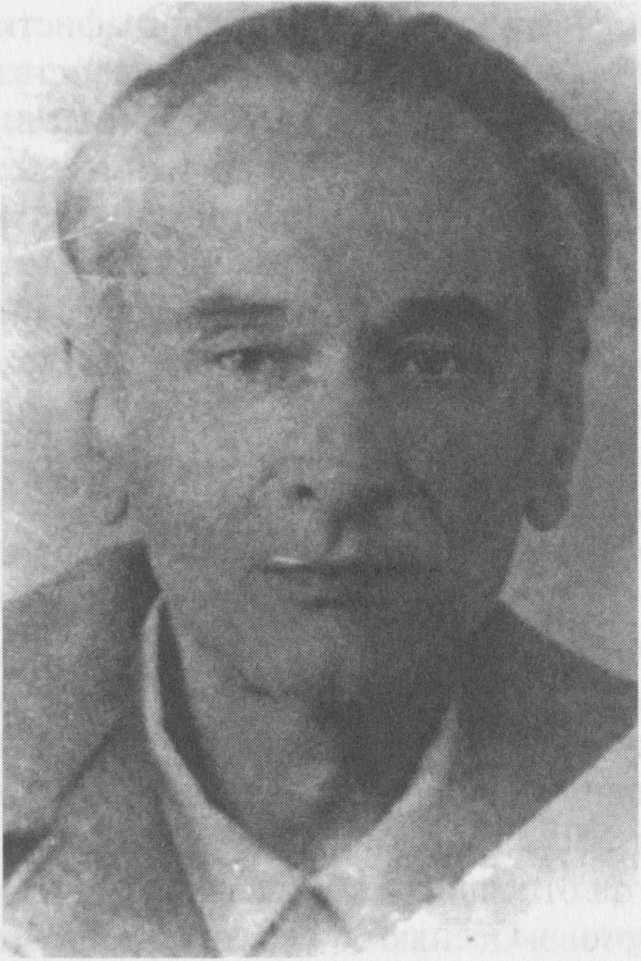
Д. Л. Андреев. Апрель 1957
Пересмотр "Дела Д. Л. Андреева" кончился ничем, и это, возможно, не было худшим исходом. Никто не решался ему простить слов из письма Маленкову об отношении к советской власти в зависимости "от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет фактически, не в декларациях, а на деле". Жена умоляла вести себя осторожней, "но он твердо стоял на том, что всегда будет говорить правду, — рассказывала она. — И в какой-то момент я не то сказала, не то написала ему: "Не выступляй". Он потом, смеясь, рассказывал мне, что это слово все вдруг поставило на свои места. И он старался "не выступлять" на допросах". Но на перееледствии, как ни сдерживался, сорвался. Следователь спросил об отношении к Сталину. "…Тут он, по его словам, "совершенно съехал". "Ты не представляешь себе, — рассказывал он мне потом, — я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил "отца народов" по косточкам, просто стер в порошок… И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит и по его знаку стенографистка не записывает". Именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника вырвали из рук дело, которое он благополучно "шил""[579]. Неутомимые хождения жены по инстанциям наверняка спасли от нового срока. Но десять лет он отсидел полностью, день в день.
Из внутренней тюрьмы КГБ Андреева выпустили со справкой № 455, где говорилось: "23 апреля 1957 года из-под стражи освобожден по истечении срока наказания". 10 мая на основании справки ему выдали паспорт.
Как он и предполагал, поселиться пришлось в Подсосенском переулке, заняв угол у родителей жены. Те жили в сравнительно большой комнате в многолюдной коммунальной квартире во весь второй этаж. Дом — деревянный купеческий особняк. Комната Бружесов когда-то была игорной, и на потолке мореного дуба осталась роспись с цветистым изображением игральных карт с драконами. Немалыми усилиями Юлия Гавриловна устроила в комнате небольшую кухню-прихожую с чуланчиком.
В первые же дни он отправился к Коваленскому, жившему у Нелли Леоновой в Лефортово. Осенью 56–го вышло собрание сочинений Ибсена с переводом "Бранда", и гонорар чрезвычайно выручил Коваленского, оказавшегося в положении, как он сам говорил, "нахлебника". В ноябре его реабилитировали, в январе 57–го восстановили в Союзе писателей. Но хвори не отступали, тоска о Каиньке не утихала. Болезненно пополневший, одышливо дышавший, он жил прошлым, писал поэму о детстве, воспоминания, "касающиеся периода отсутствия", перемежавшиеся эпизодами молодости. Встреча получилась напряженно трудной. Вольные и невольные вины, справедливые и несправедливые укоры, тяготы и утраты вставали между ними, за десятилетие наросли как лед. В этой жизни его не растопить. Неизвестно, рассказал ли Андреев усталому мистику об открывшемся в тюремных снобдениях…
Через несколько дней в Подсосенский прибежала Ирина Усова. "Несмотря на прежнюю живость движений, инфаркт Дани, случившийся около двух лет назад, все же сказывался; уже скоро ему пришлось лечь на диван, а я села возле него, — рассказывала о встрече Усова. — Разговор не клеился"[580]. Встречи со старыми друзьями стали и радостными, и тягостными. Пролегшее между ними тюремное десятилетие, как запотевшее стекло, мешало видеть и понимать друг друга.
Встретился с Александрой Львовной Горобовой. Время сгладило ее обиду и его вину, им не забытую. Она помогала хлопотать об его освобождении, писала ходатайства в Союз писателей, посылала в тюрьму посылки. Состарившаяся Александра Львовна участливо смотрела на него большими темными глазами.
Навестил Татьяну Морозову, ютившуюся со взрослыми дочерьми в коммунальной комнатушке в Марьиной роще.
Не реабилитированным жить в Москве не полагалось, их место — за 101–м километром. Стали искать, где прописаться. В самом конце апреля Андреевы вместе с племянницей Вольфина, Аллой Смирновой, поехали в родную деревню ее матери, Вишенки. Дорога через Серпухов: деревня за Окой, недалеко от Поленова.
"Мы приехали на станцию, пошли по направлению к деревне и сели на пригорке, — описывала подробности поездки Андреева. — Аллочка шутя надела на Даниила венок из каких-то больших листьев, и мы очень веселились, потому что в этом венке, похожем на лавровый, в профиль он и вправду походил на Данте. Потом мы вдвоем остались на пригорке, а Аллочка пошла к тете спросить, можно ли прийти бывшим заключенным, из которых один еще не реабилитирован. Тетя возмутилась:
— Да ты что! О чем ты спрашиваешь? Веди сейчас же.
Нас приняли, угостили, мы там даже переночевали. Потом попробовали Даниила прописать, но из этого ничего не получилось — слишком близко к Москве"[581].
Следующий маршрут — в Торжок. Там жили Кемницы, где Виктор Андреевич работал на авиационном заводе и куда из Караганды приехала к нему жена, а следом ее лагерная подруга Вера Литковская. В их двухкомнатной квартире удалось прописать и Андреева. В Торжке вообще оказалось немало вчерашних зеков.
У Кемницев он читал стихи. Читал друзьям, стихи его любившим, многое понимавшим, прошедшим той же дорогой. "Даниил читал там "Рух", — вспоминала жена поэта. — Слушали Верочка, Кемницы и кто-то из их торжковских друзей. Даниил вообще читал свои стихи хорошо, но в тот раз — поразительно хорошо.
Я его потом спросила:
— В чем было дело? Ты читал настолько хорошо, что надо запомнить почему, чтобы ты всегда так читал.
А он, смеясь, ответил:
— Понимаешь, я чувствовал, что один из слушателей сопротивляется изо всех сил, не хочет слушать, принимать, и у меня появилось чувство, что я должен его перебороть. Потому так и читал"[582].
Он не мог не читать стихи друзьям. Как и прежде, это не были большие сборища — три — четыре человека.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Тетрадь двенадцатая. 1957–1960. Возвращение
Тетрадь двенадцатая. 1957–1960. Возвращение Путешествие в прошлое Может быть, еще долго пришлось бы дожидаться очереди на самолет, но мне повезло: самолет, возвращающийся со станции «Северный полюс-7» приземлился на «Надежде». Он мог взять на борт четырех человек. Я была
Вкус «фактуры». ВГИК. 1957-1959
Вкус «фактуры». ВГИК. 1957-1959 …Там ребенок пел загорелый, Не хотел возвращаться домой… Арсений Тарковский. Ялик Брак Андрея и Ирмы был оформлен солнечным апрельским днем 1957 года в загсе Замоскворецкого района. После чего началась студенческая практика на Одесской
Глава семнадцатая. 1957—1959 годы
Глава семнадцатая. 1957—1959 годы 1957 год явился началом второго длительного перерыва в кинематографической карьере Мэрилин Монро. Оставив в 1954 году Голливуд после съемок «Зуда седьмого года», она вернулась туда только весной 1956 года для участия в картине «Автобусная
Часть двенадцатая
Часть двенадцатая Председатель Молодежного центра Саша Кострикин оказался милым интеллигентным человеком. Я предполагал, что надо будет платить за аренду зала. Но он очень быстро согласился на наше предложение, не поставив никаких условий. Это было удивительно и
Тетрадь двенадцатая. 1957–1960. Возвращение
Тетрадь двенадцатая. 1957–1960. Возвращение Путешествие в прошлое Может быть, еще долго пришлось бы дожидаться очереди на самолет, но мне повезло: самолет, возвращающийся со станции «Северный полюс-7» приземлился на «Надежде». Он мог взять на борт четырех человек. Я была
Часть двенадцатая
Часть двенадцатая Глава 1 В состав немецких войск, осаждавших Клетнянский лесной массив, входила и часть власовской армии. Бились власовцы не столько отчаянно, сколько шумно-скандально, с руганью. Все власовцы были в немецкой военной форме с нарукавной нашивкой «РОА»
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
Глава 33. РОЗА МИРА
Глава 33. РОЗА МИРА Весной 1997 года в Москве в Музее народов Востока проходила моя выставка. Среди посетителей появилась женщина, которая, увидев маленький пейзаж, рядом с которым висела табличка «Место на Кавказе, где зарыт экземпляр „Розы Мира“», подошла ко мне и
Часть одиннадцатая СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ 1954–1957
Часть одиннадцатая СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ 1954–1957 1. Ход вещей Надежды на ход вещей отчасти оправдывались. Постепенно улучшался режим: прогулки стали проходить в одно время, а раньше, рассказывал номерной узник Меньшагин, могли вызвать гулять и ночью. В 54–м сняли
12. Роза Мира
12. Роза Мира Из больницы его выписали 17 февраля. Подняться на второй этаж самостоятельно Андреев не мог, в комнату его внесли на руках, усадив на стул.Из больницы, по просьбе жены, он прислал планчик, обозначив на нем — где должен встать диван, где письменный стол, где
ГЛАВА 16 «Лолита» взрывается: Корнель и после, 1957–1959
ГЛАВА 16 «Лолита» взрывается: Корнель и после, 1957–1959 «Лолита» имеет невероятный успех — но это все должно было бы случиться тридцать лет тому назад. Набоков Елене Сикорской, 19581 I Набоков закончил «Евгения Онегина» в конце 1957 года, но вызванные им взрывы прогремели в