Соло на ундервуде. Сергей Довлатов (1941–1990)
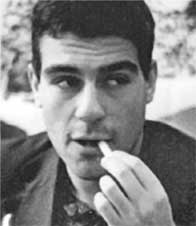
Все сложилось причудливо и драматично. Нужно было умереть Довлатову и пасть тоталитарному режиму в России, чтобы его произведения стали популярными. А книг о Довлатове выпущено больше, чем он написал сам.
Последними словами прижизненной книги Сергея Довлатова были: «Все интересуются, что будет после смерти? После смерти начинается – история».
В случае с Довлатовым – полное признание и канонизация. Из почти «никто» в современные классики. При жизни не признавали, и многие состоявшиеся писатели смотрели на него свысока, а после смерти все в восхищении: Довлатов! Это такое!.. А дальше фейерверк восклицаний и похвал. Ничего не остается, как присоединиться к общему хору.
Рождение и становление
Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 41-го, в первый военный год в Уфе. Потом семья перебралась в Ленинград. Родители – типичные интеллигенты: отец Донат Исаакович Мечик – режиссер, писатель, преподаватель, был знаком с Ахматовой и Зощенко, Пастернаком и Светловым, и многими другими замечательными людьми. Мать Нора Сергеевна Довлатова, актриса.
Сын Сергей – дитя смешения кровей: армянской и еврейской, что и выражал его обычный еврейско-армянский взгляд, как известно, этим народам есть о чем грустить и о чем печалиться. Повзрослев, Сергей сменил неудобную фамилию Мечик (Мечик-Мячик) на более благозвучную Довлатов и с каждым годом все более становился похожим на восточного человека. Одной женщине по телефону на вопрос, как она его узнает, Довлатов ответил: «Большой, черный, вы сразу испугаетесь. Похож на торговца урюком». Ответ исполнен юмором, который у Довлатова искрился с юных лет. Он любил юмор, остроты, розыгрыши и разные фантазии. «В Сережином детстве, – вспоминал отец, – многие восторгались его внешностью, сложением, ростом, выразительными движениями. Отмечали красивый голос, четкую речь. Иногда замечали, что он чувствует смешное, а порой может и сам рассмешить окружающих…» То есть можно сказать, что Довлатову юмор был присущ чуть ли не с пеленок.
Юмор юмором, а внутри у мальчика, а потом юноши шла невидимая скрытая работа. Он постигал мир. А в итоге Довлатов – типичный случай двойственности: внутри он – печальный, размышляющий, рефлектирующий, а внешне – веселый, легкий, искрящийся.
И еще одна важная черта. С детства Довлатовым был усвоен код благородного человеческого поведения. И когда этот код нарушался, а порой и самим Довлатовым, он сильно страдал. Он был на редкость порядочным человеком и, как все порядочные люди, мучился от своего несовершенства, от своих ошибок и заблуждений.
И важно мнение Иосифа Бродского: «Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо».
Жизнь Довлатова делится в основном на три периода и три города: Ленинград, Таллинн и Нью-Йорк, в промежутке – Пушкинские горы.
Ленинград – это юность. Беззаботное и мятежное время любви и поэзии. Друг Довлатова Дмитрий Дмитриев (ставший геофизиком) вспоминал: «Учились мы так себе, но двоечниками не были…» Ну, а в студенческие годы – «интересы у нас с Сергеем текли в одном направлении: у кого какие девочки на курсе учатся и когда будут танцы…» Ну, и, конечно: «Дешевое винишко, пили, курили, слушали музыку, ухаживали за девушками, старались быть умными, Сережа особенно…» Довлатов был одержим быть первым – таким вот обладал характером. Но если с девушками почти всегда выходило, то в поэзии первенствовать было сложно. Хотя Довлатов и выделялся тем, что мог лучше и быстрее всех сочинить экспромт за столом. При этом он отлично рисовал и часто сопровождал свои рисунки стихотворными подписями типа: «А вот это будет лев,/ он заснул, кого-то съев». Или: «Например, вот этот слон, / Он чудовищно силен, / На макушке у слона / Пририсована луна. / Ведь известно, что слоны / Ростом чуть не до луны».
Писал стихи Довлатов и в армии, оказавшись в самом неприглядном месте – в ВОХРе, в военизированной охране, да еще «на зоне», в ссыльном краю в Коми, в совсем неподходящем месте для поэзии:
Девушки солдат не любят,
Девушки с гражданскими танцуют,
А солдаты тоже люди,
И они от этого тоскуют.
У стены стоят отдельной группой
Молодые хмурые мужчины,
А потом идут пешком из клуба
Или едут в кузове машины.
И молчат, как под тяжелой ношей,
И молчат, как после пораженья,
А потом в казарме ночью
Очень грязно говорят про женщин.
Я не раз бывал на танцах в клубе,
Но меня не так легко обидеть.
Девушки солдат не любят,
Девушек солдаты ненавидят.
Вполне зрело и жестко, но тем не менее Довлатов не стал профессиональным поэтом. Так, стишки по случаю. Он хотел стать писателем. Его писательство выражалось даже в монологах обольщения, когда он вернулся из армии в Питер и продолжал любовную игру: «Девушка, вглядитесь в мои голубые глаза. Вы в них найдете вязкость петербургских болот и жемчужную ткань атлантической волны в час ее полуденного досуга. Надеюсь, вы не взыщете, если не найдете в них обывательского добродушия? Девушка, вы заметили, как темнеют мои глаза в момент откровенных признаний?»
Ну, и как устоять было девушкам? Или воспоминание Иосифа Бродского: «Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».
Девичьи крепости оказалось брать легче, чем редакционные кабинеты, – так было раньше, и смею вас уверить, так же трудно теперь.
Мытарь
В библейских сказаниях мытарь – сборщик податей в Иудее. Он собирает подати, а его проклинают за это. Поэтому мытарство обозначает страдание, муку. Применительно к Довлатову – он ходил по редакциям и хотел увидеть свои тексты напечатанными, и если не за деньги, то просто так. Мытарился вовсю.
Елена Клепикова, работавшая в начале 70-х в отделе прозы журнала «Аврора», в ноябре 1971 года записала в своем дневнике: «Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он – писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать». Ну, мытарь – чистой воды.
Довлатов ходил в «Аврору», как на работу, предлагал, просил, убеждал, но все напрасно: советский Гутенберг его полностью игнорировал и не хотел печатать ни строки. Клепикова вспоминает, как однажды он, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: «Течет революционная река «Нева», над ней горит пятиконечная «Звезда», стоит на приколе «Аврора». А на берегу возле Смольного пылает в экстазе патриотизма «Костер», зажженный внуками Ильича. Что-то в этом роде. Сережина версия была точней и смешней. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории, – никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один из толстой папки его рассказов не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен для первых авроровских залпов».
Бесперспективный автор. Даже друзья-поэты (потом об этом они сожалели) говорили: «А, Довлатов! Легковес!..» Естественно, Довлатов сильно киксовал. А тем временем Иосиф Бродский укатил в Америку, Битов, Рейн и Найман уехали в Москву, Довлатов по существу остался один из той элитной питерской компании и страдал от тотального непечатанья. Художественного непечатанья, а так работал в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института под названием «За кадры верфям».
Таллинн. Поиски удачи
Следующий этап жизни: эстонская столица. В повести «Ремесло» он написал об этой своей внезапной поездке на ближний Запад: «Почему направился именно в Таллинн? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности».
Тут следует сказать, что свою жизнь Довлатов описывал с редкой откровенностью, но при этом, правда, осталась загадка, насколько авторский персонаж Довлатова совпадает с реальным автором Довлатовым. Иногда они совпадают, как один к одному, а иногда весьма разнятся. Автор как бы посмеивается над своим вторым «я» и приписывает ему нечто чужое.
В Таллинне Довлатов всерьез взялся за претворение своей мечты: издать книгу. Он нашел издательство, подписал договор, увидел гранки, дождался второй корректуры, а дальше все застопорилось, более того, готовую книгу не издали. Местное КГБ заинтересовалось связями Довлатова с диссидентами, а это были не связи, а просто знакомство за бутылкой, но тем не менее бдительные органы наложили вето, табу, запрет на мечту Довлатова. И от отчаяния он впал в запой. Мечта была совсем рядом, ее можно было потрогать и на тебе: ускользнула. Исчезла. Испарилась. Ну, как тут не запить! Над пьяным Довлатовым весело потешался успешный Александр Кушнер, приехавший из Ленинграда в Таллинн за своей новой книгой. Короче, кому книга, а кому – фига!..
И тогда пришла Довлатову идея попытать счастье в Америке, но перед Штатами были еще мельком Пушкинские горы, где его по знакомству устроили работать экскурсоводом. Знания у него водились, но юмористическое начало превалировало. Об одном из «приколов» рассказал навестивший Довлатова Евгений Рейн:
«Перед домиком Арины Родионовны он остановился, экскурсанты окружили его. «Пушкин очень любил свою няню, – начал Довлатов. – Она рассказывала ему сказки и пела песни, а он сочинял для нее стихи. Среди них есть всем известные, ну, например, это… «Ты жива еще, моя старушка?» И Сергей с выражением прочитал до конца стихотворение Есенина. Я с ужасом смотрел на него. Он незаметно подмигнул мне. Экскурсанты безмолвствовали. Это был довлатовский театр, одна из мизансцен замечательного иронического спектакля».
В Пушгорах Довлатов жил в избе, через дырку в которой к нему приходили собаки. Достойное сочетание: бездомные собаки и непризнанный писатель. Ну, и гуляния в ресторане «Витязь», что Довлатов весело описал в своем «Заповеднике». Решение укатить в Америку сопровождалось безумным пьянством, и, как вспоминал Андрей Арьев, выпивали еще в аэропорту перед посадкой.
Об обстоятельствах отъезда Довлатов написал в рассказе «Ремесло»: «В конце 79-го года мы дружно эмигрировали. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают».
Кто в те годы из интеллигентов не бредил Америкой? Вот и Довлатов поехал туда с большими надеждами.
Жизнь в Нью-Йорке
По словам Елены Клепиковой, первый год в Нью-Йорке Довлатов производил впечатление оглушенного. О литературе не помышял. Не знал, с какого бока к ней здесь подступиться. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене. Убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что это у него от Бога и хватит на всю жизнь. Чуть позже Довлатов загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара – в пунцовом мундире с галунами, в роскошном отеле. Говорил, что исключительно приспособлен – ростом, статью и мордой – для этой должности. Но постепенно, отбросив глупые иллюзии, вернулся к своему истинному призванию писателя. Проявил бурную предприимчивость и подбил многих русских журналистов на различные издания – от «Нового американца» до «Русского плейбоя». И этой своей деятельностью сильно расцветил, как кто-то выразился, «тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка». Вслед за журналистикой Довлатов занялся и литературой, а порой совмещал то и другое.
В 1978 году Довлатов эмигрировал из СССР, а через год примерно – 22 ноября 1979 года, – писал в письме бывшей жене Тамаре Зибуновой: «Мы – бедные, довольно знаменитые, грустные и, в общем, достаточно старые. Мечтаем о настоящем читателе, о российской аудитории, об атмосфере родного языка и теплых человеческих отношений. Американцы – замечательные люди, но раскрываются они только, когда беседуют с психоаналитиком, деньги одалживать не принято (этим занимается банк), звонить среди ночи не принято, жрать в гостях не принято, все занимаются собой. Это вообще-то прекрасно, но мы не привыкли. О еврейской эмиграции не хочу и говорить, тут нужны Ильф с Петровым».
И далее в письме признание, полное горечи: «Америка – прекрасная страна, но мы слишком поздно сюда приехали, мы не привыкли к реальной законности, не привыкли к денежно-сориентированным отношениям, не привыкли к суверенности, ко многому такому, что нам кажется равнодушием. Конечно, если считать, что я уехал ради литературы, ради того, чтобы печататься, то этого я достиг, но, к сожалению, это не все, далеко не все…»
И той же Тамаре Зибуновой, спустя почти 10 лет, 6 января 1989 года: «Давно уже не существует начинающего автора, обивающего пороги редакций и издательств. Я написал двенадцать книг, четыре из них переведены на несколько языков, еще на три книги у меня есть контракты в разных странах, и так далее. Конечно, я не стал Шекспиром или Бродским, но я давно уже профессиональный литератор, бедный, как большинство серьезных писателей на Западе, но вполне уважаемый, и объем написанного обо мне уже раза в три превосходит все, что написал я сам».
Правозащитник и публицист Вадим Белоцерковский отмечал: «Если бы Довлатов мог остаться в России, если бы он там начал свой литературный путь и прошел бы по нему значительное расстояние, он мог бы выйти на крупные темы, сюжеты и образы, но начинать карьеру писателя в чужой стране – дело почти безнадежное. То, чего достиг Довлатов в Америке, – это, наверное, максимум возможного, и достичь этого можно было только с его талантом».
А вот одно из писем Довлатова Белоцерковскому, и его можно считать подводящим итоги (вот уж истинные слова Андрея Вознесенского: «Но итоги всегда печальны, даже если они хороши»). Дата письма: 15 февраля 1986 года (за 4,5 года до смерти):
«Дорогой Вадим! Ничего не заставит меня вылезти из убежища глубокого пессимизма, тем более что жизнь этим настроениям способствует. Все мои западные книжки экономически провалились, новых контрактов не будет, переводчица снова родила и возится с младенцем, родители болеют. Я уже года два ощущаю, что со мной происходит что-то важное. И наконец понял, что именно. Когда меня лет двенадцать не печатали, я бессознательно мог верить в свою неординарность и бессознательно же рассчитывать – вот напечатают, и все изменится. Сейчас все – напечатано, высшей гениальности во мне не обнаружилось, никого и ни в чем убедить мне не удалось, газета, в которую я вложил лучшую часть души и остатки идеализма, провалилась, друзья (Вайль и Генис, к примеру) – надули, бросить журналистскую халтуру на радио я не могу и так далее. К счастью, родился сынок плюс улучшаются, как ни странно, год от года отношения с женой. Вот куда-то сюда и передвинулся источник радости. Но я все еще не готов сместить эпицентр моих посягательств, перенести его с литературы на семью, природу, машину и даже на свободу. Короче, я продолжаю внутренне жить как недооцененный и замалчиваемый крупный литератор, будучи в действительности – сдержанно оцененным и не слишком крупным».
Налицо пессимизм, уныние и надорванность сил. А ведь начало было иным: «Мы заняли две комнаты на углу Бродвея и Четырнадцатой. Строго напротив публичного дома «Веселые устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция», – писал Довлатов в рассказе «Ремесло».
Довлатов успешно выступал в печатных изданиях и на радиостанции «Свобода», где подрабатывал внештатным «скриптрайтером» (создателем маленьких очерков). И компания там подобралась что надо: Петр Вайль, Виктор Некрасов и Александр Генис. Писем радиослушателей Довлатов получал больше всех. Но при этом жаловался, что все письма кончаются одинаково – просьбой прислать джинсы.
Колонки, которые Довлатов печатал в «Новом американце», читались с жгучим интересом. Иногда он пылал гневом: «Мир полон зла. И это зло – внутри нас. А значит, человек должен победить себя. Преодолеть в себе – раба и циника, невежду и труса, карьериста и ханжу! Навсегда убить в себе – корыстолюбие, чванство и продажность! Уничтожить в себе ядовитые ростки коммунистического лишайника: нетерпимость к чужому мнению. Фанатизм и жестокость. Беззаветную преданность к собственным интересам. Баранье равнодушие. Жалкий страх перед ересью и новизной…»
И концовка: «Свершится ли все это? И на чьем веку? Я хотел бы посетить этот мир через тысячу лет».
Часто Довлатов спускался с высот и говорил на темы обыденные, приземленные. К примеру, рассказывал, какой он футбольный болельщик: «Я всегда болел неправильно. С детства мне очень нравилась команда «Зенит». Не потому, что это была ленинградская команда. А потому, что в ней играл футболист Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол».
И в той же колонке (июль 1981) Довлатов резко встал на сторону шахматиста Виктора Корчного против Анатолия Карпова: «Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод. За то, что он прекрасный шахматист. За то, что у него все хорошо. За то, что его окружают десятки советников и гувернеров. Вот почему я болею за Корчного. Не потому, что живет на Западе. Не потому, что он играет лучше. И, разумеется, не потому, что он – еврей. Я болею за Корчного потому, что он в разлуке с женой и сыном. Потому что ему за сорок (или даже, кажется, за пятьдесят). И еще потому, что он не решился стукнуть Карпова шахматной доской. Полагаю, он этого желал не менее, чем я. А я желаю этого – безмерно».
И признание Довлатова: «Конечно, я плохой болельщик». Возможно, но журналистом он был блистательным.
В Нью-Йорке у Довлатова был успех и была тоска.
«Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа, – признавался Довлатов. – Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно. Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь. И денег авторам не платят. Да еще – преступность. Да еще – инфляция. Да еще эти нескончаемые биллы, инвойсы, счета, платежи…
А потом все стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей. Есть в ней смешное и грустное, хорошее и плохое. И продавцы (что совершенно естественно) бывают разные. И преступники есть, как везде. И на одного, допустим, Бродского приходится сорок графоманов. Что совершенно естественно… И главные катаклизмы, естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везет. И счастья по-прежнему не купишь за деньги».
В одном из интервью Сергей Довлатов еще раз определил свое отношение к Америке: «Нью-Йорк – это филиал земного шара, где нет доминирующей национальной группы и нет ощущения такой группы. Мне так надоело быть непонятно кем – я брюнет, всю жизнь носил бороду и усы, так что не русский, но и не еврей, и не армянин… И в Америке в этом смысле я чувствую себя хорошо».
Подверстаем свидетельство и Петра Вайля о Довлатове: «Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни – хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор: язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу…»
Женщины Довлатова
Дочь Катя: «Америку отец любил до того, как в ней оказался. И любил ее, живя там, со всеми ее недостатками…»
И самое время теперь сказать, что у Довлатова были три жены и трое детей. Первая жена – Ася Пекуровская. Они познакомились в Ленинградском университете. Вместе были недолго. В 1973 году Пекуровская эмигрировала в Америку и там выпустила книгу «Когда случилось петь С. Д. и мне». В конце их брака весной 1972 года Довлатов познакомился с другой женщиной – Тамарой Зибуновой. Новый роман, новая любовь, в результате которой родилась дочь Саша. Отношения внутри новой семьи складывались тяжело, все осложнялось невостребованностью Довлатова и его пристрастием к алкоголю. Зибунова долго терпела все довлатовские «закидоны»: «Он меня просто гипнотизировал. Он был очень обаятельным человеком, и, когда он был рядом, я просто не могла сопротивляться». После каждого запоя приходил домой с подарками, чтобы загладить свою вину. «После очередного эксцесса, – вспоминает Зибунова, – открываю дверь: там стоит торшер… сердиться на него было невозможно».
В одном из писем Тамаре Довлатов писал: «…я, конечно, плохой отец, как и плохой сын, плохой муж и плохой вообще, но помогать ей (Саше. – Ю. Б.) я обязан». Следует привести мнение и другой стороны. В одном из интервью Зибунова сказала: «Все Сашино детство я заботилась о том, чтобы у нее были только хорошие воспоминания об отце. Поэтому в нашей семье он существовал в таком отредактированном виде. В этом смысле Саша очень счастливая, потому что если Катя и Коля (дети от Елены Довлатовой) видели его разным, то для нее он овеян романтическим ореолом».
Когда в жизни Довлатова появилась еще одна женщина, Елена, он стал разрываться между женой и новой любимой, что привело к неизбежному краху: «Меня не устраивало положение одной из двух жен. Сережа метался между Леной и мной», – так воспринимала эту ситуацию Тамара. И, естественно, произошел разрыв. Елена стала третьей женой Довлатова, родила ему двоих детей и вместе с ним отправилась в Америку. Свою жену Довлатов многократно упоминал в своих миниатюрах, например, так: «Моя жена Лена – крупный специалист по унынию» («Соло на ундервуде»).
Вдаваться в тонкости отношений между Довлатовым и его женщинами не входит в мою задачу, поэтому лучше о другом: об алкоголизме. Довлатов, как и многие российские сочинители, прибегал часто к крепким напиткам. Его любимой цитатой была фраза из Хемингуэя: «Стоит только немного выпить, и все становится почти как прежде».
Почему пил? Вопрос иррациональный, без ответа, потому что причин очень много. Роберт Бернс когда-то давным-давно перечислял множество причин и добавлял последнее: «И просто пьянство без причин». Если коротко, то одна из главных – эмиграция. Вот характерные строки из письма к Тамаре Зибуновой:
«Эмиграция – величайшее несчастье моей жизни, и в то же время – единственный реальный выход, единственная возможность заниматься выбранным делом. При этом я до сих пор вижу во сне Щербаков переулок в Ленинграде или подвальный магазин на улице Рабчинского. От крайних форм депрессии меня предохраняет уверенность в том, что рано или поздно я вернусь домой либо в качестве живого человека, либо в качестве живого писателя. Без этой уверенности я бы просто сошел с ума».
Из письма Андрею Арьеву: «Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя, я к этому статусу уже привык и не хотел бы от него отказаться даже на время».
Да, статус был, популярность имелась, но при этом Довлатов страдал от ощущения, что все это пришло к нему слишком поздно. И к тому же в последние годы он испытывал затяжной творческий кризис. Ему не писалось так, как он хотел.
Обрыв жизни
Юнна Мориц написала стихи про то, как повстречала Довлатова в Нью-Йорке: «огромный Сережа в панаме/ идет сквозь тропический зной»:
И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется
Лишь в пятницу, в августе, днем.
А нынче суббота июля,
Он молод, красив, знаменит.
Нью-Йорк, как большая кастрюля,
Под крышкой панамы звенит.
«Бродский любил повторять:
– Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается?» (из альбома Довлатова «Там жили поэты…»)
Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке 24 августа 1990 года от сердечного приступа. Здоровье уже барахлило, как мотор в старом автомобиле, а сам он о нем не беспокоился. Он не дожил всего лишь 10 дней до своего 49-летия. Отечественные журналы «Звезда», «Октябрь» и «Радуга» (Таллинн) начали печатать прозу Довлатову, и его слава уже горделиво пошла по российской земле. Но полного ее сияния Сергей Донатович не увидел.
Книги, тексты, записи
Первые книги конца 60-х: «Иная жизнь» и «Ослик должен быть худым», написанные в жанре «философской ахинеи», как их определил сам Довлатов. Из того же раннего периода – роман «Один на ринге». В начале 80-х созданы «Компромисс», «Зона» и «Наши». В 1986 году был издан сборник «Чемодан», затем «Заповедник», «Иностранка» и «Филиал», эти последние книги написаны, по определению Довлатова, «розановским пунктиром», т. е. фрагментарно, отрывочно, остро. Из поздних рассказов выделим «Ариэль», «Игрушка», «Мы и гинеколог Буданицкий».
Не будем блуждать в литературоведческих джунглях, лишь отметим, что композиционно все книги Довлатова делятся даже не на главы, а на абзацы, на микроновеллы. Как и в чеховских пьесах, важны не только слова, но и паузы между ними. Кстати, Довлатов в какой-то мере является наследником Чехова и Михаила Зощенко, а еще в его творчестве можно найти отголоски прозы американских прозаиков Шервуда Андерсона, Хемингуэя и Фолкнера, ну, и, конечно, Сэлинджера: Довлатов тоже любил стоять над пропастью…
С детских лет бывавший в театральных кулисах (благодаря отцу), Довлатов в своих произведениях тяготел к так называемому «театрализованному реализму». Он обожал театральные эффекты, не отсюда ли его любимый перефраз: «Лишний человек – это звучит гордо!»
Все писатели, как правило, мечтают о «серьезной литературе», им хочется решать высокие задачи бытия, заниматься учительством, просветительством или даже пророчеством. Все это вызывало у Довлатова отторжение. Ничего подобного нет в его произведениях. И вообще, он любил не сильных людей, не героев, а слабых людей, лишних, аутсайдеров, лузеров, у которых неустроенность бытия, туманность будущего, неопределенность замыслов и планов, неясность и сбивчивость чувств. Но все они выписаны ярко и осязаемо.
По мнению Льва Лосева, тоже американского эмигранта: «Люди, их слова и поступки в рассказах Довлатова становились «larger than life», живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела еще не так плохи».
Еще одна особенность творчества Довлатова: в свои сочинения он вставлял знакомых ему людей под реальными фамилиями, но описывал их весьма своевольно и часто в обидной форме, то есть выводил конкретных людей под субъективными одеждами. Иногда добродушно, иногда язвительно высмеивая их, что, естественно, не могло нравиться. В одном из писем Довлатов жаловался: «…я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба…»
Довлатов фантазировал с образами и поступками своих знакомых, как некогда это делал Георгий Иванов в «Петербургских зимах», чем вызывал много недовольства и критики. Вот как, к примеру, Довлатов обошелся с Солженицыным, когда тот жил в Америке, мол, сидит в бункере и, растрепав бородищу, поучает всех и метит в Толстые. Конечно, это нелицеприятно. Но таков подход Довлатова к своим героям, таков его стиль: у него реальная жизнь сплавлена с абсурдом. И это читается легко, потому что отмерено почти в аптекарских дозах в очень коротких текстах. Он – минималист. Никаких долгих размышлений, никаких длинных описаний, все коротко и ярко, как вспышка.
В статье о Довлатове Иосиф Бродский отмечал: «Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны, как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование…»
А вот мнение Довлатова о самом себе, конечно, с изрядной долей иронии, но тем не менее: «Я был и гением, и страшным халтурщиком». Он называл себя просто «строкогоном» и «трубадуром отточенной банальности». И всегда был за простоту и ясность своих писаний, боролся с литературным модернизмом и авангардизмом.
В одном из писем обронил: «Я хотел бы написать что-то такое, от чего бы сам пришел в восторг».
Восторга не было. «Один редактор говорил мне: – У тебя все действующие лица – подлецы… – Где же тут подлецы? – спрашивал я. – Кто, например, подлец? – Редактор глядел на меня как на человека в нехорошей компании и пытающегося выгородить своих дружков…» («Компромисс»).
Кажется, разговор затянулся. «Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово…» («Заповедник»).
А раз слово, то заглянем немного в записные книжки Сергея Довлатова:
«Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее – симулировать».
«У Бога добавки не просят».
«Юмор – улыбка разума».
«С утра выпил – весь день свободен».
«Эпоха возраженья».
Начав цитировать довлатовские строки, трудно от них оторваться. Ну, например, такой пассаж: то ли подслушанный, то ли придуманный:
«Заговорили мы в одной эмигрантской компании про наших детей. Кто-то сказал:
– Наши дети становятся американцами. Они не читают по-русски. Это ужасно. Они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?
И все закричали:
– Как они смогут жить без Достоевского?
На что художник Бахчанян заметил:
– Пушкин жил, и ничего».
«Каким он парнем был…»
Строка из песни, правда, не о Довлатове. О нем песен нет, но есть уже тома воспоминаний. Целое направление: довлатоведение. Все хотят расшифровать его посмертный успех. Творчества мы слегка коснулись, еще приведем несколько свидетельств и, прежде всего, самого Довлатова. В 23 года он писал отцу: «Дорогой Донат! (так он обращался к отцу, не как к родителю, а как к старому другу. – Ю. Б.). За десять лет сознательной жизни я понял, что устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Или, выражаясь языком поэтическим:
Земля стоит на трех китах:
Продажность, себялюбие и страх.
Человек, как моральный представитель фауны, труслив и эгоистичен…» (12 октября 1964).
Довольно зрелая оценка окружающего мира. Некоторые отмечают, что у великана Довлатова была душа ребенка. Нет, это был умудренный жизненным опытом человек. Просто от тягот бытия он спасался шутовством и юмором, которые некоторые знакомые принимали за его суть, мол, несерьезный человек.
Вспоминая Довлатова, Петр Вайль писал: «Кем бы хотел стать – об этом несколько раз говорил сам: джазовым музыкантом, который выходит на авансцену, поднимает трубу или саксофон, и зал обмирает. Это, конечно, мечта о немедленном воздействии, чего лишено ремесло литератора: издательский цикл, типографский процесс, читатель за тридевять земель. В качестве устного рассказчика Довлатов такого музыкального эффекта достигал».
И еще Вайль: «Образование Довлатов получил нерегулярное, так как обнаруживались ощутимые провалы, почти полное незнание изобразительных искусств, серьезные лакуны в литературе – античность, зарубежная классика, даже такая, как Шекспир. Но уж что знал, то знал превосходно: русскую и американскую словесность. Вообще литература исчерпывала почти весь его кругозор. Помимо этого – джаз. Еще кино – прежде всего американское».
Ну, и что? Действительно, Довлатов, прожив 12 лет в Нью-Йорке, не был ни разу в музее «Метрополитэн». Он избегал ненужных ему знаний. Короче, он не был эрудитом, но он был Довлатовым, который нес в себе, по мнению Беллы Ахмадулиной (ну, а она всегда была знатоком тайных пружин), лучезарность и тайную трагедийность.
Подведем итог. Так кто такой все-таки Довлатов? Талантливый миниатюарист и ювелир слова, он виртуоз, если воспользоваться определением Осипа Мандельштама, «молекулярного искусства».
Разговор из трех фраз:
– Какой у него телефон?
– Не помню.
– Ну, хотя бы приблизительно?
На этом и завершим наш рассказ, где мы пытались хотя бы «приблизительно» поведать о Сергее Довлатове.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК