3. Брат-Настоятель Илья Груздев (1892–1960)
3. Брат-Настоятель Илья Груздев (1892–1960)
Критик и литературовед Илья Александрович Груздев родился, прожил всю жизнь и умер в Петербурге-Ленинграде.
О детских годах Груздева рассказывал Шварц: «Вырос Груздев в тяжелых условиях. Не помню уже, отец или мачеха притесняли его, и притесняли сверх всякой меры. Страшно. Он этим объяснял болезнь свою, повышенное кровяное давление, сказавшееся у него еще в молодости, и многие стороны своего характера»[180].
В 1911 году Илья Груздев окончил Петровское коммерческое училище и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Но через три года учебу пришлось прервать — началась Первая мировая война и Груздев сразу же, в составе студенческого санитарного отряда, ушел на фронт. Он был участником брусиловского прорыва и награжден двумя Георгиевскими крестами. В декабре 1917 года вернулся в Питер и благополучно закончил университет. Так, в процессе учебы, вписался в новый режим и в 1918 году начал работать в Театральном отделе Наркомпроса и сотрудничать в питерских изданиях. А его первые рецензии и фельетоны появились в периодике еще в 1914 году.
В 1919–1921 годах Илья Груздев посещал Студию Дома Искусств, учился у Е. Замятина, К. Чуковского и В. Шкловского. Груздев — из первого комплекта Серапионов, собравшихся 1 февраля 1921 года у Михаила Слонимского в Доме Искусств, когда слово «Серапионы» еще и не было сказано. «Неестественно румяный, крупный, сырой, беловолосый, белоглазый, чуть заикающийся. Молчаливо улыбаясь, он охотно поглядывал на женщин черных, суховатых, крайне энергических, восполняющих, как я думал, нечто, отсутствующее в его рыхлом существе», — так, не без яда, изобразил молодого Груздева Евгений Шварц[181], впрочем, признающий: «Мы были некоторое время в ссоре — выяснилось, что поддразниванье мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжко, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа»[182]. Участниками серапионовских собраний спокойная доброжелательность, образованность и критическая строгость Груздева были оценены по достоинству (это сказалось в «Оде» Полонской на первую годовщину Серапионов: «Вот Груздев — критик и зоил — / Одной литературой дышит. / Он тайну мудрости открыл / Печатной, хоть он и не пишет»[183]). Что же касается младенчески-розового румянца, то Серапионы охотно обыгрывали его в своих шутках, стихотворных одах и скетчах. (Это продолжалось и потом, когда группа практически распалась; Р. Гуль вспоминает, что в Берлине в 1928 году Груздев «был мишенью постоянных острот и иронии Федина и Никитина»[184]).
Характерно, что и Корней Чуковский, неизменно внимательный к своим ученикам, похожим образом вспоминает молодого Груздева (запись в дневнике 26 мая 1922 года): «Вчера, в воскресенье, были у меня вполне прелестные люди: „Серапионы“. Сначала Лунц… Потом пришли два Миши: Миша Зощенко и Миша Слонимский… Потом пришел Илья Груздев — очень краснеющий, критик. Он тоже бывш<ий> мой студист, молодой студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, которые он писал в студии, были посредственны. Теперь все его участие в Серап<ионовом> Братстве заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи» (Портрет Груздева не меняется и в записях К. И. следующих лет — 22 июня 1924 года: «Сегодня понедельник, приемный день. Много народу… Неподалеку на столе самоуверенный Шкловский, застенчивый и розовый Груздев…»; 6 августа 1924 года: «был впечатлительный, розовый, обидчивый серапионов брат, критик Груздев, он принес две рецензии, обещал третью»[185]).
Современники часто бывают несправедливы и почти всегда пристрастны. Шварц, скажем, говоря о Груздеве, вторит Чуковскому: «В серапионовских кругах он считался критиком средним». Шкловский, уважая профессию, называл Груздева «теоретиком» и считал учеником Эйхенбаума и Тынянова[186]. А вот суждение современного исследователя и человека, кажется, достаточно жесткого. Мариэтта Чудакова называет Илью Александровича за те самые его ранние статьи «одним из самых внимательных критиков прозы Серапионов» и приводит его суждения о первых вещах Зощенко, поражающие тонкостью и точностью — а высказаны они были о писателе, который еще ничего не напечатал, которого никто не знал[187].
Груздев был проницателен, качество — важнейшее для критика.
Осенью 1923 года И. Груздев отправился в Бахмут, где вместе с М. Слонимским и Е. Шварцем работал в газете «Всероссийская кочегарка» и в журнале «Забой». Его статьи для газеты, нужно признать, редактор неизменно отвергал за не подходящий газете академический тон; зато, вернувшись в Питер, Груздев развернулся. Вениамин Каверин, профессиональный филолог, в письмах к профессиональному филологу Льву Лунцу в 1923 году дважды высказывался о статьях Груздева, привлекших его своей остротой, — 9 октября: «Илья написал прекрасную статью, вдруг выпустил когти из толстой ж… и обругал целую кучу писателей. Называется „Утилитарность и самоцель“[188]. Очень остро и умно написано»[189]; 14 декабря: «Илья разошелся — пишет, и хорошо пишет. В его статьях появилось настоящее фельетонное искусство. Знаешь, такой фельетон, не слишком быстрый на ноги, но все же живой и, главное, умный»[190].
Тут следует сказать, что Шварц, в общем-то недолюбливая Груздева, его таланта не отрицал, но в другом его видел: «Однажды я зашел в Госиздат, где он тогда работал, и Груздев рассказал о Самозванце, заикаясь чуть, но вдохновенно и так ясно, что целая эпоха осветилась мне»[191]. В статье Груздева, которую расхваливал Каверин, это свойство таланта Ильи Александровича было представлено: достаточно заглянуть в главку «Затруднения Диогена» — неожиданное, живо написанное историческое введение оказалось очень полезным для теоретической статьи. В 1923 году столь ироничный пассаж в адрес ленинской «теории отражения» еще был цензурно проходим; через два года об этом уже не мечтали. В связи с закрытием замечательного питерского журнала «Русский современник»[192] Груздев 25 декабря 1925 года писал Горькому: «В возобновление „Русского современника“ я всерьез не верил. Это было единственное место, где можно было сказать о литературе то, что считаешь нужным сказать. И потому бесконечно жаль, что его уже нет. Противно смотреть, как мухи-критики мешают хорошим писателям работать. Это было всегда, но никогда не было такого положения, чтобы мушиное мнение было окончательным»[193].
В начале 1925 года в литературной жизни Груздева произошло событие, которое изменило её стратегически. Михаил Слонимский, одно время служивший литературным секретарем Горького и собиравший материалы о нем, все это собранное отдал Груздеву. Условие было одно: довести работу до конца. Условие было принято. Исполнению его (поначалу неожиданно для друзей) оказалась по священной вся жизнь Груздева, и в историю русской литературы И. А. вошел, прежде всего, как биограф, исследователь, комментатор Горького.
28 апреля 1925 года Слонимский сообщил Горькому: «Серапионовский критик Груздев пишет о Вас большую работу для Госиздата. Я ему передал все имеющиеся у меня материалы…, я оказался явно неспособным к серьезной ист<орико->лит<ературной> работе… Груздев напишет все же толковее и лучше, чем кто-нибудь из нынешних борзописцев!»[194]. Первая груздевская книжица о Горьком[195] появилась в том же, 1925 году. 12 августа 1925 года Груздев писал её герою: «Это не что иное, как работа Слонимского, переделанная мною в популярную книжку с соответственными добавлениями. Признаюсь, меня немало смущало мое на 3/4 фиктивное авторство, но жалко было не использовать материал, а на другие комбинации Слонимский не соглашался». Горький ответил довольно кисло: «…читая о себе, я уже плохо соображаю: что верно и что не верно? Не редко испытываешь такое впечатление от воспоминаний о Пешкове, как будто оный Пешков — шестипалый человек и „вспоминают“ не о нем в целом его виде, а лишь о шестом его пальце. Вас это, конечно, не касается…»
В следующем, 1926 году, вышла книга Груздева для детей «Жизнь и приключения Максима Горького» (к 1947 году она выдержала 13 изданий по-русски и переводилась на массу других языков). Как рассказывает сам Груздев, такую книгу для детей ему еще в 1924 году настойчиво предлагал написать Маршак[196]. Все лето 1925 года Груздев писал её весело и увлеченно, но, когда ему прислали из редакции журнала «Новый Робинзон» верстку, он вдруг испугался: а как посмотрит на его художества Горький? — и он отправил Алексею Максимовичу дипломатичное письмо: «Весной прошлого года я по заказу детского отдела Ленгиза сделал переработку Ваших автобиографических рассказов для детей. Вы спросите, почему сам я не запросил Вашего согласия? Черт его знает, я сам теперь с трудом разбираюсь в этом. Поддался уверениям, что все будет хорошо, нужно, сам увлекся мыслью приблизить Ваши сочинения к детям, словом совершил непростительную ошибку: заключил договор и дал рукопись. Если Вы в корне не согласны с такого рода изданием, прошу Вас известить меня, если можно телеграфом». Дипломатия сработала, разрешающая телеграмма Горького пришла, а следом письмо (не без фрондерства): «Книжка эта — нечто, похожее на канонизацию героя при жизни… Во святые я не пригоден, к тому же одержим стремлением ко всяческим грехам и склонен ко многим ересям супротив главенствующей и воинствующей церкви. Но если уж сделано, так уж сделано — и печатайте на здоровье Ваше». А в 1928 году Горький извещал Груздева: «Ребятишки, мои корреспонденты, очень хвалят Ваши „Приключения Горького“».
Отныне Груздев регулярно встречался с Горьким и постоянно переписывался, они подружились. Когда немецкое издательство «Малик-ферлаг» предложило Горькому издать о нем книгу, рекомендован был именно Груздев.
Работа Груздева состояла теперь из двух частей — редакционно-издательская деятельность и биография Горького; талантливый критик, запечатлевший становление Серапионов, — кончился. Иннокентий Басалаев, внимательно наблюдавший Груздева в Ленгизе, записал в 1926 году: «Он вежливо принимает посетителей — писателей, поэтов, критиков — и отпускает — кому обещанья, кому улыбку, а то и просто молчаливый кивок или один взгляд небеснодушных глаз. Присутствуя на издательских собраниях, он выступает редко. Частое молчание наложило особый отпечаток на его лицо и сделало его маскообразным. Никто не видел, как он сердится или смеется. Никто не знает, о чем он думает. Известно только, что между делом он собирает биографию Горького… Иногда он раскрывает толстую тетрадь, пишет заголовок критической статьи, задумывается; потом листает двадцать чистых страниц, пишет другой заголовок, опять задумывается… А писать некогда»[197].
Мы плохо представляем себе жизнь на бытовом уровне рядового беспартийного литератора тех лет. 28 апреля 1926 года Груздев рассказывал в письме Горькому: «Не отвечал Вам очень долго потому, что занят был кучей самых невероятнейших дел, вплоть до защиты от выселения из квартиры. Присудили с меня 400 рублей за то, что я нештатный работник Ленгиза, и т. о. не был чистой воды трудящимся… Всякий немудренный гражданин, придя после службы домой, может пообедать и спокойно храпеть до 10 часов следующего утра. Если же научный работник или литератор, придя со службы, сядет за письменный стол и просидит за ним вечер и ночь, то это называется „совмещение службы со свободной профессией“ — квартплата увеличивается в 3 раза, а по пятам следуют подоходный и прогрессивный налоги…».
Что же касается крох интеллектуальной свободы в СССР, то все менялось очень быстро. Уезжая в 1928 году из Берлина, Груздев обещал Р. Гулю проинформировать его о переменах в России открыткой: если слухи об усилении репрессий и острой нехватке продовольствия верны, он напишет «И дым отечества нам сладок и приятен». В открытке Груздева было сказано: «И дым отечества нам оченно приятен»[198]… О существовании Серапионов в быстро меняющемся литературном мире СССР Груздев писал Горькому почти открытым текстом. Вот два фрагмента — 27 феврали 1926: «За то, что серапионы так чутки ко всякой фальши, ко всякой лавреневщине[199] и лидинщине[200], я их бесконечно люблю». Февраль 1929: «Первого февраля Серапионы праздновали восьмую годовщину. Было очень весело внешне и довольно невесело по существу. Есть что-то застывше-солидное в их литературных репутациях. Ярым врагом этого был покойный Лунц. Не знаю, как Вам, а мне отменно гладкий роман Федина „Братья“ кажется очень скучным. Замятин прочел на празднестве каждому Серапиону эпитафию, было в них много злого…». На той годовщине Каверин произнес в шутливо-обвинительной речи, обращаясь к Груздеву: «Тебя, отец настоятель, обвиняю в том, что ты не устранил своевременно причин, повлекших за собой гибель Ордена, не мирил ссорившихся, не обуздывал горделивых, не наказывал преступивших устав»[201]. Функция мирового судьи была Груздеву не по характеру. В нем, добавим свидетельство еще одного мемуариста, «не было никакой „литераторской“ позы, никакой фальши. Он был душевно чистый человек. Искренен, прост, с некоторым юмором»[202]. И Серапионов он искренне любил.
Груздев продолжал работу; её интенсивность и многообразие поражают — он редактировал сочинения Горького, готовил к печати книги о нем, писал о Горьком сценарии и пьесы (пьеса «Алеша Пешков» написана им в соавторстве с Ольгой Форш).
Груздев нашел свою, относительно безопасную литературную нишу, и просуществовал в ней всю жизнь. Это требовало от него известной осторожности — ведь по необходимости приходилось иметь дело с опасным гепеушным окружением «великого пролетарского писателя» и постоянно ощущать на себе пристальный взгляд власти. Горького убили[203] и канонизировали, и его биография советского периода могла быть лишь кастрированной — может быть, поэтому Груздев с большей охотой писал о раннем Горьком?
Горьковская ниша спасла самого Груздева, но не его природный дар. Очень поздно нашедший себя и потому пристально внимательный к товарищам Евгений Шварц писал о Груздеве 1920-х годов: «Уже тогда начинал он писать о Горьком осторожным языком человека застенчивого и самолюбивого. Он был историк и в этой области чувствовал себя, очевидно, свободней, чем в той, в которой работал. И не только свободней — он говорил, как художник». Горьковская тема, в каком-то смысле, подсушила Груздева. Конечно, он пытался не замыкаться на пролетарском классике. Илья Александрович много работал в питерских издательствах; вместе с Фединым и Слонимским, он делал попытки протащить через цензуру достойные книги. По заданию Горького Груздев организовал первую редакцию «Библиотеки поэта», куда вошел наряду с Пастернаком, Тихоновым, Тыняновым[204].
Все страшные годы блокады больной Груздев оставался в Ленинграде. Кропал статьи (Лениздат выпустил их отдельной книжкой в 1944 году), в соавторстве сочинил пьесу «Вороний камень». Федин писал 18 марта 1942 года из Чистополя своему Брату во Серапионе: «С большой болью и тоскою, а вместе с тем — с необъяснимым чувством восхищения думаю я о ленинградцах и особенно — о нескольких друзьях, среди которых ты на первом месте! Как ты себя чувствуешь, как здоровье? невредим ли ты?.. Если Тихонов вернулся домой — обними этого старого волка и скажи ему, что славу Дениса Давыдова он себе создал и что увековечить эту славу мы возьмем на себя… Живете ли вы все на Екатерининском канале[205] или рассеялись по городу?… Не спрашиваю тебя, можешь ли ты работать. Кто сейчас может работать у вас, — слишком много надо сил…»[206]. Рассказывая про встречу с Серапионами в 1943 году, Вс. Иванов записал в Дневнике: «Груздев сидел умиленный, что „Серапионы“ живы»[207]…
У Ильи Александровича и Татьяны Кирилловны Груздевых всегда жили собаки; о том, что им пришлось пережить в годы блокады, рассказал в мемуарах «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург, посетивший в 1945 году выставку собак, уцелевших в блокаду: «На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей — Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из „серапионов“. В начале блокады жена Груздева принесла хлеб — паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей… Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым… Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься», — таким назиданием закончил Эренбург рассказ о собаках своих давних знакомых.
Много лет Груздев был членом редколлегии ленинградского журнала «Звезда»; в августе 1946-го, когда на Зощенко обрушился сталинский удар, Груздева, как бывшего Серапиона, вывели из редакции; других напоминаний о «грехах» молодости не последовало… Биограф Зощенко Ю. В. Томашевский свидетельствует: «Старый товарищ по „Серапионову братству“ Илья Груздев сразу же после расправы над Зощенко стал приглашать его к себе в гости, всем своим поведением подчеркивая веру в его невиновность и резкое несогласие с обвинением»[208]. Подчеркну, что такое совсем не было правилом тех лет — контрпримеров куда больше…
31 марта 1948 года в Кремле фамилию «Груздев», в связи с делами литературными (обсуждались кандидатуры на Сталинские премии), произнес Сталин. Не знаю, рассказал ли об этом Илье Александровичу присутствовавший там новый редактор «Звезды» Друзин, но Константин Симонов записал эту сцену в деталях: «Уже прошла и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно, открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:
— Кто читал пьесу „Вороний грай“, авторы Груздев и Четвериков?
Все молчали, никто из нас пьесы „Вороний грай“ не читал.
— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале „Звезда“, — сказал Сталин. — Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на неё не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут мнения?
…Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:
— Что делать? Она была напечатана у нас в „Звезде“, но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?
— Конечно, сказать, — прошептал я в ответ Друзину…
— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин. — Я думаю…
Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:
— Он сидит, товарищ Сталин.
— Кто сидит? — не понял Сталин.
— Один из авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.
Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл, положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:
— Переходим к литературной критике…»[209]…
После войны Груздев тяжело болел, но продолжал работу над вторым томом книги «Горький и его время»; готовил к печати свою переписку с Горьким и воспоминания о нем. Переписка Груздева с Горьким началась в 1925 году и закончилась в 1936-м.; временами она была литературно и отчасти политически очень откровенной. Полностью подготовить её к печати И. А. не успел, к тому же цензурно это была нелегкая работа. Архив Горького выпустил солидный том этой переписки (с купюрами, понятно) в 1966 году, когда Груздева уже не было в живых. Думаю, бесцензурное её издание стало бы самой интересной книгой Груздева…
12 декабря 1960 года Константин Федин записал в дневнике: «Как странно… И уже не впервые! Вчера вечером вдруг начал думать об Илье Груздеве — надо написать, узнать, что с ним, болеет ли по-прежнему или поправился, почему молчит… А сейчас сообщили из города, что в ночь на сегодня Илья умер… Это третий серапион»[210].
Недавно Д. Гранин, перечисляя в предисловии к книжице М. Слонимского «блистательное созвездие» Серапионов, Груздева не упомянул[211]. Увы, обычная посмертная судьба критиков и литературоведов, даже талантливых. Такая работа.
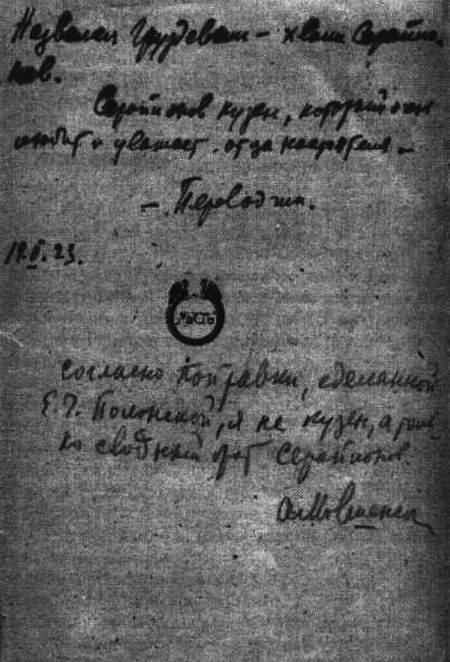
Дарственная надпись А. Г. Мовшенсона И. А. Груздеву на книге: Поль Клодель. «Протей».
Сатирическая драма в двух действиях. Перевод А. Г. Мовшенсона. (Пг. 1923).
«Назвался Груздевым — хвали Серапионов.
Серапионов кузен, который очень любит и уважает отца настоятеля
— Переводчик.
19. II 23.
Согласно Поправки, сделанной Е. Г. Полонской, я не кузен, а только сводный брат Серапионов.
А. Мовшенсон»
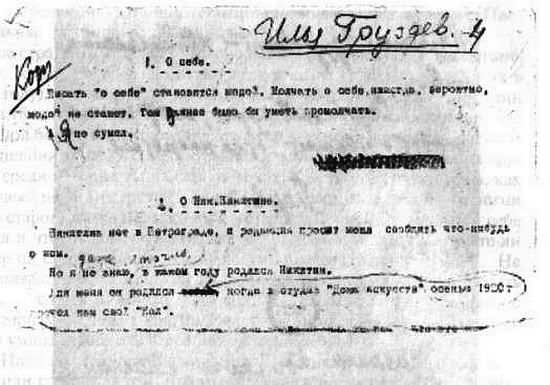
Страница автобиографии И. А. Груздева для «Литературных записок» (1922). Рукописный отдел ИРЛИ.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
VI. ГОД 1892-й
VI. ГОД 1892-й Людей простых, хороших, здоровых физически и нравственно, когда они страдают от лишений, жалко всем существом, — совестно и больно быть человеком, глядя на их страдания! Мне кажется, что с этим голодом что-то важное совершается, кончается или начинается, Л. Н.
Из дневника 1892 г.
Из дневника 1892 г. 14 августа МоскваВажно пытаться сжимать свои мысли в краткие максимы. Не лучшие ли это методы для дисциплинирования ума и способности ясного мышления и ясной речи. Ведь в кратком образе личное понимание ясности имеет наибольше общего с ясностью, по
1892[56]
1892[56] Дважды приняли за Моммзена[57] — похожая шевелюра. При ближайшем рассмотрении оказалось, что мозги — разные.В первое же воскресенье посетил церковь, а во вторник получил счет на двенадцать марок — на церковные нужды. Хватит. Не могу себе позволить исповедание
1892
1892 61.Абрамов Я.В.М. ФАРАДЕЙ: ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. — 1892. — 80 с. 8100 экз.62.Александров Н.Н.ЛОРД БАЙРОН: ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. — 1892. — 96 с. 8100 экз.63.Анненская А.Н.Ч. ДИККЕНС: ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. — 1892. — 80 с. 8100 экз.64.Аненнская
1892 год
1892 год Фэнни. 1 январяВетер все крепчает. Днем вдруг со страшным треском рухнуло большое дерево и еще несколько деревьев поменьше. В атмосфере какое-то странное веселье. Работники стоят группками, с улыбкой на лицах, и, когда что-то падает, издают ликующие крики.Льюис. 1
1892 год
1892 год 2 января.Кутепов говорил, что из государя можно выкроить всю его семью — такой он толстый, и еще останутся куски.14 января.12 января в 12 часов ночи умер вел. кн. Константин Николаевич. Много он пережил тяжелого в своей жизни. Сегодня у нас говорили, что лучшие люди
ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК (Брат, друг, соратник)
ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК (Брат, друг, соратник) Бахмут Илья не запомнил: он был еще совсем маленьким, когда семья Маршаков покинула этот город. В памяти Ильи остался Острогожск: «Широкая острогожская улица с маленькими домишками по сторонам, с пыльными кустами палисадников,
1892
1892 2 января. Один поэт-символист прочел другу описание своей возлюбленной.— Да где же это видано, — воскликнул друг, — так мордовать женщину!* Подумать только, что нам придется умирать, что нельзя было не родиться.* Юный учитель жизни. Открываешь его папки, а там лишь
50. Лондон, 1892
50. Лондон, 1892 Теперь вы понимаете, что за прекрасное оружие держите в руках у себя во Франции в течение 40 лет — всеобщее избирательное право; если бы только люди умели им пользоваться! Оно медленнее и гораздо скучнее, чем призывы к революции, но зато в десятки раз
Отец Павел Груздев
Отец Павел Груздев К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое. (Пс. 15,3) Как-то я узнала, что в доме знакомого нам священника гостит весьма почтенный старец. Я поехала к Шатовым с сильным желанием увидеть еще раз в жизни избранный сосуд Божией
Архимандрит Павел (Груздев) Родные мои
Архимандрит Павел (Груздев) Родные мои Рассказы архимандрита Павла (Груздева) ВОЕНКОМАТ ИЗ МОЛОГИ Груздевы, породненные с Мологским Афанасьевским монастырем, были частыми гостями у игуменьи Августы, особенно отец, Александр Иванович. И игуменья, чем могла, помогала
8. Брат без прозвища Константин Федин (1892–1977)
8. Брат без прозвища Константин Федин (1892–1977) Самый удачливый (по официальным советским меркам) писатель среди Серапионов Константин Александрович Федин родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина; детство и юность его прошли на Волге. «Мой дед Ерофей
АРХИМАНДРИТЪ ФОТIЙ, НАСТОЯТЕЛЬ НОВГОРОДСКАГО ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ 1792–1838
АРХИМАНДРИТЪ ФОТIЙ, НАСТОЯТЕЛЬ НОВГОРОДСКАГО ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ 1792–1838 Въ исход? царствованія императора Александра Павловича стало зам?тно проявляться религіозно-мистическое направленіе въ сред? образованныхъ классовъ русскаго общества. Подробное изсл?дованіе причинъ
Год 1892
Год 1892 22 июня/4 июля 1892. Понедельник. Оосака. Катихизаторская школа и была учреждена в Оосака Собором Оосакским 1887 года, но содержание для нее было положено местное, от японских юго–западных Церквей; Церкви же нашли у себя сил содержать двоих, да и то на короткое время, так
1892 год
1892 год 29 сентября/11 октября 1892. Вторник. Симооса. Кадзуса. Хитаци. Отправились мы с о. Фаддеем Осозава посетить Церкви, ему подведомые в Симооса, Кадзуса, Хитаци. Первою на пути была Церковь в Тега. От Токио до Тега 11 ри; думали мы прибыть часа в три–четыре, чтобы отслужить
Год 1892
Год 1892 11/23 октября 1892. Воскресенье. Асахимаци. Оота. Утром выехали в Оота, где назначена была в десять часов воскресная служба, на грузовых лошадях, ибо другого средства предвижения из такой глуши, как Кабусато, нет, кроме пешеходства, каковое по беспрерывным дождям и