«Старца великого тень чую смущенной душой» (К. С. Станиславский)
«Старца великого тень чую смущенной душой» (К. С. Станиславский)
Дразнить образ может всякий, но стать образом может только большой артист.
Н. В. Гоголь.
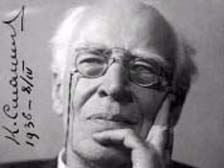
Константин Станиславский.
1.
Летом 1931 года в Москву приехал Бернард Шоу. Он попросил познакомить его со Станиславским, чтобы лучше понять своего любимого драматурга А. П. Чехова и «такой загадочный русский театр». Сохранилась фотография, где вместе сняты Шоу, Станиславский и «примкнувший» к ним Луначарский, который старался не пропустить возможность, чтобы лишний раз сфотографироваться с великими людьми. Впервые увидев Станиславского, изумленный Шоу воскликнул:
«Вот самый красивый человек на нашей земле!»
В 1933 году A. M. Горький напишет Станиславскому:
«Почтительно кланяюсь Вам, красавец-человек…» Эта фраза станет хрестоматийной.
На своем веку К.С. создавал театры, студии, кружки. Вместе с Немировичем-Данченко он воздвиг величественное здание Художественного театра, которому отдал сорок лет жизни. Рождению театра предшествовало десятилетие Общества искусства и литературы, многие из участников которого вошли в первую труппу МХАТа. В 1905 году К.С. начал свои студийные спектакли, основав так называемую Студию на Поварской, которой не суждено было стать театром. Затем он вместе со своим верным помощником Сулержицким[116] и молодым Вахтанговым организовал студию. Позже он увлекся искусством оперы.
А в конце жизни — большая педагогическая работа в Студии-школе, выросшей в театр. Поистине, какое разнообразие путей и перепутий, тропинок и троп. Но когда вглядываешься в эту биографическую летопись Станиславского, то невольно возникает чувство, что все, самые значительные факты его жизни не раскрывают до конца его личности. Недаром он говорил, что «как золотоискатель, я могу передать потомству не труд мой, мои искания и лишения, радости и разочарования, а лишь ту драгоценную руду, которую я добыл».
История имеет свои сроки, и наступает день, когда искусство даже величайших актеров — властителей дум целых поколений, становится в лучшем случае достоянием музеев и архивов.
2.
На мою долю выпало счастье один раз в жизни увидеть К. С. Станиславского и даже с ним говорить. Отец уже три года находился в концентрационном лагере. Моим воспитанием более усердно занималась улица, чем школа.
В тот незабываемый день 17 ноября 1933 года я отправился в центр Москвы. В Камергерском переулке, переименованном в Проезд Художественного театра, я внимательно изучал манящие афиши волшебного театра, где с родителями еще в той жизни успел увидеть сказочную «Синюю птицу» Метерлинка, которая меня навечно приговорила к Театру, Литературе, Искусству.
Когда дома никого не было, я приглашал соседских мальчишек из нашего Сиротского переулка и устраивал воображаемые спектакли без декораций, без костюмов, без грима. Реквизитом служили видавший виды бабушкин застиранный платок, огромные, заплатанные валенки и, конечно, старая поломанная ширма.
В нашем доме было много книг о живописи, скульптуре и театральном искусстве. В лицо я мог узнать многих актеров русского и зарубежного театра…
К порогам Художественного театра подъехал торжественно-невозмутимый извозчик. Могучим басом он пророкотал: Пo-жал-те, господа, приехали! Камергерский!
И и друг я увидел живого Станиславского и рядом с ним пухлого, и высокого Немировича-Данченко. Какая-то неведомая сила подтолкнула меня к известному режиссеру. Запинаясь от нахлынувшего волнения, я невпопад растерянно проговорил:
— Константин Сергеевич, я вас сразу узнал.
Режиссер милостиво улыбнулся. Взглянув на массивные золотые часы, Немирович-Данченко торопливо сказал:
— Константин Сергеевич, у меня нет мелочи, дайте, пожалуйста, воспитанному попрошайке полтинник.
На моих глазах выступили слезы. От стыда я был готов провалиться сквозь землю.
— Владимир Иванович, я не попрошайка! Мне нужно поговорить с К.С., я жду его два часа.
Станиславский любезно предложил пройти в театр и следовать за ним. Служители, напоминавшие важных сановников, приняли у него пальто, трость, шляпу, а у меня, также невозмутимо-торжественно, старенькое пальтишко и шапку.
По нарядной лестнице мы поднялись в кабинет. Секретарша с огромными отполированными ногтями беззлобно на меня посмотрела, чуть слышно проговорила:
— Каждый день в театре появляется новый беспризорник — любитель синтетических искусств.
Кто-то из прихлебателей заметил:
— Эти любители растут, как грибы.
К. С. усадил меня в глубокое, обитое бархатом, кресло, а сам сел напротив. Его красота привлекала с первого взгляда. Он был статен и высок ростом. Его пушистые волосы с ранних лет посеребрила седина. Но седина эта не казалась свидетельством прожитых лет, а знаком мудрости. Черты его выразительного лица были крупны и благородны. Черные брови, лишь в последние годы побелевшие, оттеняли пристальный и сосредоточенный взгляд светлых глаз. Он не только смотрел на человека, но как будто бы забрасывал невод в глубины его души.
— Я вас слушаю, молодой человек! — сказал он, приветливо улыбаясь, — чем могу быть полезен?
— У меня нет папы, мама работает машинисткой и получает очень мало денег, позвольте иногда бесплатно ходить в Художественный театр.
К.С. ласково на меня посмотрел, его добрая, открытая улыбка согрела необыкновенным теплом обледеневшее сердце ребенка.
Служительница на огромном подносе принесла чай, бутерброды, печенья. Запомнились миниатюрные щипцы для сахара, которые я, спустя годы, увидел в музее как редкий экспонат.
К.С. позвонил. Вошла секретарша:
— Вы видели, что у меня гость? Пожалуйста, организуйте еще один прибор.
Повернувшись ко мне, он спросил:
— А кто ваши родители?
— Папа преподавал экономику, руководил различными издательствами, теперь он сидит в лагере, находится в Соловках. Мы давно не имеем от него писем. Посылки в лагерь тоже перестали принимать.
К.С. растерялся, по-видимому, он не знал, что со мной делать, как себя дальше вести. Он вторично позвонил, попросил вызвать заместителя директора театра Михальского. Когда тот вошел, К.С. тихо проговорил:
— Милейший Федор Николаевич, убедительно попрошу вас пропускать на все спектакли, дневные и вечерние, моего юного друга, которого вы здесь видите.
Наклонившись ко мне, Михальский спросил:
— Молодой человек, как вас величать?
Окончательно смутившись, я назвал себя.
К.С. оживился:
Оказывается, я хорошо знал вашего батюшку. Он бывал у нас в театре, меня с ним познакомил Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Я помню его книгу «Записки рядового революционера»[117], она имеется в моей библиотеке. И осмелел:
— К.С., разрешите мне приходить в театр с мамой.
Станиславский вырвал листок из именного блокнота и быстро написал:
«Уважаемый Федор Николаевич!
Убедительно Вас прошу пропускать на все спектакли Леонарда Евгеньевича Гендлина, а также его Маму. По возможности, устраивай их на приличные места.
С уважением К. Станиславский.
17.11.1933».
Как я благодарен К. С. Станиславскому за то, что в самые трудные годы жизни, он протянул мне, десятилетнему ребенку, свою благородную руку.
Актриса и режиссер, народная артистка РСФСР, профессор Мария Осиповна Кнебель[118] — одна из самых любимых учениц Константина Сергеевича, последовательница его Системы, прекрасный собеседник, согласилась дать интервью в связи со столетием со дня рождения Станиславского.
Фрагменты из беседы с М. О. Кнебель.
Система Станиславского формировалась в период, когда в искусстве сталкивались самые различные течения. Мейерхольд, Таиров, Фореггер[119]. Возглашались новые революционные формы. Академическим театрам объявлялась война. Станиславского считали устаревшим. Но я не помню ни одного случая, чтобы К.С. вступал в словесную или печатную борьбу с чуждыми ему течениями. Все свои силы он тратил на то, чтобы утвердить свои принципы в среде единомышленников. А ко всему происходившему вокруг он относился с интересом, всматривался — нет ли там чего-нибудь, что упущено им. Он не был пуританином, каким его стали изображать в последние годы, а к чужим исканиям никогда не относился с позиций «нельзя». В этом смысле, я думаю, самым запутаннцм и несправедливо освещенным вопросом являются отношения Станиславского и Вс. Мейерхольда. Отношения эти были сложны, по-разному складывались в разные этапы их жизни. Но они никогда не были враждебны. Сам вечный искатель, Станиславский относился прежде всего к Мейерхольду, как к искателю, притом самому неутомимому из всех существующих рядом в искусстве.
«Всеволод Эмильевич — мой старый друг. Видел его во все моменты поисков, метаний, ошибок и достижений. Люблю в нем, что он во все эти моменты был увлечен тем, что делал, и искренно верил тому, к чему стремился», — это запись К.С. в книге отзывов после посещения «Великого рогоносца»[120] 26 сентября 1926 года. Интересно, что Станиславский ни словом не обмолвился о спектакле. Может быть, он и не понравился ему. Но он написал о главном. Эта запись не просто дань уважения чужим поискам. Это признание того, что необходим в театре тот беспокойный дух исканий, без которого — театр — мертвое ремесло.
Станиславского и Мейерхольда теоретики любят называть «полюсами». Это, видимо, так и есть. Но само понятие «полюсы» в искусстве гораздо сложнее. К.С., видимо, обдумывал план реорганизации МХАТа, в записных книжках 1932–1936 годов записывает: «Передать филиал Мейерхольду, соединив нашу и его труппу». И далее: «Художественная часть — я, Немирович-Данченко, Мейерхольд». Стоит подумать, почему у Станиславского, лучше и глубже понимающего смысл того, к чему стремился Мейерхольд, родился именно такой, а не иной план реорганизации Художественного театра…
В 1938 году я неожиданно встретилась с Мейерхольдом у Станиславского. Я вошла в кабинет, где должны были начаться занятия, и, иидимо, прервала их разговор. В комнате царила атмосфера необычайной сосредоточенности. К.С. сидел на диване. Он облокотился одной рукой о стол, другой подпирал голову. Напротив в кресле сидел Мейерхольд. У него было трагически-недоброе выражение лица. Станиславский внимательно его слушал.
Мейерхольд метнул на меня глазами — я помешала ему. Я попыталась уйти, но К.С. сказал: «Сейчас все равно уже все соберутся. Познакомьтесь — мой блудный сын. Вернулся. Будет присутствовать на моих занятиях с педагогами».
Я никак не ожидала встретить Всеволода Эмильевича в Леонтьевском переулке, в квартире Станиславского. Самые близкие люди, так называемые единомышленники, один за другим отказывались от человека, которого недавно считали единственным, утверждающим революционное искусство. Кольцо друзей сужалось, грозило одиночество поруганное и страшное. И он пришел к Станиславскому, к своему учителю, принципы которого отвергал, к учителю, который не соглашался со своим учеником-бунтарем. Было в этой встрече что-то глубоко драматическое и одновременно величественное — отпали многие, сами по себе значительные преграды, когда речь зашла о какой-то самой глубокой человеческой и творческой связи между людьми. Эта связь между Станиславским и Мейерхольдом оказалась нерушимой. «Единомышленники» отворачивались, самый главный «противник» сделал все, чтобы помочь и по возможности отвести подвигающийся удар.
В тот день, когда Мейерхольд пришел в Леонтьевский, К.С. вел беседу о новом репетиционном методе. Видимо, именно потому, что и комнате сидел Мейерхольд, К.С. говорил особенно мягко, даже весело, стараясь увлечь «блудного сына» новыми идеями.
Мейерхольд молча слушал. Он не задавал вопросов. Ему было, конечно, нелегко в тот вечер. На его нервном, постаревшем лице отдались и боль, и надежда, и благодарность.
А через полгода К.С. пригласил Мейерхольда в свой оперный театр в качестве заместителя.
В 1939 году, после смерти Станиславского, Мейерхольд делал доклад в этом оперном театре.
«…Вы знаете, при каких условиях я попал к вам в театр. Я подумал: зачем я пойду в театр Ленсовета? Я пойду к Константину Сергеевичу и попробую работать вместе с ним. Я сказал себе, что мне интересно, во-первых, посмотреть, что есть в моем художественном опыте длинной жизни — не все у меня было скверное, ведь есть и хорошее. Я поднесу Константину Сергеевичу вот на этом блюдечке это хорошее. Вот у меня маленький участок, как пепел, остальное — дрянь. Дрянь выбросить можно. А нельзя ли сделать, чтобы это маленькое тоже вам принесло пользу, Константин Сергеевич? Я хитрый, возьму от вас все новое и нужное. Я давно у вас учился. С тех пор с вами не встречался. Один раз по-настоящему с ним пришлось беседовать. Он говорил полтора часа. Потом предоставил слово мне. И я говорил полтора часа. Он многого не знал из того, что я сказал: «Ах, черт! Вот над этим никто у нас не работал!» А я слушал его, вбирал в себя. Это была настоящая атмосфера дела, когда два художника обмениваются опытом…
Константин Сергеевич сказал: «Не намерены ли вы меня ревновать?» Я сказал, что буду с ним согласовывать. На это он ответил: «Я думаю, что вы сами будете производить бунт. У меня есть моцартовский зал. Хорошо начать там ставить маленькие моцартовские оперы. Пусть там штампы, рутина — а мы будем вентилировать свежим воздухом театр». Он говорил: «Мы без занавеса будем играть». Это он хотел мне приятное сказать…»
Я видела потрясенного Мейерхольда у могилы Станиславского. Его жена З. Н. Райх с трудом увела его домой с Новодевичьего кладбища.
С Всеволодом Эмильевичем мы встретились в последний раз на режиссерской конференции в Доме Актера. Он сам подошел ко мне и как-то потерянно сказал:
— Трудно нам будет без учителя, без Константина Сергеевича! Блудный сын осиротел.
Махнув рукой, он пошел в зал, где было больше недругов, чем друзей. И не выступить Мейерхольд не мог, заведомо зная, что его ждет беда…
1960–1980. 1984.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
К. С. Станиславский
К. С. Станиславский Весной 1897 года зародился Московский Художественно-общедоступный театр.Пайщики набирались с большим трудом, так как новому делу не пророчили успеха.Антон Павлович откликнулся по первому призыву и вступил в число пайщиков. Он интересовался всеми
К. С. Станиславский
К. С. Станиславский Первый сезон окончился, и наступила весна, зазеленели деревья.Вслед за ласточками перебрался на север и Антон Павлович.Он поместился в маленькой квартире своей сестры, на Малой Дмитровке, Дегтярный переулок, дом Шешкова.Самый простой стол посреди
К. С. Станиславский
К. С. Станиславский Антон Павлович любил приходить во время репетиций, но так как в театре было очень холодно, то он только по временам заглядывал туда, а бо?льшую часть времени сидел перед театром, на солнечной площадке, где обыкновенно грелись на солнышке актеры. Он
К. С. Станиславский
К. С. Станиславский С самого начала сезона Антон Павлович часто присылал письма то тому, то другому. У всех он просил сведений о жизни театра. Эти несколько строчек Антона Павловича, это его постоянное внимание незаметно для нас оказывали на театр большое влияние, которое
К. С. Станиславский
К. С. Станиславский Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влезающих из сада в комнату. Артем уже сделался
СТАНИСЛАВСКИЙ
СТАНИСЛАВСКИЙ В 30-е годы для нас, гитисовцев, имя Станиславского было легендой. Все равно, что Шекспир, Сервантес или Бах… Иногда казалось, что настоящего Станиславского вовсе и нет, есть миф, некая «бука» для устрашения молодых людей, вступающих на театральное поприще.
Что у него за душой?
Что у него за душой? «Архипелаг Гулаг» был выброшен на стол в качестве антисоветской «козырной карты» в самом конце 1973 года — года, которому наверняка суждено войти в историю как главной черте водораздела между периодом «холодной войны» и периодом разрядки
Я И СТАНИСЛАВСКИЙ
Я И СТАНИСЛАВСКИЙ Когда я был маленький, я заболел малярией. Доктор выписал мне таблетки и сказал маме, что когда я буду делать пи-пи, струйка у меня будет синяя и чтобы мы не пугались. Так оно и должно быть от этого лекарства. Приехала Верико и повела меня в театр МХАТ, на
Станиславский
Станиславский Летом 1937 года я окончил театральную студию при Киевском театре русской драмы, и тут же большинству из нас предложено было остаться в труппе театра. Предложение было лестное, но не очень заманчивое. Театр, конечно, неплохой, и артисты хорошие, ничего не
Станиславский
Станиславский Он был высокий, элегантный, снисходительно согнувшейся над собеседником, в галстуке бабочкой – ни дать ни взять президент, даже, может быть, Соединенных Штатов. Не хватало за его спиной полосатого звездного флага. Вместо него был знаменитый серо-зеленый
КТО БЫЛ ДУШОЙ ПЯТЁРКИ
КТО БЫЛ ДУШОЙ ПЯТЁРКИ Этими вопросами вплотную занялась Пятёрка. В 1987 году она заметно приобрела вес — особенно после Рустового побоища. Все военно— политические решения проходили теперь предварительную обкатку сначала на Малой пятёрке, или как её ещё называли — в
2. Записка разговора Его императорского высочества великого князя Павла Петровича с Королем Польским в бытность великого князя в Варшаве в 1782 году[319]
2. Записка разговора Его императорского высочества великого князя Павла Петровича с Королем Польским в бытность великого князя в Варшаве в 1782 году[319] Запись наиболее замечательных высказываний великого князя в разговоре со мной[320]Об императоре[321]:Я не доверяю ему более,
К папе приехал Станиславский
К папе приехал Станиславский Помню, как у папы за пианино собирались И. М. Москвин и Л. А. Сулержицкий, как они представляли папе Кота, Сахар, Огонь — многих, кто будет действовать в новой постановке и кому обязательно нужна папина музыка.Л. А. Сулержицкий, маленький,
СТАНИСЛАВСКИЙ ЗАНИМАЕТСЯ СО СТУДИЙЦАМИ
СТАНИСЛАВСКИЙ ЗАНИМАЕТСЯ СО СТУДИЙЦАМИ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА Впервые Константин Сергеевич встретился с теми, кто был зачислен на первый курс нашего отделения, 15 ноября 1935 года. Уже полтора месяца шли занятия, студийцы понемногу втягивались в новую жизнь, привыкали к
ГЛАВА 35 Спрятанные продукты — Рассказ старца о Колике — Кулаком по скупе — Благочиние нечестивцев — «Вы — хуже рецидивистов» — Вот так «постницы»! — Предостережение старца Исаакия
ГЛАВА 35 Спрятанные продукты — Рассказ старца о Колике — Кулаком по скупе — Благочиние нечестивцев — «Вы — хуже рецидивистов» — Вот так «постницы»! — Предостережение старца Исаакия Ленивец и послушник, из новопришедших братьев, были «одного духа» и неразлучны: где