Вокруг Арнхема
Вокруг Арнхема
Арнольд мирился с особенностями своей жены. Пусть уединяется, пусть читает и плачет над русскими книгами, что ей присылает из Парижа их знаменитый писатель. Пусть сама пишет — было бы странно, если бы такая выдающаяся женщина, как «Олга», только тем и занималась, что отдавала визиты и принимала гостей, подобно его сестре Бетти, которая, едва выпроводив приятельниц, принимается за пересуды и сплетни. И ещё: пусть не досадует, что её все дёргают, не дают сосредоточиться. Разве её заставляют?
Пусть только не болеет. О, эти загадочные женские недомогания его нервируют почти так же, как нахальство и лень работников на ферме.
Самое лучшее оказалось предоставить ей возможность самой или с мамой решать выбор докторов и лекарств. Олга считает, что ему следовало родиться для научной кабинетной работы, но кто-то же должен думать о прозе жизни — хлебе насущном.
И вообще, как-то всё неясно. Отец слышал в верхах, что авантюрист Гитлер проглотил Европу временно, главная его цель — Россия.
Только успеть бы собрать урожай — виды самые обнадёживающие. Вот сейчас проверит, не пора ли косить ячмень, заодно заедет на почту.
Подтянул подпругу, погладил коня по шее.
— Сейчас Олга вынесет письмо, отправим нашему знаменитому русскому другу.
Вышла Ольга, кутаясь в платок:
— Ар, постарайся управиться до темноты, я буду волноваться, как всегда, когда ты задерживаешься. Будь осторожен, не забывай, у нас военное положение. Ну вот…
Она, словно боясь, что муж выронит по дороге, сама вложила конверт в дорожную сумку, проверила застёжки, поправила ему ремень через плечо — пусть все видят, у них хорошие отношения. Пусть и мама не беспокоится, не поглядывает на неё тайком. Никак не решит, счастлива ли её дочь. И удивляется, как это её строптивая с другими дочь ладит с мужем и во все его дела вникает с неподдельным интересом.
Счастье, конечно, теперь понимают иначе. Вот её молодая мать согласно своему времени не разрешала в неё влюбляться, ухаживать за ней молодым людям понапрасну. Это безнравственно, объяснила она когда-то дочери. «А вот встретила твоего отца, тогда другое дело». И до сих пор помнит своё подвенечное платье, лайковые белые перчатки до локтя, икону, которой благословили их родители. И потом десять лет вдовства, борьбы за жизнь детей…
Об этом, о женском счастье, она обязательно напишет, её словно овевают некие тени образов, вспыхивают мысли, которым только надо дать развить себя. Чаще всего вспоминается детство и юность. Лицо мёртвого отца поразило Олю полным безразличием к этому миру и прежде всего к ней. Сквозь рясу и священнический крест на груди она пыталась дотронуться до груди, там, где ещё недавно, стоило ей прильнуть к отцу, она слышала, как глухо, словно колокол, но с разной частотой стучит его сердце. Казалось ей, так и должно быть, так будет всегда. Теперь там под материей было что-то окаменелое, такое же недоступное, как и лицо, в котором так мало осталось от отца. Его отпевали в храме Спаса Нерукотворного, провожали в короткий путь до церковных стен всем городом.
Оля ни на минуту не оставляла мать одну — вдруг и та умрёт. Потом она стала уходить — её всё тянуло неизвестно куда и зачем. Её отвезли к батюшке и матушке Груздевым — родителям Александры Александровны. Она слышала, как бабушка покачивает головой — едва смогли оторвать Олины ручонки от гроба отца. Дедушка посматривал неодобрительно и тоже молча.
Бабушка читала ей прекрасную книгу о Матери Божией. Там подробно рассказывалось о Её детстве и юности. Как Её привели в храм после смерти родителей, чтобы там обучить всему, что полагается знать и уметь девушке. И как Она смутилась, когда Ангел передал Ей волю Господа. Замечательная книга, но автор и название Ольге неизвестны. Да и вряд ли теперь книгу переиздадут когда-нибудь.
Ольга Александровна тихонько, чтоб не слышала мама, прошла на кухню за чаем. Сюда же, переваливаясь как-то неуверенно, пробралась и Марго. Стала ластиться к ногам хозяйки.
— Маргоша, ты чего-то боишься. Скоро у тебя будут маленькие котятки. Ты не знаешь, что ты счастливая. Чего волноваться-то? Мы с тобой обмоем деток, уложим рядком на тёплую подстилочку… Ах, как мы все-все знаем страх гораздо чаще, чем покой или радость.
Всё это она только что рассказала в письме Ивану Сергеевичу.
Немного чая, лекарство. Всё. Пора за дело — писать повесть о жизни.
…Отчего её всё время знобит? Лето тёплое, флоксы зацвели на две-три недели раньше.
О, уже пятый час, она опять не уложится, не только десяти, но и пяти страниц не напишет. Но всё равно, надо пойти к флоксам — они уже повеяли своим чудным вечерним ароматом. Она отложила ручку, такую же, какую подарила родному Ивану.
Ольга спустилась с крыльца. Ну вот, на дворе гораздо теплее, чем в доме.
Что же она хочет сказать об отце? Что за всю свою жизнь она не встречала ни одного такого же прекрасного человека, как отец. Кроме Ивана Сергеевича…
Она нагнулась над белыми флоксами. Их запах был сильнее и красивее, чем у сиреневых. А вот с розами можно быть уверенной: чем гуще красный цвет, тем победней запах. Ольга пожалела, что у розы Дагмар оставила один боковой бутон — в результате верхний ослаблен, как и следовало ожидать.
Не надо было выходить к цветам — они напоминают о крови. Что-то есть пошлое в красном цвете как таковом, без пурпурных оттенков. Флоксы редко бывают такого откровенно красного цвета, как розы.
И всё-таки Ивану она пошлёт самую пронзительно красную бегонию — уж очень она мила, и в её пушистости есть что-то смущённое, робкое, скрадывающее победность, пронзительность цвета.
Красные розы умные мужчины не дарят — красные розы обязывают.
А вот Джордж вообще не дарил ей цветов, этот единственный достойный её поклонник. Нет, не поклонник — рок. Джордж!..
Вот уже десять лет она складывает в особую папку любое сообщение о нём в печати. Когда-то его привёл к ним домой отчим — надо же было поставлять приёмной дочери «скальпы» — Джордж посещал в то время лекции русских профессоров. Он совершенствовался в знании русского языка, который выбрал как специальность после окончания какой-то американской академии. Она помнила каждый день тех нескольких месяцев пребывания Джорджа-Георгия в Берлине. И каждую их прогулку на его машине.
Почему они расстались? Она объяснила это в письме Ивану так: оба любили только свои и ничьи другие отечества. Ольга была уверена, что со стороны они похожи на заговорщиков, у которых общая тайна. Так ей хотелось думать, так было не очень больно думать.
Но это было не всё. Тайна была в непреодолимости рока. Прежде она не знала, чтобы воли её не было. А рядом с Джорджем она забывала обо всём, не помнила себя ни в большом, ни в малом, летела куда-то в пропасть.
И что ей надо пореже показываться Джорджу в профиль, что у неё красивые ножки и ручки, а крепко сжимать рот нежелательно, это у неё получается некрасиво. Не помнить себя — это бывает раз в жизни.
Одевалась она всегда со вкусом, мама перешивала что-то своё, подкупали необходимое. Она и теперь помнила синее бархатное платье со старинным кружевным маминым воротником, оно так подчёркивало её глаза! А какое на ней было зелёное пальто с рыжей лисой и лисьей шапочкой в день первой встречи и вообще все-все мелочи, которые отчим называл «доспехами»!
Чтобы было не так больно, она назвала его женитьбу на Аннели Соренсен пошлостью — Джордж не мог любить эту куклу, его опутали интригами! Самое удивительное — его выдержка: он умел держать людей на расстоянии. Георгий и теперь вызывал в ней восхищение, Ольга втайне гордилась своей причастностью к этому блестящему благороднейшему из людей. Никто не имел права подозревать его в чём-либо проигравшим, облапошенным. Так она его понимала. Только по-особому вышколившие себя люди так управляют собой, то есть другими. И это как раз завораживало в нём.
Когда он открывал перед ней дверцу машины и потом обходил её и садился за руль, у неё обрывалось и куда-то падало сердце. Всё, всё в нём было безупречно.
Сон оканчивался возвращением с загородной прогулки, он так же почтительно распахивал дверцу и, подведя к подъезду, молча раскланявшись, медленно уезжал, оставляя её полумёртвой от страха: увидит ли она его ещё раз и как скоро.
Непонятно только, откуда вдруг взялась эта особа — приехала, видите ли, стажироваться. И как, когда это случилось? Но от неё, от Ольги, ему не скрыться… Он был по-прежнему безупречно внимателен к ней? Ну, так и он никогда не увидит её мук, не узнает, какой это был удар для неё. Игра — пусть игра. Раненой насмерть.
Только вот мы не знаем, что именно нас не сразу, очень медленно, как особо страшный яд, подтачивает и обязательно сведёт на-нет. Страх потери? Убитая мечта? Обида на всю жизнь? Вопросы без ответа? Запоздалое сожаление о допущенных ошибках?
Джордж исчез позже Аннели. Исчез внезапно, не попрощавшись. И она ещё продолжала года два-три ждать, что он появится в Берлине. Она ходила в церковь каждое воскресенье и молила Бога о счастье. После одного газетного сообщения о том, что Джордж Кеннан как-то связан с большевистской Россией, она не могла понять, как это возможно. Жаль, отчима уже не было в живых — объяснить наивной, что это означало. Впрочем, он и сам был старомоден со своей милой шуткой о её победах над мужчинами — «снятии скальпов». Какие уж там победы!
Это был единственный мужчина, от которого она хотела бы иметь ребёнка. Позже смирилась: хоть от кого. Но жалко было маму, и гордость не позволяла. Боже! Как это было давно — десять лет назад.
Изредка встречались люди, чем-то похожие на Джорджа — взглядом, улыбкой, походкой — вообще-то он принадлежал к не бросающимся в глаза, располагающим к себе людям…
О.А. приступает к осуществлению давней мечты — писательству. Её небольшие рассказы о первом причастии, о нянюшке Айюшке, о цыплёнке, выхоженном ею в буквальном смысле в собственных тёплых ладонях — вызывают искренний восторг у Шмелёва. На очереди «Повесть жизни». Она начиналась подробностями детства и юности. В её памяти были ещё свежи уроки жизни, разбуженные её же письмами «дорогому и родному» о браке, и вскоре её девичьи страдания, обиды, ошибки становятся основным содержанием писем — цепь встреч и разочарований, описание молодых и немолодых людей, по работе, в компаниях. Обычные истории. Кроме одной. Единственной. Такое неповторимо. Вот её начало.
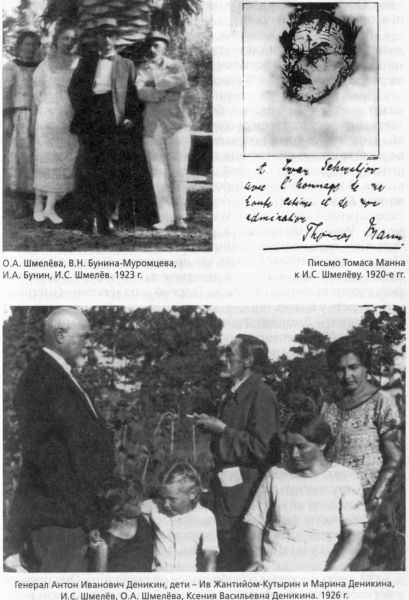
«Вернувшись из клиники, я торопилась кончить одно рукоделие, чтобы отнести как подарок одной имениннице. А у отчима сидел кто-то, кого оставили чай пить. Я извинилась и дошивала своё, тут же, у лампы. И ушла в гости. Кто это? Не всё ли равно».
Горько-сладкие воспоминания вставали перед ней. Второй визит вместе с отчимом — были в русском храме, Рождество: гость интересуется всем русским. У нас ничего не приготовлено. Мы видим друг друга впервые. Я помню только большие как-то особенно прямо смотрящие глаза, синие, не голубые, как море. Ответное приглашение всей семье к нему за город. И вот была сказка. В зимнюю ночь. Морозно. Поехали на его чудесной машине… Холостой мальчик, без всякой хозяйки. На стенах русские картины, в углу образ. За столом русские закуски и вина. Самовар. Ужин, заказанный в русском ресторане. Шаляпин на чудесном граммофоне, Собинов, Нежданова. Откуда? В Риге, в Пскове, приобретается всюду, где приходится бывать по службе. Атмосфера добра, взаимной доверительности. Отчим декламирует своего любимого Тютчева, Георгий — из «Евгения Онегина»: «…и умереть у Ваших ног».
Георгию — Джорджу Фросту Кеннану посвящено много страниц подробного, томительного страдания Ольги. Что он делает в Германии в самом начале 1930-х годов? В институте, где преподаёт отчим, и где-то ещё совершенствует свой русский язык, это его специализация после окончания учёбы у себя в США. Разумеется, наивным Овчинниковым-Субботиным всё представляется по-человечески просто.
Человечно и просто, как письма Ивана Сергеевича, которые она ждёт с таким нетерпением на фоне отмеревшего, похороненного в папке прошлого. Вот недавнее:
«Олюша, я сегодня ночью проснулся — и так хотел тебя..! До слёз, так и уснул в слезах. Дай мне твою чудесную, милую головку, я положу её себе на грудь, я буду ласкать твои локончики, целовать любик твой, бровки-ласточки, грудки твои нежные, голубка, душку твою… и всю, всю заласкал бы! — и ты отдала бы мне всю страсть свою и жизнь дала бы… нашему ребёночку — о, как я верю!..»
О.А. надо поскорее освободиться от прошлого. Она продолжает свою «Повесть жизни», для краткости «нумеруя» свои истории. Роковая — последняя, раны которых давным-давно залечены, надо только уложить это в слова.
«…Он говорил, что полюбил, как только я вошла тогда впервые, в зелёной шубке с лисой и на воротнике, и на рукавах, и на подоле. Как потом тихонько шила что-то. Он сказал себе: «Вот она, которую я искал всюду». Что девушки его страны чужды ему, крикливы, шумны, модны, пусты — куклы. Что русский язык — его души язык, что он на нём только молиться может, на нём он не лукавит, «не пачкает его буднем», так и сказал. Просил меня сберечь язык и не потерять ни чёрточки на западноевропейском базаре… Дивной сказкой развёртывался чудесный роман моей юности. Волшебный, как сказка, короткий, как сказка. Над нами стояла в небе звезда, то плакала, то смеялась.
Он себя винил потом, что «дал себе волю», что «не скрыл, не ушёл раньше не открывшись».
Они ещё встречались — в концертах, кино, театрах, но уже знали о невозможности их брака и неизбежности конца:
«Мы мчались по берлинской автостраде. «Останови, я хочу выйти, остаться одна… Жорж, я выскочу, я не могу, я с ума схожу, к чему жить?!» — «Не к чему, Оля, но всё же останься». И он, держа меня правой рукой до боли, левой правил. Ужас…»
Дальше коротко о причине невозможности их любви. Об этом знала от Георгия и мама. Отношения его сородичей с бабушкиным домом, её управляющим и тому подобное, были таковы, что Ольга Субботина… отпадала. Любовь Георгия к ней не нравилась его родным. Они постановили на «семейном совете» женить Г. на девушке из совсем другой семьи. Но даже уход из-под опеки своего дома не решал вопроса: «Я не хотела такой жертвы».
Они прощались в комнате, где не раз читали вместе Чехова. «Я уезжала в отпуск. На прощанье, целуя мне руки, он сказал: «Оля, ты должна запомнить, что бы ты ни узнала обо мне, верь, что только ты — прекрасна! Я только тебя любил и буду любить».
Всё, что дальше — боль и нелепость. После этой внезапной женитьбы какие-то странные встречи в общих домах, сообщения знакомых, почему-то считающих своим долгом рассказать, как он, Георгий-Джордж, несчастлив в браке. Параллельное, будто они не знают друг друга, пребывание в гостях у общих знакомых, на каком-то дипломатическом балу. Ах, эти музыкальные шлягеры, разрывающие душу даже теперь, когда прошло столько лет. И боль, боль…
Роман в жизни и его художественная обработка Ольгой — здесь воображение и реальность перемешаны. Где тут жизнь, где литературный штамп? Вспомним, это первые литературные опыты. И. С. Шмелёв тоже старается помнить об этом, не раз оговаривает свой писательский принцип не писать ничего личного. Но то запрет для себя, принцип: ни слова о себе и близких в своей прозе. Что касается О.А:.
«Олёчек, ты вышла с честью из трудностей сжатой картины жизни, но местами дала прямо отлично, мастерски. Стараешься избегать избитых выражений… Г. у тебя вышел совсем бледно: ни вида, ни характера, никакой. Лучше — сцена дипломатов, сцена за стеклянной дверью… автомобиль у них занял место свахи…» Как и следовало ожидать, прежде всего, И.С. был оскорблён за судьбу русской девушки за границей.
Забегая вперёд: судьбе будет угодно после окончания войны вернуть наших героев к короткому эпистолярному общению с Дж Кеннаном, одним из самых убеждённых русофобов-антисоветчиков. То будет время более жёстких оценок О.А. всё-таки не умершего до конца чувства. И откровенной дипломатически вежливой отстранённости с его стороны.
Ольге Александровне — истинно женщине своего времени, не лишённого искренности простоты! — не кажется сентиментальным закончить письмо Ивану Сергеевичу об этом горестном отрезке жизни вот каким образом:
«Посылаю кусочек платья, в котором «прощалась» с Ж, - оно всё в воланчиках, длинное и широкое. Под «Татьяну». Целую. Оля».
Так её мама Александра Александровна Субботина-Овчинникова хранила свои подвенечные белые лайковые перчатки, но ведь — подвенечные!..
После войны О.А. несколько раз посмотрит фильму «Мост Ватерлоо» — его безупречно причёсанный герой так напоминал Джорджа-Георгия!..
Ах, как далеко увели её цветы. Она остановилась на том, что закажет в Утрехте в цветочном магазине махровую бегонию, чтобы послать её в Париж родному человеку и большому писателю.
А письма продолжали своё круженье. Неправда, что мы любим один раз и навсегда. О.А. безотчётно сожалела, что так быстро вошла в сердце Ивана Сергеевича и так стремительно стала в нём полновластной хозяйкой. Она сердилась, если долго не было писем от него, но тогда он становился ей особенно дорог. Вот как сейчас. Одно грустно: его заблуждение относительно «бабушки», у которой опасная болезнь и неизвестно, починят ли крышу её дома. Он предупреждён ею, он давно догадался, о какой бабушке и каких родственниках она пишет: в каждом конверте о ней, России, захваченной жестоким «хирургом Гитлером». О «хозяине» Европы постоянно напоминает военная цензура — штамп со свастикой.
Иван обещал ей приложить все силы, чтобы получить визу в Нидерланды. О, только бы его пустили. Арнхем — дивный, сказочный городок, в котором работает брат Сергей. Будут вполне естественны её частые отлучки к брату. Естественны и хлопоты о визе известного русского писателя в страну, в которой у него, возможно, есть литературные интересы.
Как же хочется счастья, а его ни у кого нет. Вот и Фася несчастна, жена высокомерного, холодного чиновника особых поручений, часто ездящего в Париж. Именно с господином Толеном она послала господину Шмелёву свой автопортрет и письмо, когда немцы целый год не разрешали почтовую связь.
Фася такая красивая и такая несчастная, у них тоже нет детей, она взяла на воспитание девочку. Фася в восторге от «Богомолья». Когда Ольга, бывая в Утрехте, заходит к ней, им так хорошо, так славно говорить друг другу обо всём далёком русском.
— Ты веришь, что мы когда-нибудь вернёмся на родину?
— Ходят слухи, Вертинский хочет хлопотать перед самим Сталиным, просить разрешения вернуться. А муж говорит, его там сошлют на Колыму. И всех наших безумных, что в Париже откликнулись на приглашение идти добровольцами в формирующийся русский полк. Их ждёт та же участь.
Они слушали пластинки Вертинского, всё ту же щемящую любовь-тоску о России — это разрывало сердце, дополняя иными, тоже русскими, картины прошлого, изображённые Шмелёвым в «Богомолье» и «Лете Господнем» — так верно, так понятно, близко. Одно странно — эти картины вызывали разную боль. Слово Ивана исцеляло, а романсы Ю. Морфесси и А. Вертинского ранили сердце, подтверждали невозвратность времени чистой любви их матерей: «Я очень спокоен, но только не надо со мной о любви говорить…»
Наедине Ольга и Фася не боялись доверить друг другу свои тайны, ещё крепче привязываясь друг к другу. Они расставались, благодарные судьбе, что могут иногда поплакать и не скрывать слёз, как при чужих.
Чего нельзя было делать, например, в обществе младшего зятя.
Как-то Кес пригласил её покататься на велосипедах. Раз поехали покатались, другой. «Красивая, ухоженная страна трудолюбивых людей», — искренно восхищалась Ольга. Потом он слишком часто стал нечаянно наезжать, плотно прикасаясь к ней. По тому как он ухмыльнулся, когда она потребовала немедленно вернуться домой, стало понятно, что она не ошиблась: он позволил себе заигрывать с ней, женой старшего брата!
Но ещё страннее была реакция Арнольда:
— Когда видишь красивую лошадь, разве не хочешь на ней прокатиться?
Вот уж, действительно…
Вся надежда на Ивана. Он должен приехать, он должен найти выход. Ну, не сразу, но надо же встретиться, надо же всё обсудить.
Ну, невозможно годами жить ожиданием жизни.
Так уже было однажды: среди всей пошлости и прозы жизни явился Джордж (ах, опять вспоминается он!). Преданный своему делу, своей стране. А она предана России, она не может жить без надежды когда-нибудь вернуться в родной Рыбинск!.. Да если б она тогда только захотела!
Но она хочет — не повторить ошибку. Иван — вот её судьба. Вот сейчас она напишет, что не хочет больше жить иллюзиями. Хочет — жить. Вот только что отправила письмо родному своему Ванечке и снова разговаривает с ним: «Недавно была в Гааге в храме Святой Магдалины у отца Дионисия. Подала записочки. Одну «За здравие рабов Божиих Иоанна и Ольги» а вторую «За упокой душ убиенного воина Сергия и Ольги». А отец Дионисий, знаешь, он бывший офицер Белой армии. Мы как-то не сразу сошлись, но в последнее время поняли друг друга.
И ещё расскажу тебе об одном удивительном совпадении: когда в нетерпении резко вскрывала конверт твоего письма, первой выпала карточка Серёженьки. Я вскрикнула от изумления, не сочти за святотатство, Ваня, Серёженька так похож на того человека, ну, я писала тебе о том, он войдет в «Повесть моей жизни». И мама согласилась, только поправила меня: «Это он похож на Серёженьку». А я думаю, они потомки одних предков. Только Серёженька — святой. Герой. Шотландский рыцарь. Шмелёв-Охтерлони с твоей душой и с обликом матери.
О, мой единственный. Целую тебя нежно-нежно. Оля».
Это замечание о том, что какой-то американец похож на сына, было отмечено, но как-то не задело, не возмутило простодушного Ивана Сергеевича, ну, похож и похож, у Олюшки большое воображение. Ведь они предназначены быть вместе! Как в юности, невозможно испачкать подозрением «светлую дружку», до самого конца единственную.
…Вот только сон Ивану Сергеевичу привиделся странный. Снилась весенняя земля — распаханная, ожидающая человека, который бросит в неё семя. Странно было только, что земля была не ровная-бескрайняя, а вырытый ров и с двух сторон поднимались высокие гряды, вынутые из рва. Как же бросать сюда семя? Надо бы разровнять землю, но мешают какие-то наваленные друг на друга остатки неизвестно зачем оказавшейся здесь кирпичной кладки, неподъёмные глыбы, их за здорово живёшь не расколешь.
И где-то здесь должна быть его Оля, он чувствует. И что за манеру взяла куда-то не сказавшись мотать. Отчего она не идёт на его зов, будто её кто-то не пускает, что за фокусы!
Земля пышет от щедрого солнца, готовящего её к принятию семени, от земли поднимается лёгкий пар, потрогать бы землю, сжать в горсти, как это делали мужики в Ключевой перед севом в его давней повести «Росстани».
В нетерпении и досаде Иван Сергеевич проснулся, и сразу ему стало ещё тяжелее: вчера он получил от Олюшеньки то, что она включила в свою повесть. О её «претендентах». У них были условные, чтобы не путать и покороче обозначить №№ 1,2,3,4. Если б он не знал её прежних опытов, которые так пленили его, ну, хоть вой, вопи — никто не услышит!..
Особенно хорош её чудесный рассказ «Мой первый пост», он одобрил его искренно и предложил писать ещё. Но кто же мог подумать, что она сочтёт нужным писать о прохвостах, мерзавцах, которые пытались испортить его Олель, его весеннюю песенку? Ну да, мужчинам всё хочется знать о любимой, но он не знал, что будет так больно.
Он был отравлен. Он метался по квартире не находя себе места. Какие муки испытывал в нём его чувственный, голодный столько лет, загоняемый в глубокую нору и вот вырвавшийся на волю зверь греха! Он хорошо был ему знаком когда-то, хорошо, что его Оля никогда ни о чём не знала, даже если чувствовала, знать не хотела… Но теперь — теперь…
Вот когда он понял свою ошибку — согласиться открыть друг другу давние увлечения. Ну, и что такое его Даша, деревенская девчушка, няня Серёжечки, ангел, почитавший ангелами их с Олей, рядом с этими хлюстами?
Разве он искал уединения с ней? Он охотился на ястребов, об этом у него есть рассказ, когда услышал голосок сына: Серёжа собирал малину на опушке, а Даша, раскинув руки и ноги, лежала в траве и глядела в небо. Он увидел её плотно обтянутые чулками ноги целиком, не скрываемые вздёрнувшейся юбкой, до самых резиночек и штанишек с оборочками. Домашнего шитья Дашиного. Её юбочка задралась непроизвольно, они оба с Серёженькой были дети. Она даже не в первый миг осознала, как выглядит со стороны, когда он, не подготовленный к такой картине, не успевший отвести взгляда, застыл на мгновение и в следующее мгновение они встретились глазами, и оба застыдились, да, застыдились, и она мгновенно вскочила, оправила юбку, и все трое они были теперь ангелами, потому что не было никакой чувственности во всём этом, хотя и стало взрослым чего-то стыдно.
Но не забылось. Чувственность, а вернее страсть с её стороны, а ещё вернее, её любовь к нему, молодому, доброму, и его симпатия к ней — придут позже, когда Серёженька с Олей болели у тёщи, а его вызвали во Владимир в Счётную палату, где он тогда служил, и они с Дашей оказались одни в доме. Когда она просто чудеса какие-то вытворяла из приготовления пищи, зная давно его вкусы, и пока она гремела посудой в кухне и металась между кухней и столовой, где он в кресле пытался читать газету, овевая его своим духом, только дуновением, но и этого было довольно, чтобы он, не огрубевший от встреч с безнравственностью других, о, сколько приходилось выслушивать сальностей и историй в мужском обществе, где нужно было делать вид, что его это не шокирует — так обострённо, так… первородно веяло на него плотью этой девушки, так он слышал каждую её клеточку трепетавшую. Как нестерпимо хотелось протянуть руку, дотронуться до её волос, от которых, он слышал, исходил запах воды; да, только провести пальцем по её губкам, поцеловать её руки.
Ничего, ничего он не сделал, не встал, не привлёк к себе.
О, у него при всём его окаянстве — так ему казалось, кто без греха! — была многолетняя суровая школа самовоздержания, самообуздания. Вот и теперь, когда уже пять лет как без «Оли своей», он и в мыслях не держал ничьей близости. Та дама, что везла его на своём авто после выступления в Риге, она не предлагала — она умоляла поехать к ней. Иногда являлись, звонили в дверь читательницы, приходилось принимать, выслушивать. Задача была только в том, чтобы помягче выпроводить, не озлобить отказом — женщины редко умеют держать удар, а их хитрости, как и «месть» — их же видно невооружённым взглядом. Не такова Ольгуночка, она исключение из правила.
Были ли у него когда-нибудь другие женщины? Да, были, но кто поверит — совсем недолго, в те далёкие времена, когда он вдруг оказался знаменитым автором «Человека из ресторана», — короткая, томительная история. Женщины летят на знаменитость, как пчела на цветок. Ему казалось сначала, что он — не — хотел — обидеть… Запомнилась та, перед его отъездом в Крым — женщина так прекрасно пела — всё-таки расстались. Кажется, её убили красные за связь с белогвардейским офицером, какой-то заговор. У страха глаза велики, то есть у большевиков, за свой переворот.
И что же теперь, когда он полюбил до самой гробовой доски и даже за пределами земного, где ему и Олюше предстоит встреча с женой. Когда любимая зовёт его в Арнхем, чтобы встретиться, пусть втайне от «больного». Но для того лишь, чтобы «глаза в глаза» всё обсудить, наметить, что делать дальше, а не разбежаться по прежним стойлам до другого подходящего случая.
Никакой он ей не муж, этот травмированный в детстве развратным протестантским священником, любителем мальчишечьих задов, этот больной человек!
Ну да, для посторонних у них нормальный брак и никто не смеет перемывать Бредиусам косточки. И всё это жертвенно несёт на себе Оленька! Ну, хорошо, как-то сладились, приспособились жить рядом, не тревожа друг друга. Судя по всему, этот Ар по-своему добр и благороден, во всяком случае, оценил Ольгино благородство.
Пусть только кончится война, они обязательно будут вместе.
Странная вещь — несовпадения. Тогда в Берлине, его глаза ослепли от слёз, он же готовился умереть. Зачем, зачем не подошла к нему, зачем тогда же не обещала спасти его от одиночества! Слава Богу, она всё-таки вернула своего Ваню из небытия, из глубокого чёрного рва безнадёжности — как же она страдает! Как же неровна, нерадостна, неуютна её душенька.
И что же — Арнхем и встречи тайком исправят положение вещей? Он, конечно, хочет этой встречи и этой связи, пусть только удастся выхлопотать разрешение на въезд в Нидерланды беспричальному бродяге с «нансеновским паспортом». Кто осудит рвущегося к любимой, к жене, да, к жене, он писал ей и не раз уже, что желает всё сделать официально и навсегда.
Сколько же ему обливаться ледяной водой? Он и об этом написал ей, Олюшеньке, он так привык с 22 лет, после женитьбы — ничего не скрывать от жены.
Да, конечно, Арнхем — это испытание их любви.
Тайный голос говорит ему, что может случиться всё что угодно: Ольга может разлюбить его — шутка ли 30 лет разницы — и тогда окажется, что они «разменяли свой золотой на ржавые железки». Большое чувство иссякнет, уйдёт в песок и тину жалких, уворованных встреч? Воришки — какие они будут жалкие!
Самое страшное — это если они с Ольгушонком смирятся с жизнью в разлуке. То, что принято называть французским любовным треугольником и называть любовью — грех, а грех не может быть любовью. Это, как сказал русский классик устами дворянина Нехлюдова, «все так, всегда так», но это грязь, её не должно быть между ними. Войны не вечны. Олюша переедет от больного, по сути, человека к нему в Париж.
Тяжкие думы отогнали предутренний сон о чёрном рве вместо подготовленной к севу пашни. Иван Сергеевич заставил себя вылезти из-под одеяла. Хозяин дома не отключил только электроплитки — не околели бы без горячего. За отопление надо было платить по более высокому тарифу, а хозяин экономил и ссылался на какие-то ремонты, обещал скоро всё наладить.
Сначала согрелся чаем с молоком и двумя тощими галетами. Зато язва не донимает. Последнее время его «пушкинская няня» Анна Васильевна, она когда-то служила у генерала Слащова, почти не готовила — не из чего. Ей нездоровилось, приходила редко, в основном немного прибраться.
Когда брился, смывая с лезвия тёплую воду, опять вспомнил об этих проклятых поклонниках под номерами и снова раздражение мешалось с жалостью.
Горячка, лупоглазка, огонь, загорится, запылает, не погасишь, себя сжигает и его не щадит. Только и написал одно словечко «Твой — пока — Иван».
И для чего написал-то — чтоб опровергла, что верит в него, что он — «её». Господи, что было! Ревность свою успокоить хотел — вот что было. А надо, оказывается, бессчётно твердить «твой навеки». Вот что с ней сделали эти негодяи: не верит, что её полюбил человек, а не подонок.
Когда же он вылечит её от ревности? Трудно с ней. Но, может быть, любят именно тех, с которыми трудно.
За письменным столом он в несчитанный раз рассматривал её фотографии. Вот давняя, 29 года, времён Джорджа. Дивно хороша, хотя тут не очень похожа на его Олю. Фотограф ли выбрал этот полуповорот к плечу немного склонённой головы: что там, в этом чудно слепленном лобике? А «Девушку с ромашками» прошедшего лета нельзя рассматривать без слёз восторга и страха — какая худышка его Олеля. Её бы к нему, в тишину, покой. А там она, как на юру. В русской катастрофе полегли предназначавшиеся юным девушкам герои, разбросала уцелевших судьбина по чужбине. Вот и пошли русские красавицы к чужому… «Девушка с ромашками» на фоне прекрасной лужайки: как здесь много рассказано ему без слов! Вот только невозможно рассмотреть глаза, прикрытые рукой от солнца — не плачет ли? Его рука сама привычно нашарила ручку — надо успокоить Ольгу, отогреть любовью.
«Божество моё, детка моя, счастье моё. Сам не знаю, как я мог упрекать тебя — эти №№ ничего не значат, их пошлость, их гадкие приёмы развращения не для таких, как ты. До меня наконец дошло, что они только материал для воспроизведения картины жизни. Ты писатель, но сама этого не знаешь пока. Недословно, но ты запомнишь, как это делается».
То есть рассказать здесь ничего невозможно. И всё-таки. Писатель никогда не пишет о себе, он не стал бы писателем, если бы писал только о себе. «Человек из ресторана» или «Солнце мёртвых» — здесь нет ни слова о Серёженьке, и нигде никогда в художественных произведениях и даже в статьях ни слова о не прекращающейся боли о сыне.
А ведь жена О.А. поседела на другой день после гибели сына, у неё выпали зубы. Она никогда уже не смеялась, разве что с маленьким Ивиком. Догадываются ли читатели о пребывании писателя за чертой рассудка и времени, хотя он одновременно знает об этом тогда же, продолжая жить и реальностью, и помрачённостью. Только помрачённость записывается в повесть «Это было», не переиздававшуюся с 1920-х годов. Она так понравилась Редьярду Киплингу, что он прислал Ивану Шмелёву письмо.
Даже «История любовная» навеяна известной повестью Тургенева, где, ясное дело, французский треугольник отец-женщина-сын.
«Я никогда бы не позволил себе писать такое об отце. Хотя я знал его «историю»; наша матушка, царствие ей небесное, была суровая женщина, отец — весь из света и тепла». Но нет, он никогда, никогда не занимался описанием себя и своих близких.
Итак, вот первая заповедь И. С. Шмелёва: писатель пишет не о себе.
Писателю, во-вторых, нужен глаз, который неустанно видит всё помимо и даже вне его естественной жизни. В нём живут многие картины и многие из них ещё не использованы, они как наброски в запаснике у художника, понадобятся — достанет. Вот они с женой в Ландах, 1920-е годы, крутится пластинка патефона. Вальс «Берёзка», Костя Бальмонт подхватил Ксению Деникину, уверен в своей неотразимости. Оля танцевать не хочет, зато рвётся Мари-Марго Серова, И.С. приглашает её — о, это не женщина, это огнедышащий кратер. Оживает картина из «запасника»: вспоминается Севастополь и танцующие — они с Олей, тогда молодые, такие счастливые, и духовой оркестр из моряков в «раковине», исполняющий «Берёзку». «Если я и напишу когда-нибудь, то о капельмейстере-боцмане, а ведь он был мною едва увиден со спины, и всё же давно «написан» в голове».
Он до сих пор помнит шорох мокрого гравия (потому что у сухого гравия другой звук), шипящий звон пузырьков разливаемого в бокалы Абрау-шампанского, и этого капельмейстера-боцмана, лихо перескакивающего, чтобы подыграть на валторне; помнит острый горьковатый дух рябчиков, которым несёт от ресторанчика.
И во всём этом присутствует горячая, как расплавленное солнце, Марго, жена добрейшего доктора Серова — в 40 лет такая хрупкость, такое «горенье»-самосожженье. Не дай Господь, какие это вывихи и изломы Достоевского, не приведи Бог полюбить такую женщину — хоть десять лет мучайся, всё равно разрыв неизбежен.
Вывихи, изломы — он ещё вспомнит о них, но не скоро и при других обстоятельствах.
О писательстве — это о ниве. Многие ли знают, приходилось ли оказаться в поле, когда цветёт рожь, и внезапно в полной тишине лопаются семенники? Этот святой звук знают мужики, он им кажется нормальным — «я, грешный, вставал, услышав, на колени».
«Ольга, ты пишешь, «как бы я творить хотела и всю любовь свою туда отдать… я так боюсь разлуки снова». Так твори же! Писательству никто не учит, но если вдумчиво читать великих, тогда они учат».
Дальше о том, о чём всегда: что не может без неё, хотя терпелив и сговорчив, когда просит она. Не годы — дни, как годы, без неё. Если б мог без неё, разве стал бы обивать пороги насчёт визы. Обещают. А дни длиннее вечности.
«Целую, целую. Бессчётно. И крещу тебя.
Твой навсегда Ваня».
Он отложил перо — осталось немного времени до закрытия почты.
Нет, он не преувеличивает. Она, действительно, талантлива. Она пишет «Звёзды глубоко тонут и в прудочке». Понимает ли сама, как это объёмно? Они будут расти вместе. Его Дари — это Ольга. Что есть любовь, они поймут по мере страдания. Тогда самообман с Арнольдом и её «жертвенность» раскроются перед ней. Его Оля продолжает молиться и там, чтобы он закончил «Пути Небесные». Вот пожелание «отошедшей», это её завещание. Она обеспокоена, что за эти годы он создал только одно законченное произведение — «Куликово поле», подсказанное ему возле её могилки, тоже с её участием.
И кто знает, может быть, его Оля вымолит не только «Куликово поле» и «Пути». Ведь Ольгуна ещё очень молода. А как же он, нет, они оба хотят маленького, Серёжечку! Ни одного слова вслух не произнесено — страшно.
Бедная Оля после несчастных родов и смерти девочки перестала поднимать голову, ей казалось, она в чём-то виновата. В чём, всемилостивый Господь! Но значит, дано так. «Через муку и скорбь», говорит его герой, «человек из ресторана жизни».
«Серёженьку, Оля, Серёженьку мне, у-мо-ляю!..»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Вокруг — враги
Вокруг — враги Остатки депутатского корпуса 13-го созыва сумели добиться победы лишь в одном: они действительно оповестили все международные организации о незаконности принятого на референдуме решения об изменении белорусской Конституции и продлении полномочий
Вокруг Европы
Вокруг Европы В ночь на 6 июня 1956 года из Одессы в круизный рейс вокруг Европы отправился теплоход «Победа». Его 423 пассажирам в течение 25 дней предстояло посетить шесть стран, из них пять капиталистических, в Греции осмотреть Пирей с Афинами, в Италии — Неаполь, Рим,
Вокруг конференции
Вокруг конференции Если говорить об обстановке пребывания делегаций на конференции в Сан-Франциско, то власти США в целом создали сносные условия для ее работы — сносные, но не больше. Американцы помогли персоналу делегаций получить помещения для жилья и работы.
Вокруг да около
Вокруг да около Хунин-де-лос-Андесу повезло меньше, чем его озерному собрату, и он влачит свое растительное существование, позабытый и позаброшенный цивилизацией, если не считать попытки встряхнуть его однообразное существование с помощью постройки казарм, на
Вокруг света
Вокруг света Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Татарский пролив, пароход «Байкал», и сентября 1890 г.:Завтра я буду видеть издали Японию, остров Матсмай. Теперь 12-й час ночи. На море темно, дует ветер. Не пойму, как это пароход может ходить и ориентироваться, когда
ВОКРУГ ДА ОКОЛО
ВОКРУГ ДА ОКОЛО За возней с бревнами подоспела и пасха 1943 года — первая моя пасха в лагере.В предпраздничную субботу мы работали только до обеда. После обеда милашка Вацек Козловский выстроил весь блок во дворе. Приветливо сияло и ласково грело апрельское солнце. Ах, как
Институт и вокруг
Институт и вокруг Лучшими временами в жизни двух наших институтов — Института языкознания и Института русского языка — были годы между 1958-м и 1965-м. Структурная лингвистика расцветала. Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна
МИР ВОКРУГ
МИР ВОКРУГ ДОМС домом всегда были проблемы.Когда мы жили в Сочи, мать моя совершенно невероятным образом, пожалуй, единственный раз в жизни, добилась у тогдашнего то ли первого секретаря, то ли председателя горисполкома Воронкова (которого, кстати, потом посадили по
Вокруг света за 80 лет
Вокруг света за 80 лет Среди предков Бориса Алексеевича Йордана, родившегося в Америке 2 июня 1966 года, — грузинский царь Вахтанг VI, адмирал Шишков (рьяный патриот и славянофил, враг Пушкина), историк Татищев, теолог Шмеман, да и дедушка его, как мы уже заметили, был не
Звук вокруг
Звук вокруг > Песнями, композициями или треками музыку не измеришь. Но в маленькой капле может отразиться море, а хрестоматия – не враг полному собранию сочинений. Нам повезло: мы располагаем тоннами носителей, на которых зафиксированы почти все звуки нашего мира.
Вокруг Африки
Вокруг Африки «…если я умру за границей или на этой армаде, на которой я плыву ныне в Индию… пусть погребальные обряды по мне совершат, как по обыкновенному матросу…» Из завещания Фернандо Магеллана от 17 декабря 1504 года. Никогда еще не отправлялась из Лиссабона такая
ВОКРУГ ВОЖДЯ
ВОКРУГ ВОЖДЯ Значительно позже в одном из газетных интервью Корнилов произнес загадочную фразу: «Когда-нибудь я вам расскажу, что сделали с Корниловым. Я в Корниловы не сам пошел…»{229} Что он в данном случае имел в виду, мы не знаем и никогда не узнаем. При желании эти слова
Вокруг стола
Вокруг стола Старший племянник — Марк Савельевич Ласкин. Отепя, Эстония, 60-е годыКто собирался на эти праздничные обеды? Давайте посчитаем: дед Самуил Моисеевич и бабка Берта Павловна — так сказать, основоположники, сестры Ласкины, все три: старшая — Фаина, 1909 года
Токсины вокруг нас
Токсины вокруг нас Загрязнение окружающей среды и ракРак связан с ухудшением состояния окружающей среды. Воздух, которым мы дышим, загрязняется все больше и больше. Мы живем на больной планете. Большая часть загрязнителей атмосферы имеет источником топливо, получаемое
5.9 АТМОСФЕРА ВОКРУГ МКС
5.9 АТМОСФЕРА ВОКРУГ МКС В ноябре 2001 года я решил пойти в отпуск, благо, таковых у меня накопилось больше чем на полгода, и, наверное, первый раз стать цивилизованным туристом и поехать в Африку, на этот пока не космический континент, где еще ни разу не был. Путь туда
Вокруг знамени
Вокруг знамени Сегодня знакомый офицер в штабе танковых войск рассказал нам историю о том, как крестьянская семья два года сохраняла от немцев знамя разбитого в этих краях танкового полка.Случай не новый. Вокруг знамен, превратностями военной судьбы оказавшихся на