Рассказ Тихачека[145]
Рассказ Тихачека[145]
1842–1849 годы
Моя жена говорит мне: «Пиши мемуары, это тебя прославит. Тем более, что ты был близок к такому человеку, как Вагнер». Я отвечаю ей: «Душенька, славы, отпущенной мне, я уже хлебнул вдоволь. И она была заслуженной: природа дала мне достаточно хороший голос, чтобы петь в операх Вагнера. Что же касается мемуаров, то мне их не написать вовек: этого дара природа мне не дала. Если ты помнишь, даже мои письма к тебе были нескладны. Ты приписывала это моей безумной любви к тебе, из-за которой я будто бы не мог толково изъясниться. А это происходило потому, что я просто не умел писать. И не умею». Этого я, конечно, не сказал жене, то есть не стал упоминать про письма. Это я говорю вам.
Но рассказать о Рихарде Вагнере, каким он был в Дрездене, рассказать без хитростей, без этакого философствования я, пожалуй, мог бы. И, поскольку вы просите меня об этом, я попробую. Если вам что-нибудь покажется непонятным, перебивайте меня без всякой церемонии и переспрашивайте сколько угодно.
Двадцать лет прошло с тех пор, как я стал петь в дрезденской опере. Театр у нас был хороший, певцы порядочные. Достаточно назвать Вильгельмину Шрёдер-Девриен, первую бетховенскую Леонору[146]. Говорят, такой Леоноры на оперной сцене еще не видали и не слыхали!
Это была гениальная артистка. В доказательство расскажу вам такой эпизод (я немного отвлекусь, но, право же, эпизод любопытный). Слушайте. В опере «Отелло» нашему Россини, не знаю для чего, вздумалось поручить роль мавра женщине. И кого же он выбирает для этой роли? Марию Малибран, худенькую, хрупкую красавицу. А роль Дездемоны исполняет Шрёдер-Девриен — женщина могучего телосложения и огромного роста. Представьте себе, что из этого могло получиться! Зрители заранее смеялись и острили: «Как дойдет до последнего действия, то Дездемона задушит своего Отелло». Но в театре публика стала забывать о странном несоответствии (надо сказать, что и Малибран была прекрасна в своей роли), а в конце многие уже не смеялись, а плакали. Вот как настоящий артист побеждает препятствия!
И в операх Вагнера Вильгельмина была великолепна. Но я забегаю вперед.
Итак, в начале сорок второго года мы узнаём, что у нас пойдет новая опера и что ее молодой автор скоро прибудет к нам из Парижа. Его жизнь была какая-то странная. В детстве он будто бы не подавал никаких надежд, я хочу сказать — в области музыки. Великий Вебер, прослушав пьесу двенадцатилетнего Рихарда, сказал: «Будет кем угодно: поэтом, актером, министром, разбойником, но только не музыкантом». Это не анекдот: сам Вагнер впоследствии — и не без удовольствия — рассказал мне об этом.
Молодость у него была бурная, трудная, на редкость неудачливая. Он скитался по разным маленьким городам, управлял маленькими оркестрами. Правда, он говорил, что это принесло ему пользу. Кредиторы преследовали его по пятам, так что ему пришлось бежать из Германии. Очутившись в Париже, он вообразил, что тут-то и завоюет счастье. Увы! Ему фатально не повезло. Если хотите узнать, как ему жилось в Париже, прочитайте его рассказ «Кончина музыканта». Это было помещено в парижской газете. Там удивительно живо описывается, как бедный музыкант умер в столице от нужды.
К тому же он имел глупость жениться чуть ли не двадцати лет. Одна голова не бедна, но вечно беспокоиться о другом человеке — жизни не будешь рад. Но у Вагнера всегда так бывало, что в самую трудную минуту, когда положение безвыходно, вдруг, совсем как в его операх, происходит крутой поворот и наступает избавление. Так было и в Париже. Внезапно он получает известие из Дрездена, что его опера «Риенци», которую он послал уже давно, принята к постановке. Он уже истомился от ожидания, потерял надежду, и вот его вызывают для репетиций. Мало того, приглашают на должность капельмейстера. Он приехал, сразу, как говорится, врезался в гущу нашей театральной жизни и закружил всех по-своему.
Ему было тогда двадцать девять лет. В наружности как будто ничего особенного: небольшого роста, худой, жилистый, очень подвижный. Только стальные глаза и выдающийся подбородок придавали лицу энергичное выражение. Но стоило ему заговорить, особенно на свою любимую тему, или стать за пульт, и мы видели в нем какое-то сверхъестественное существо, уверяю вас! Он, знаете ли, фанатически верил в свое призвание, так верил, что хоть на костер. Такие чувства очень заразительны, а мы были люди искусства: впечатлительные, с горячим воображением.
Кстати, верите ли вы в колдунов? Я верю, сам их видел. И я бывал иногда таким колдуном — редко, но бывал.
Он пригласил нас к себе домой. Там было все чисто, уютно. Аккуратная, степенная жена угостила нас вкусным обедом. Признаться, мы опешили. Мы думали почему-то, что у Вагнера должна быть совсем другая подруга. Такая, знаете ли, из богемы. Но госпожа Минна встретила нас очень любезно. Она была довольна своим новым положением, а впоследствии, когда Вагнера назначили придворным капельмейстером, она подписывалась на визитных карточках: «Придворная капельмейстерша».
Мир ее памяти! Год назад она умерла от болезни сердца. Они с Вагнером давно разошлись. У него теперь, как вы знаете, другая жена, достойная спутница гения. Я, правда, ее не люблю, но это уж другое дело.
А о госпоже Минне он заботился до последнего дня, и нужды она не знала.
Теперь позвольте мне вернуться к главному.
С прибытием Вагнера наша жизнь круто изменилась. Мы с нетерпением ожидали репетиций и, право, немного походили на безумных, когда, забыв о времени, о голоде, проводили на этих репетициях по пять-шесть часов, ловя каждое слово капельмейстера, каждый жест и подчиняясь магическому влиянию его музыки.
Взрослые люди те же дети: они любят сказки. А Вагнер умел их мастерски придумывать. Из множества мифов, которые он изучал, создавалось что-то новое — и похожее на них и в то же время свое. Я тех мифов не читал — пробовал, но не осилил, — но мне кажется, что вагнеровские гораздо интереснее. Что говорить: он был человек образованный и очень умный.
Какие чудеса открывались перед нами! Волшебный грот Венеры прямо под ногами, у подножия горы. Заклятый корабль вечно несется по морю. Рыцарь прибывает издалека в серебряном челне, запряженном белым лебедем. Ведь надо же придумать такое! Подземные карлики день и ночь куют сокровища… Какие резкие повороты, неожиданные поступки, какие сильные характеры! И я должен был изображать их: играть роль Риенци, Тангейзера, Лоэнгрина…
С большой самонадеянностью, свойственной мне в те годы, я брался за все. Наш хормейстер Вильгельм Флейшер, опытный музыкант, сказал мне сейчас же после приезда Вагнера, когда мы еще не знали его силы:
— Послушай, Иожеф, я опасаюсь за тебя. Ты очень талантлив, голос у тебя редкой красоты, но, с другой стороны, ведь ты фанфарон, самовлюбленный петух — щеголяешь на сцене обтянутыми ляжками и верхним си-бемолем и строишь глазки посетительницам. А Вагнер таких терпеть не может. Смотри! Я только надеюсь на твое чутье и музыкальность.
Я не обижался на Флейшера: он по-своему любил меня и желал мне добра. К тому же он был прав: я не успел получить хорошего образования, а успех уже немного испортил меня. Но, сознавая это, я все же ответил:
— Какой бы я ни был, у меня есть опыт, а этот выскочка в первый раз ставит свою оперу. Еще вопрос: соглашусь ли я петь? Что он будет делать тогда?
И когда Вагнер в первый раз стал объяснять мне, кто такой Риенци — моя будущая роль, — я слушал рассеянно. Затем спросил про Риенци:
— А какой на нем будет костюм?
Флейшер сделал страшные глаза. Но Вагнер спокойно ответил:
— Костюм будет великолепный: настоящие медные доспехи. На сцене все будет блестеть и греметь.
Потом он сказал с улыбкой, обращаясь к Флейшеру:
— Вопрос о костюме немаловажный.
Я был покорен.
Вот так и начались репетиции «Риенци». И чем дальше, тем лучше. Вагнер был доволен мной и говорил, что я вошел в роль, угадал характер римского трибуна. К тому же благодаря хорошей музыкальной памяти я очень быстро выучил трудную партию. Впоследствии, когда мы уже были друзьями, Вагнер говорил мне:
— Может быть, это и к лучшему, что ты не успел приобрести «ученость». Ты восприимчив к прекрасному, и тебя не приходится переучивать. Повинуйся чутью — больше от тебя ничего не требуется.
Он любил меня, несмотря на мои недостатки.
Он всегда жаждал иметь друзей, но быть другом Вагнера, ох, какая это трудная задача! Мы боготворили его как художника и боялись как человека. При его чертовской требовательности и деспотизме невозможно было ни угодить ему, ни мириться с его капризами. Он хвалил меня за восприимчивость, но столкновения — увы! — бывали. Не раз я прерывал репетицию, срывал с головы шлем или другой убор и бросал его на землю. Не раз Вагонер прогонял меня со сцены, запретив показываться ему на глаза. Мне кажется, один только Лист при его несравненном характере мог оставаться другом Вагнера долгие годы, да и то в последнее время между ними пробежала черная кошка.
— Кто хочет быть моим другом, — сказал мне однажды Вагнер, — тот должен многим жертвовать…
При всем том, вы знаете, он был такой веселый. Даже трудно себе представить. Он мог хохотать как безумный, стоять на голове, ходить на руках по комнате, придумывать уморительные фокусы…
Мне не в чем его упрекнуть. Когда его звезда начала разгораться, а моя закатываться, он не забыл старого товарища и вызвал меня из Дрездена в Мюнхен, чтобы именно я пел Тристана. Я не понравился этому мальчишке, королю Баварскому, и Рихард ничего не мог поделать. Но его поступок говорит о многом.
Все же его нетерпимость ужасала нас. У него была пренесносная манера навязывать всем свои вкусы. Признаться, я до сих пор не понимаю, почему надо любить только одно течение в искусстве. Есть вещи хорошие и плохие, увлекательные и скучные. Первые нам нравятся, вторые — нет. Я думаю, так смотрят на искусство не только простые люди, вроде меня, но и весьма многие любители и знатоки. Но Вагнер — нет! — он определял искусство иначе. Он не любил, например, Россини и бранил нас за то, что нам нравится «Севильский цирюльник» или «Вильгельм Телль». Как музыканты, мы любили певучую, красивую музыку, что же в этом дурного? Неужели под небесами не хватит места для всех великих художников? Так ли их много?
Но если Вагнер не сумел внушить нам отвращение к музыке Россини, то любовь к его собственной музыке он внушил нам крепко и надолго. Мы были опьянены новыми впечатлениями; нас увлекла широта его намерений, глубина мыслей.
Говорят, во Франции художников заставляют изучать философию. Бог мой, что было бы со мной, если бы вдруг такая напасть объявилась и у нас! Я это говорю к тому, что всегда был слаб в философии и из книги «Святое семейство»[147] которой зачитывался Вагнер (и меня заставил читать), я понял лишь то, что автор порядочный безбожник. Но суть вагнеровской реформы, которую он через несколько лет изложил в своей книге, а в Дрездене объяснил артистам, показалась мне не такой уж трудной, может быть, потому, что он каждую свою мысль подтверждал музыкой.
Он говорил: «Опера — соединение нескольких искусств; слово в ней так же значительно, как и музыка; игра актера так же важна, как и голос певца; и чрезвычайно велико значение оркестра. Он — как хор в античной трагедии». И если в итальянских операх оркестр часто лишь поддерживает, сопровождает и украшает пение, то у Вагнера он все: в нем и скрытые мысли, и чувства, и описания, — одним словом, все, чего нельзя ни сказать, ни спеть.
Оперу он называл музыкальной драмой.
И еще он говорил: «В музыкальной драме не может быть ничего случайного, проходящего: все служит одной цели, каждый характер обрисован яркими чертами, присущими только этому характеру». Впоследствии он развил свою систему лейтмотивов — коротких музыкальных характеристик. О них кое-кто говорил, что они запутывают действие. Мне же всегда казалось, что эта система очень стройна и логична.
Вы это знаете, конечно, не хуже меня, но я говорю об этом лишь для того, чтобы доказать, как часто очень трудные понятия бывают доступны простым умам. Вернее, я воспринимал не умом, а сердцем. Бывало, очень простую вещь никак не могу взять в толк, а вот другую, сложную, но если она выражена в музыке, чувствую как-то сразу. Вот почему я, порядочный невежда, смог сделаться со временем вагнеровским певцом. Многие этому удивлялись, а Вагнер — тот понимал.
Я, кажется, говорил вам, что любой миф он приближал к нашему времени. Как это объяснить? Вот, например, смотришь пьесу из современной жизни: мужчины во фраках, дамы в модных платьях и язык привычный, а на тебя веет чем-то старым-старым, давно отжившим. А у Вагнера, в какую бы старину он ни забирался, даже к язычникам, к дикарям, всегда узнаёшь что-то родное, знакомое… Ведь есть среди нас и моряки-скитальцы, проклятые души, есть и Тангейзеры, которые места себе не находят: всё мечутся — и в жизни и в искусстве. И верят, искренне верят то в римского папу, то в Венерин грот. Что говорить, многие из нас в трудную минуту смотрят вдаль и ждут Лоэнгрина, — другое дело, что он не появляется!
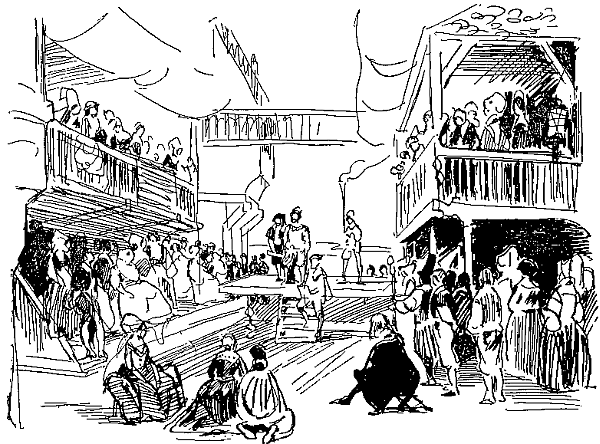
Кстати, Вагнер толковал нам, что Лоэнгрин — это художник, которого не поняла толпа. В таком случае, это современный художник.
Или возьмите вы Зигфрида — героя народной сказки! Бог ты мой! Разве это не идеал нашей немецкой молодежи, которая стосковалась по доблестным, хорошим делам? Я говорю не о тех молодчиках наших дней, которые шалеют от воинственного пыла и в пивных кричат «Хох!» в честь кайзера. Я говорю о достойных патриотах, о лучших людях. Особенно тогда, накануне революции, как их ждали! И вот Зигфрид — смельчак, сковавший меч, разбивший свою наковальню, добрый, веселый, не знающий страха. Хейза! [148] Ничем Вагнер так не угодил нам в те годы, как созданием этого образа.
Вы, конечно, слыхали о Михаиле Бакунине, о русском революционере, который участвовал в нашем дрезденском восстании в сорок девятом году? Многие уверяют, что он — прототип вагнеровского Зигфрида[149]. Ведь они были друзьями — Вагнер и Бакунин. А по-моему, насчет прототипа это сильно преувеличено. Конечно, какая-то первобытная сила, здоровье, смелость — все это было в Бакунине. Я сам слышал, как Вагнер сказал о нем: «Прямой потомок Зигфрида!» Но он сказал это шутливо, мое ухо улавливает оттенки. Образ Зигфрида слишком могуч; приятель Вагнера только слегка напоминал героя народной легенды. Но для воображения художника достаточно искры, чтобы разжечь ее в пожар.
Вы думаете, в нашем театре не было противников реформы Вагнера? Были. Кто? Да хотя бы его родная племянница Иоганна, артистка нашего театра. С задором, свойственным ее возрасту, она заявляла, что главное в опере — это пение, а оркестр должен знать свое место. Пусть безголосые певцы спасаются в шуме оркестра, она же стремится быть услышанной, и ей совсем не нужна та громада звуков, которую Вагнер обрушивает на наши головы. Влияние Шрёдер-Девриен несколько сдерживало задор нашей молоденькой примадонны. Я же сам иногда поддавался внушениям Иоганны Вагнер: ее свежее личико, ангельский голос и властный характер некоторое время держали меня в плену. Вагнер щадил меня тогда, и это помогло мне избавиться от наваждения.
Ох, как давно это было!
Однако даже враги нашего композитора прислушивались к нему.
Оркестр, оркестр Вагнера! Ослепительный, громадный и при этом совсем не тяжелый, иногда даже прозрачный. Оркестр Вагнера с его морем, лесом, грозой, радугами, с его чертовскими превращениями… Если я назвал его колдуном, то главным образом из-за оркестра. Я мог бы привести много примеров этого чародейства. Да вы их знаете. Вспомните хотя бы вступление к «Лоэнгрину» с этим тающим звуком удвоенных скрипок. Приведу вам другой пример, менее известный, он относится ко мне самому.
Мы репетировали пятое действие «Риенци». Я, римский трибун, в последний раз выхожу к толпе, пытаясь ее успокоить. Она недовольна мной, разъярена, но молчит. На каждое мое обращение отвечает оркестр: он ревет и гремит, он вскипает, как вал. И я начинаю испытывать ужас перед, этим скрытым возмущением народа. Мои колени дрожат, я слышу свою погибель. Лишь большим усилием воли мне удалось вернуть себе твердость.
Вот что такое оркестр Вагнера!
Итак, наши дела шли прекрасно. Вагнер был назначен придворным капельмейстером; его энергия нас изумляла. Он поставил «Летучего голландца» и «Тангейзера», закончил «Лоэнгрина». Играли мы под его управлением и Девятую симфонию. Недалек был тот день, когда Дрезден стал бы одним из музыкальнейших городов страны.
И вдруг разразилась буря.
Госпожа Минна растерялась. Она не могла понять, как можно жертвовать прочным положением, покоем, семьей ради «сомнительной авантюры» — так называла она революцию. Сперва ее гнев обрушился на друзей Вагнера — Реккеля и Бакунина, особенно на первого, который был вожаком дрезденского восстания. «Если бы не эти дружки, я оставалась бы счастливой женщиной!» А что сталось с ней, когда она узнала про нашу Вильгельмину! Ведь Шрёдер-Девриен участвовала в восстании, и потом ей пришлось бежать из Дрездена. И, если бы у вас было время, я сообщил бы вам много об этой удивительной женщине, но цель моего рассказа — Вагнер, а я не все рассказал вам о нем.
Итак, госпожа Минна сначала обвиняла его друзей, потом его самого. Раньше, в период благополучия, она говорила: «Я знала, всегда знала, что он добьется своего». Теперь запев остался, песенка изменилась: «Я всегда знала, что он неудачник и ничего не добьется».
Но она сама не подозревала, какая опасность угрожает Вагнеру.
А для нас его участие в восстании, по крайней мере для меня, не было неожиданностью. Дрезденские события только толкнули его к действию. Он столько насмотрелся на всевозможных дельцов и торгашей, так часта терзала его нужда, так долго видел он, что в мире наживы задыхается и гибнет его любимое искусство, что он возненавидел тот строй, который поддерживает только богатых и сытых.
На своем образном языке он произносил фразы, вроде следующих:
«Бедный Лоэнгрин! Как ни высоко расположен твой Грааль, а к нему уже потянулись жадные лапы. Торгаши прицениваются и к лебедю и челну».
И все-таки многие из нас не верили, что Вагнер серьезно относится к революции.
Август Реккель предостерегал его:
— В голове у тебя порядочная каша. С таким путаным мировоззрением нельзя вмешиваться в революцию!
— В нее «вмешиваются» люди и без всякого мировоззрения, — отвечал на это Вагнер. — Решаются, потому что вода подошла к горлу!
— То люди из народа.
— А я, по-твоему, кто? Капиталист? Банкир?
Ничто так не сердило Вагнера, как это противопоставление его народу.
— Все-таки народ — это те, кто кормит нас, — возражал Август. — Крестьяне, рабочие, ремесленники. Им терять нечего. И когда становится очень уж плохо…
— А мне, значит, хорошо!
— По-моему, не так уж скверно.
— Да я не о себе говорю, а об искусстве!
— Значит, ты лишь ради искусства хочешь участвовать в революции? Оригинальный повод!
— Зато сильный.
— Но достаточно ли прочный?
— Будь спокоен.
— Что ж, приветствую тебя, музыкант!
— А ты не музыкант?
— Нет! — горячо отзывался Реккель. — Теперь нет. Для меня счастье народа дороже музыки. А для тебя музыка дороже.
— Пусть так! Но ведь одно с другим связано.
— Слава богу, что ты это понял!..
Но, что бы ни говорил Реккель и что бы ни думали другие, когда настало время, они могли убедиться в безумной отваге Рихарда. Я видел его на баррикадах. К войскам обращался он с воззванием бросить оружие и стать на сторону восставших… Вы видели башню на окраине Дрездена? Там в дни восстания стоял Вагнер, наблюдая ход боев. И оттуда сообщал о них повстанцам, которые в нужную минуту должны были броситься на помощь товарищам. Двое суток стоял он там наверху и не сошел даже тогда, когда его обнаружили внизу. Друзья стащили его силой.
Помню, как на заре двенадцатого мая[150] я возвращался домой после свадьбы приятеля. Город уже пробуждался. Прохожие показались на улице. Из переулка на площадь шагнул полицейский. Неспроста его вынесло в столь ранний час. И, представьте, на этой самой площади я вижу Вагнера. Он стоит у большого столба, где висят театральные афиши, и наклеивает листовки с самым беспечным видом.
Ноги у меня приросли к земле. Столб был большой и круглый. Полицейский еще не мог видеть Вагнера, но лишь одна-две минуты отделяли нас от этого.
— Ты с ума сошел! — прошипел я, проходя мимо. — Он сейчас приблизится!
— Еще одну! — весело сказал Вагнер и пришлепнул воззвание. — Разве я не имею права рассматривать афишу? Как музыкант, я интересуюсь театральными объявлениями.
— Прекрати сию минуту, пока не поздно!
— Последнюю! — ответил он. Да еще закинул голову, чтобы полюбоваться своей работой.
Я отошел в тревоге.
Через минуту он присоединился ко мне.
— Можешь не оглядываться, — сказал он. — Этот тип внимательно изучает прокламацию. Пусть просвещается. А я чист!
И он показал мне пустые руки.
— Хейза! — произнес он вполголоса, но с большим торжеством.
И знаете, мне показалось тогда, что именно это сознание смертельной опасности, это расклеивание воззваний перед носом у полиции, этот безумный риск и доставлял ему особенную радость. Мальчишество! Реккель был прав.
Но в дальнейшем, как выяснилось, Вагнер умел здорово соблюдать конспирацию.
Теперь о нем говорят много дурного: обласкан королем, принимает его благодеяния, пишет в газетах какую-то ерунду. Скажу вам: это меня не пугает. Короля я знаю: взбалмошный, а может быть, даже безумный. Его милость может только повредить. Статейки Вагнера я не читал, не так у меня голова устроена, чтобы в них разобраться, но я думаю, что он не верит в свои газетные писания. Он верит только в музыку.
Знаете ли вы сказку о заколдованном силаче? Он был заключен в магический круг и только здесь мог развернуть свою силу. Но вне этого круга становился слаб, как ребенок; я думаю, таков и Вагнер.
Открою вам один секрет, я это недавно понял. Я не смею сравнивать себя с таким гигантом, как Вагнер, но, мне кажется, мы с ним на одних дрожжах замешаны, только он гораздо щедрее и пышнее. Он заколдован искусством. В этом магическом кругу он и мыслитель, и гений, и все, что хотите, а вне этой черты беспомощен и слаб. Как только принимается словесно рассуждать о судьбах мира, об устройстве общества, он становится дилетантом, и довольно жалким. Это бывает, уверяю вас!

Но вы говорите, что и в самой музыке он свернул не на ту дорожку? Раньше, мол, в «Кольце Нибелунга» главным героем был свободолюбивый Зигфрид, а потом стал разочарованный, во всем сомневающийся Вотан? [151] Пусть даже так: Вотан. Но не Альберих[152], не король нибелунгов, не враг человечества — вот что важно: бог, а не подземный гад!
А Зигфрида он не предал. Зигфрид остался таким же благородным, как был. Только его смерть была напрасна — не принесла победы людям. Кончилось не так, как было задумано. Вагнер стал пессимистом. Этого я не отрицаю. Хотя, с другой стороны, советую вам послушать его новую оперу о нюрнбергских мастерах пения…
Когда я слышу дурное о Вагнере, мне вспоминается одно его письмо. Во время своего изгнания он писал в тюрьму друзьям — Реккелю и Бакунину. Письмо не дошло по адресу, но, к счастью, не попало и в руки тюремщику. Оно вернулось обратно. Вагнер показал мне его, когда я был у него в Мюнхене.
К сожалению, моя память в последние годы сильно ослабела. Зрительной я никогда не отличался, только слуховой. Поэтому я не могу прочитать вам это письмо наизусть. Но, уверяю вас, дурной человек неспособен написать те горячие, братские слова, которые я прочитал. Они меня глубока тронули.
Но есть и более сильные доказательства. Если слов я не помню больше, то моя музыкальная память осталась при мне. И я обращаюсь к музыке. Я пою своим уже потерянным голосом партии Риенци, Тангейзера, Тристана, пою «Ковку меча», либо, закрыв глаза, воспроизвожу мысленно целые страницы партитур Вагнера. И я продолжаю верить в моего друга.
Простите, если я нескладно выразил свои чувства. Если бы я мог не говорить с вами, а только петь и играть, вы скорее поверили бы мне. Но я утешаю себя тем, что эти сильнейшие доказательства существуют. Я надеюсь на потомков: они во многом разберутся и отбросят всю шелуху. А музыка останется.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ЖИД. Рассказ
ЖИД. Рассказ … «Кругом него шумел все тот же огромный и равнодушный город. По мосту с оглушительным треском и звоном летели трамваи и такси, прохожие шли сплошною стеною, усталые, озабоченные и хмурые. На правом берегу Сены, в небе ярко и назойливо горели рекламы
Рассказ об И. Ф. Анненском
Рассказ об И. Ф. Анненском Текст рассказа Волошина записан 27 марта 1924 г. Львом Владимировичем Горнунгом – поэтом и литератором (род. 1902) и литературоведом Дмитрием Сергеевичем Усовым (1896–1943). Печатается по: Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1983.– С. 69–71. Фактические
Рассказ татарина
Рассказ татарина За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые; зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная; последние еще имеют преимущество перед первою, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже
РАССКАЗ СТАЛИНА
РАССКАЗ СТАЛИНА Сталин долго и с увлечением говорил о советских летчиках.А мы старались завести разговор о прошлом.Иосиф Виссарионович рассказал нам, как много лет тому назад царские жандармы заслали его в ссылку в Сибирь. Он бежал оттуда.Суровой зимой Сталин пробирался
Вступление в рассказ
Вступление в рассказ Когда мне предложили написать эту книгу, я согласилась сразу, с легкостью. Казалось, стоит только сесть за машинку, и дело пойдет само собой. Я ведь столько лет знаю Кинчева, мы многое вместе пережили - и хорошее, и плохое. Что может быть проще: вспоминай
Рассказ Ивана
Рассказ Ивана Попал в плен в октябре 1941 года. Не буду рассказывать о фронтовой неразберихе из-за бездарного командования: об этом много написано. Наша дивизия, где я был в звании старшины командиром химического взвода, была разбита в Брянских лесах, а ее остатки попали в
Рассказ Марии
Рассказ Марии Недаром говорят: «Выйти замуж — не напасть, как бы замужем не пропасть». Так у меня и получилось. Встретились случайно. Наслушалась о его трудной судьбе, созвучной с моей. Ведь я перенесла блокаду Ленинграда и знаю, что такое голод. И стали мы с 6 декабря 1946
Рассказ без преувеличений
Рассказ без преувеличений Об Аксенове и его друзьях я знаю столько, сколько знали окружающие о декабристах до восстания на Сенатской площади. То есть все и ничего.Я пропустил свидание. Знаете, как бывает, ждешь-ждешь, а она не приходит? Здесь не она, здесь он — Аксенов. Я не
Рассказ Мити
Рассказ Мити — Сам я с Украины, — начал Митя, — отец мой был врач-хирург. В 1931 году его обвинили в агитации против колхозов и выслали. Мать моя очень страдала, не зная, где он и что с ним. Я случайно узнал, что отец, вместе с другими, был отправлен на ДВК и, как будто, потом