2
2
В шестнадцатом веке в городе Нюрнберге жил башмачник Ганс Сакс[159] Его имя увековечено как имя великого поэта и мудрого наставника молодежи. В его образе воплощен неумирающий дух народа, закаленный в трудных испытаниях.
Стих Ганса Сакса, который он сочинял во время работы, аккомпанируя себе стуком молотка о колодку, был полон воодушевления и в ту пору, когда мастеру исполнилось пятьдесят лет. Впрочем, кто сказал, что это возраст дряхлости и упадка? В искусстве многие как раз в эти годы достигают вершины мастерства.
Жители Нюрнберга, собственными руками добывающие свой хлеб: чеканщики, портные, бочары, ювелиры и прочие, — издавна объединились в один обширный цех — мастеров пения. У них был подробный, точный, освященный традициями устав, который строго соблюдался. Раз в год, накануне Иванова дня, на окраине города, на большой лужайке, мастера собирались для состязания. Избранный метчик ударами мелка обнаруживал ошибки певца, и, если их число превышало установленную метку, бедняга мог быть изгнан из цеха мастеров. А победитель, лучший певец, получал из рук красивейшей девушки награду — шелковый венок.
Певцы Нюрнберга славились своим искусством. Но с некоторых пор Ганс Сакс стал замечать в своих товарищах огорчительные перемены: все чаще обращались они к табулатуре[160], не считались с природными дарованиями певца. Это был сам по себе дурной признак, признак упадка. Все реже слышался на состязаниях справедливый суд. Увлечение правилами дошло до того, что не оставалось места для вдохновения. Размеры, тоны, подголоски — все было заранее предусмотрено, всякое свободное изъявление чувства уже считалось грехом.
Гансу Саксу все это досаждало. Становясь рабами ими же установленных законов, нюрнбергские мастера пения приняли в свой цех вздорного и напыщенного Бекмессера только потому, что он хорошо знал табулатуру. Этот писарь в течение жизни не сложил ни одной песни, не изобрел ни одного мотива, и все же его выбрали главным метчиком и судьей над певцами.
(«Как странно! Кто-то другой, а не сам творец произносит высший суд над произведением искусства! Можно признать критические статьи Шумана, этого великого композитора, но, скажите на милость, почему так вездесущи и всесильны люди, которые только и судят других? Покажите мне их оперы, симфонии, романсы. Их нет, или они плохи! Кое-кто уверяет, что критику необязательно быть творцом, главное — чутье, знания. Пусть так. Но ведь есть среди них и такие, которые убеждены, что не теория служит музыкантам, а музыканты — теории. Подобные писаки недостойны произносить свой суд!»)
Все это Вагнер относил к венскому музыкальному критику Эдуарду Ганслику, от которого много натерпелся. В запальчивости он не желал признавать никаких действительных заслуг Ганслика.
(«Было бы очень соблазнительно назвать этого нюрнбергского писаря-метчика не Бекмессер, а Ганс Лих! Но директор театра не согласится: слишком близкое созвучие, а венского оракула Ганслика все боятся. Черт с ним, пускай писарь зовется иначе, все равно его сразу узнают!»)
Бекмессера не любили и сами мейстерзингеры. Но они терпели его тиранию: она защищала их от новых, свежих веяний, которых они страшились.
Накануне Иванова дня стало известно, что Бекмессер, который до старости не успел жениться, сватается к юной Еве Погнер, дочери ювелира. Достаточно было взглянуть на Еву, чтобы понять безрассудство этого намерения. Все юноши города вздыхали по Еве, но писарь не боялся соперников. И, когда кормилица Евы с возмущением крикнула метчику: «Эй вы, Брекекекс![161] Уж не надеетесь ли вы заманить нашу красавицу к себе в болото?» — он ответил, что если это намек на его будущую свадьбу, то упомянутая девица вполне достойна такой чести.
Сватовство писаря испугало девушку. Она обратилась за советом к почтенному Гансу Саксу, старинному другу ее отца.
Ганс Сакс был вдовец. Его жена и дети умерли от горячки более пятнадцати лет назад. С тех пор он привязался к малютке Еве, и дом ювелира Погнера стал как бы его родным домом.
В городе поговаривали, что башмачнику следовало бы жениться во второй раз, и намекали на выросшую Еву. Старик Погнер был не прочь от такого зятя. Что думал сам Ганс по этому поводу, оставалось для всех тайной.
Ева просила помочь ей. «Брекекекс» противнее смерти. Уж одно то, что ее, молоденькую девочку, он всегда называл «Погнершей», могло внушить отвращение.
Ганс Сакс еще обдумывал, что посоветовать девушке, когда в Нюрнберге появился молодой человек знатного рода, по имени Вальтер Штольцинг. Что привело его туда? По его словам, любовь к пению. Возможно. Но была и другая причина: встреча и знакомство с Евой Погнер. Кажется, он уже успел объяснить ей свои чувства и получить ответ.
Но всякий, кто пожелает посвататься к дочери или сестре мейстерзингера, обязан и сам вступить в цех. Вот почему молодой Вальтер захотел участвовать в состязании. Он стал расспрашивать об условиях — они ошеломили его. Сколько тонов нужно было знать! Тон «щегленка», «теленка», «блестящей дратвы», «усопшей росомахи» — где их упомнить! У него были свои тоны: весны, любви, юности… Он решил все-таки участвовать в состязании и петь так, как бог на душу положит.
Но он не знал метчика Бекмессера. А тот, разъяренный появлением нового таланта, может быть, соперника, принялся стучать своим мелком по доске где надо и где не надо. Доска уже кончилась, а Вальтер все пел. Сначала вдохновенно и горячо, а затем, разозленный придирками «мужичья», вызывающе, задорно. Мастера отвергли искусство рыцаря — все, кроме одного, Ганса Сакса.
Узнав о любви Евы к юному рыцарю, он опечалился, но ненадолго. Если в его сердце иногда возгоралась надежда, то тут же гасла. Благоразумный наставник и поэт хорошо знал легенду о Тристане и Изольде, и участь короля Марка не прельщала его… Теперь он решил во что бы то ни стало помочь приезжему рыцарю.
Песня Вальтера долго звучала у него в ушах. Давно прошедшее встало перед башмачником. Он вспомнил, как впервые появился среди мастеров со своей песней. Он был таким же смелым, таким же сорвиголовой, как Вальтер. Только надменности в нем не было, как в этом графском сыне.
Покачав головой, он снова принялся за работу. Не изобрести ли новый, «осенний» тон? И назвать его: «Напев тщетных мечтаний». Да, собственная молодость не повторяется, но ты узнаёшь ее в других.
Настала ночь. Так как Вальтер не попал в цех мастеров и не мог поэтому получить руку Евы, он уговорил ее бежать с ним. Влюбленные стояли под липой и никак не могли уйти из города; невзирая на позднюю пору, на улице все время толклись люди: ученики Сакса расходились по домам, ночной сторож ходил взад и вперед, громко трубя в свой нелепый рог.
Ева успела на всякий случай переодеться в платье своей кормилицы. Сама кормилица, Магдалена, напялив на себя одежду тоненькой Евы, стояла наверху у окна. Это чтобы отвести глаза Бекмессеру, который предупреждал, что явится к полуночи и споет серенаду будущей невесте. Вот он идет, чучело, разряженный, с лютней в руках.
Ганс Сакс все это видел: и влюбленных, притаившихся под липой, и переодетую кормилицу, и Бекмессера с его лютней. Забавная мысль пришла ему в голову. Он уселся у окна своего дома и, вооружившись сапожным молотком, принялся за работу. Громко ударяя по колодке, он затянул песню. И стук молотка ритмично подчеркивал ударения на слогах.
(«Да, это большое наслаждение — сплетать воедино разные голоса, разные положения. Вальтер успокаивает испуганную Евхен, кормилица смеется над метчиком — дуралей Бекмессер и впрямь смешон со своей серенадой. Ганс Сакс добродушно весел — недурной получится квинтет. Погодите, то ли еще будет!»)
Бекмессер возмутился, услыхав пение Сакса. Но тот спокойно объяснил ему, что иначе нельзя: срочный заказ, а он привык за работой петь. И, наконец, если одним можно распевать серенады, то и другие могут позволить себе невинную песенку.
Бекмессер растерялся: нельзя петь серенаду при таком заглушающем аккомпанементе. Но нельзя и уйти: «Погнерша» стоит у окна и — он уверен в этом! — ждет его признаний. Он решил остаться.
Но так как удары молотка и голос башмачника раздавались все громче, Бекмессеру пришлось не петь, а кричать. От досады и ярости он охрип. Заткнув уши и засунув лютню под мышку, он выкрикивал свои любовные куплеты. Не раз, прервав пение, он просил Сакса «не орать столь убийственно». Он угрожал, замахиваясь лютней, и снова принимался петь, стараясь придать голосу нежность, потому что мнимая Евхен все еще стояла у окна. Но — увы! — серенада никак не могла быть услышана при дьявольском стуке башмачника, которому приспичило работать ночью да еще во всю глотку распевать!
Долго продолжался поединок. Весело и звонко раздавалась песня Сакса, ослиным ревом оглашал Бекмессер ночную улицу. Он не умел изобретать мелодии, а заученные тоны забыл. Невольно подражая напевам Сакса, но не в силах правильно уловить их, Бекмессер искажал их нещадно. Он уже не думал о нежном пении, о сладкоголосии и только старался перекричать Сакса. Но, несмотря на то что Ганс не кричал, а только пел, рев Бекмессера терялся. К тому же Ганс успел сообщить незадачливому «Брекекексу», что удары молотка по колодке приносят пользу и искусству: стуком он отмечает ошибки певца.
Легко быть метчиком самому, но каково петь, зная, что отмечают твои собственные промахи! Бекмессер вздрагивал от каждого стука — это не улучшало пения. Принимаясь за второй башмак, Ганс объявил, что к утру, вероятно, кончит работу. К утру! Он был свеж и бодр, а Бекмессер уже выбился из сил.
«Прекрасную Еву
Я всей душой зову», —
надрывался он, делая неправильные ударения. Сакс подчинял его своим размерам. Третий куплет они пропели также одновременно: Сакс — торжествуя, Бекмессер — неистовствуя.
(«Стоп! Такой прием уже встречался. У Листа в „Фауст-симфонии“.
У Мефистофеля нет своей темы, а есть искажение тем Маргариты и Фауста. Но это трагическое искажение, а здесь комическое. Композиторы, подумайте об этом — особенно те, кто отрицает комическое в музыке.
Но то ли еще будет!»)
Между тем стук, рев и пение давно уже разбудили жителей ближайших улиц. Открывались окна, в них показывались головы, послышались оклики, соседи стали спускаться вниз. Не прошло и нескольких минут, как улица заполнилась людьми. Слесари, пекари, мясники, столяры, банщики, портные — все кричали, не слушая друг друга, все сплелось в один клубок. Неизвестно, что послужило поводом к дальнейшему: замешались ли тут чары какой-нибудь колдуньи, или виноват был поклонник Евиной кормилицы, звонко стукнувший Бекмессера его же собственной лютней по голове, но только всеми овладел дух беспричинного и беспредметного задора. Каждый дубасил соседа, отовсюду раздавалось: «Негодяй!», «Пивная бочка!», «Олух!» Крики женщин, призывающие мужей и братьев, терялись в шуме. И началась всеобщая уличная потасовка, какую еще никогда не приходилось наблюдать в Нюрнберге, — необычная прежде всего тем, что в ней принимали участие жители всех возрастов: от школяров, покинувших свои постели, до самых уважаемых и почтенных старцев. Только вода, льющаяся сверху из верхних этажей прямо на головы дерущихся, несколько охладила их пыл. Видимо, женщины все-таки оказались благоразумнее: приготовили кувшины и ушаты с водой.
Ева успела убежать к себе в дом. Ночной сторож дул изо всей силы в свой устрашающий рог, призывая драчунов угомониться. Он пропел свое увещание в фа-мажоре, а рог завыл на полтона выше. Это несоответствие, дошедшее до музыкального слуха горожан, окончательно отрезвило их.
Улица опустела.
(«Вот так побоище! Двадцать самостоятельных голосовых групп полифонически сплетаются и растут. Такого контрапункта не было еще ни в одной опере. Двадцать голосов! Кто посмеет сказать, что композитор немолод и утомлен? Что он не тот, кем был в юности? Что его всю жизнь преследовали неудачи?
Грандиозная потасовка! Давно так не радовалось сердце.
… Вы не ожидали, не правда ли, что он способен так оглушительно смеяться, что он так хорошо знает жизнь простого народа, что он может быть совсем не таким, как в „Тристане“ или в „Лоэнгрине“?
Тот же, кем был в юности? О нет, теперь он гораздо сильнее!
Ну что, избитый метчик? Как ты чувствуешь себя после твоего неудачного мальчишника? Право же, если венский Ганс Лих не подаст на меня в суд или не вызовет на дуэль, он лопнет от злости!»)
— Ты кажешься сейчас таким молодым, — вкрадчиво говорит Козима. — Отчего ты уступаешь Еву этому Вальтеру?
— Я повинуюсь зову жизни.
— А песню? Ты и ее уступаешь?
— Художник ничего не уступает — он дарит.
Как ни увесисты были побои, полученные накануне Бекмессером, как он ни злился на Ганса Сакса, испортившего его любовную серенаду, но на другое же утро писарь явился к башмачнику за советом. Жених должен выступить на состязании — этого не избежать. А Сакс может помочь.
«Ведь мы одного возраста, — думал завистливый Бекмессер, — и оба не спали прошедшую ночь. А он полон сил, да еще смеется вдобавок».
Кончилось тем, что хозяин сам подарил Бекмессеру листок со стихами. То были стихи Вальтера, вернее, его черновик. Так и быть, приятель, возьмите. Только, чур, не перепутайте!
(«Отдать писарю чужой стих? Не вероломство ли это по отношению к молодому другу? Ничуть. Но это рискованно? Нисколько.
Бесслухий музыкант песни не сложит да и стихи переврет. Когда-то, четверть века назад, некий глупый Дютш получил от директора парижского театра сценарий „Летучего голландца“ — чужой сценарий. Ну и что же? Вышло из этого что-нибудь? Ровно ничего. И не стоило огорчаться тогда. Талант может оступиться, бывают у него и неудачи. Но тупице не помогут ни чужие стихи, ни чужая музыка!»)
Это и подтвердилось на состязании певцов.
Среди разноцветных флагов и жезлов, разубранных цветами и лентами, среди празднично разодетых горожан, в сиянии майского дня, Бекмессер был ни жив ни мертв. Ему надлежало выступить первому. То и дело вынимал он из кармана листок со стихами и что-то шептал. Наконец, по знаку Ганса Сакса, он поднялся на возвышение. В глазах у него запестрело. Он покачнулся.
— Плохой знак! — крикнул кто-то из подмастерьев.
— Ква! Ква! — надрывались, подпрыгивая, школьники. — Брекекекс сейчас запоет! Пожалуйте в лужу!
— Силенциум![162] — провозгласил председатель.
Все замолчали.
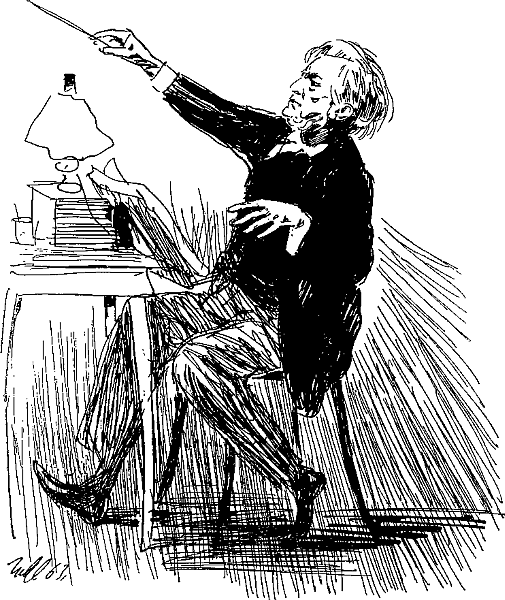
Бекмессер взял несколько аккордов на лютне. Однако голос не повиновался ему, звучал странно и фальшиво. К своему несчастью, он плохо помнил слова. Боясь отступить от стихов, он до такой степени исказил их, что среди собравшихся началось движение и шум. Против воли Бекмессера произносимые им слова имели какой-то чудовищно-карикатурный смысл, вызывающий дружный хохот. Певец поминутно заглядывал в свой листок, вытирал платком лоб. А предстояло спеть еще целых три куплета. «О, где сосна?» — ревел он. А надо было спеть: «О, грезы сна!» Вместо фразы «Там образ девы мне предстал» Бекмессер в отчаянии сообщил: «Там я, раздевшись, ей предстал». Третий куплет не привелось спеть — хохот и свист заставили беднягу сойти с возвышения и сопровождали его, пока он убегал в бешенстве. Тогда Ганс Сакс объяснил всю историю со стихами и, взяв за руку Вальтера, сказал:
— Вот кто покажет нам искусство пения!
И все кончилось благополучно — торжеством Вальтера. То был его первый шаг к зрелости, но шаг уверенный и твердый. Он получил венок из рук девушки, и отец Евы благословил обоих. А потом громкий хор, как водится, славил мастера Сакса.
А его-то более всего радовал новый «народный» тон в пении Вальтера, тон, который юноша недавно усвоил и который принесет ему успех в будущем.
— Знаешь, это совсем не похоже на тебя, — сказала Козима, — этот самоотверженный «тон» воспитателя. В жизни ты, по-моему, мало заботишься, чтобы оставить после себя школу.
— Разве все, что мы создаем, должно быть непременно похоже на нас? — спросил Вагнер.
— Но ведь Ганс Сакс — это ты!
— Не совсем. И не во всем. Я только хочу походить на него.
— Тебе это отлично удалось! — сказала Козима. — Тем более, что ты остался и самим собой.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК