«МЕЛКОГО НЕ ХОЧЕТСЯ! ВЕЛИКОЕ НЕ ВЫДУМЫВАЕТСЯ!»
«МЕЛКОГО НЕ ХОЧЕТСЯ! ВЕЛИКОЕ НЕ ВЫДУМЫВАЕТСЯ!»
Год 1833-й принес Гоголю много огорчений. Прежде всего — недовольство собой.
«Владимир 3-ей степени» не был написан не только из-за смелости и сатирической злости. Слишком резок был переход от радужных «Вечеров» к убийственной картине петербургского общества. И какой картине — необъятной по обширности. «Он слишком много хотел обнять в ней», — справедливо заметил Плетнев. Даже блистательному, мгновенно созревшему таланту такая задача оказалась не по плечу.
Гоголь страдал от бездействия и сомнений. Он предъявлял к себе высокие требования, и все, что начинал, представлялось легковесным. «Мелкого не хочется! великое не выдумывается!» «Мысли так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое, и не один я, всё, кажется, дремлет. Литература не двигается».
Ощущение неподвижности всего окружающего еще более угнетало и усугубляло душевный разлад. На вопросы Марии Ивановны о его занятиях и времяпрепровождении отвечал он раздраженно: «Вы пишете, чтобы я об себе писал вам. Что же такое писать? Ну, я, слава богу, жив и здоров, чего и вам желаю. Когда проснусь, то одеваюсь; потом завтракаю; часа через четыре или пять обедаю; когда же наступит ночь, то ложусь спать; и так каждый день проходит. Не делаю совершенно ничего».
Гоголь преувеличивал.
Он пытался работать. Начинал то одно, то другое. Рвал и сжигал написанное и начинал все сызнова. В его больших дешевых тетрадях с кожаными корешками, купленных в захудалой бумажной лавочке, появлялись отрывки, наброски статей, рецензий, повестей, перемежаясь друг с другом.
«Страшная рука повесть из книги названием: лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-ой линии». Название и несколько строчек.
А затем — другое. Статья «Об архитектуре». Начата, прервана, продолжается на другом листе, где торопливым почерком запись обрывков разговоров: «Что вам стал вицмундир? почем суконце? — Да, да, знаю, помню. — Да, да? Ну, а расскажите. Да о чем бишь вы говорили? — Подойди, скотина. Вам на столе красного дерева работать и скоблить».
Или такой отрывок: «Фонарь умирал на одной из дальних линий Васильевского острова. Одни только белые каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствуют 12 часов, когда отдаленный будочник спит, когда кошки, бессмысленные кошки, одни спевываются и бодрствуют! Но человек знает, что они не дадут сигнала и не поймут его несчастья, если внезапно будет атакован мошенниками, выскочившими из этого темного переулка, который распростер к нему свои мрачные объятья».

Петербургская улица в дождь. Акварель К. Кольмана. 1830-е годы.
Далее рассказывается о том, что увидел в щель ставни приехавший из Дерпта студент, очутившийся здесь в эту полуночную пору. Отрывок был невелик.
Другой, о дожде, то же. В нем описываются прохожие, бегущие под дождем по петербургской улице: молодой человек «с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль», суровая толстая дама, боящаяся замочить свое пестрое платье, чиновник «крыса в вицмундире с крестиком» — этакая петербургская амфибия, которую встретишь на улице в любую погоду, «русская борода, купец в синем немецкой работы сюртуке с талией на спине или лучше на шее». Купец держит зонтик над своей половиной, а та — «масса мяса, обернутая в капот и чепчик», плывет с ним рядом, тяжело пыхтя. «Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам…»
Увиденное, узнанное рвалось наружу. Новый идол — Петербург, — незаметно, исподволь, но неумолимо и властно овладевал его помыслами.
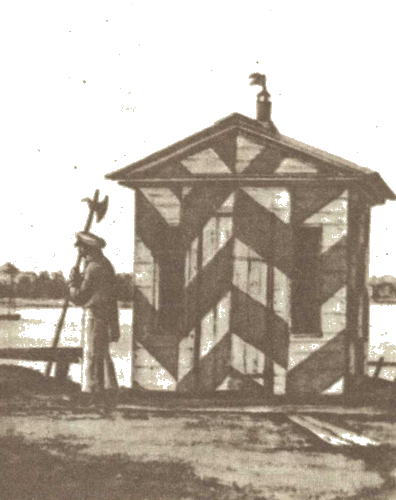
Будочник. Фрагмент акварели Н. Чернецова. 1830-е годы.
Гоголь жаловался на лень, на отсутствие вдохновения.
Друзья не понимали, что с ним творится. Плетнев считал, что одна из причин бездействия Гоголя — холодная квартира, которая вынуждает бегать из дому и не располагает к усидчивым занятиям. Квартира действительно попалась холодная. К душевным терзаниям прибавлялись физические. Гоголь жестоко мерз, проклинал гнусный петербургский климат и навьючивал на себя все, что было под рукой. Всякого, у кого в комнатах термометр показывал пятнадцать градусов тепла, он считал счастливцем.
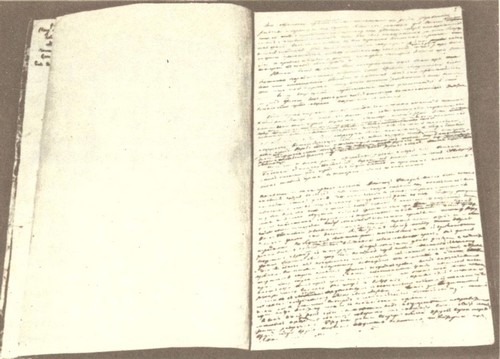
Рабочая тетрадь Гоголя.
В мае, когда потеплело, занялся приисканием новой квартиры. Нашел не сразу. В конце июня писал матери: «Пользуясь тем, что многие оставили город, я ищу теперь себе другую квартиру, потому что старая надоела мне до смерти. Она меня заморозила зимою».
Новая квартира отыскалась недалеко от старой, на Малой Морской улице, в трехэтажном доме придворного музыканта Лепена.

Дом Лепена на Малой Морской улице, где в 1833–1836 годах жил Гоголь. Акварель И. Баганца. Середина XIX в.
Малая Морская принадлежала к числу лучших улиц Петербурга. Одним концом она упиралась в Невский проспект. От нее было рукой подать до набережной Невы. Но квартира Гоголя не отличалась роскошью: две маленькие комнаты с перегороженной передней в третьем этаже, вход со двора по темной лестнице. Сюда и перебрался Гоголь с Якимом и Матреной и небогатым своим скарбом.
Здоровье его оставляло желать лучшего. Он плохо переносил городскую духоту и снял дачу в Стрельне, неподалеку от Петербурга.
Уехать в Васильевку не имел возможности: жалованья в институте не получал, ничего не печатал. А домашние дела внушали беспокойство. Муж Маши — Трушковский, порядочный фантазер, уговорил Марию Ивановну завести кожевенную фабрику и шить сапоги на продажу. Зная непрактичность и доверчивость матери, а также положение дел на Украине, где не найдешь покупщиков, Гоголь всячески отговаривал от рискованной затеи, но не преуспел и ждал новых бед.
На даче оставался он до конца августа, а затем уже прочно обосновался в новой квартире на Малой Морской. В сентябре, отвечая на письма Погодина, изливал душу: «Ох братец! зачем ты спрашиваешь что я пишу, что я затеваю, что у меня написано? Знаешь ли ты, какой мне делаешь вопрос, и что мне твой вопрос? Ты похож на хирурга, который запускает адский свой щупал в пылающую рану и доставляет больному самую приятную забаву: муку. Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов!.. Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою… Боже, да будет все это к добру!»
Верно, в эти нелегкие дни пристрастился Гоголь писать по ночам, стоя у конторки. Яким приоткроет дверь, посмотрит неодобрительно, давая понять, что в такую пору все добрые люди уже не первый сон видят, а он махнет рукой, — мол, отстань, не твое дело, убирайся, — а то и чертыхнется сердито. И скроется заспанная Якимова голова, что-то бормоча себе под нос. И опять тишина. Только свеча потрескивает, перо скрипит, да, нарушая ночное безмолвие, изредка донесется с улицы стук запоздалых дрожек, или уныло-протяжный окрик будочника «кто идет?», или мерный топот кавалерийского патруля.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Хочется рисовать
Хочется рисовать 4 декабря 1995 года83°33’29’’ ю. ш., 80°35’24’’ з. д.День плохой, поземка и дорога все время вверх. Когда идешь, много думаешь о своих картинах – и хочется рисовать, а приезжаешь домой – и в голове
Хочется быть одному
Хочется быть одному 8 декабря 1995 года84°21’13’’ ю. ш., 80°39’46’’ з. д.День хороший, прошел 13 минут за 10 часов 30 минут, это рекорд, я доволен. Была радиосвязь, там сказали, что для меня есть послание, передадут во время следующей связи, это значит послезавтра. Я выхожу
Мне уже хочется участвовать в Vendée Globe
Мне уже хочется участвовать в Vend?e Globe 30 апреля 1999 года. Атлантический океан04°32’ ю. ш., 34°20’ з. д.Ночь прошла спокойно, но на рассвете ветер начал меняться, и пошли шквалы один за другим.Идет дождь, ветер порывами. Если такой ветер продержится до завтра, то где-то
«Мне хочется с тобою увядать…»
«Мне хочется с тобою увядать…» Мне хочется с тобою увядать, Нет силы все с начала начинать, Слабее ревностность души по дому, Сильнее жалость ко всему земному. Нет ничего печальней рук твоих, Когда ты голову кладешь на них И думаешь с открытыми
II. «Хочется жить без конца»
II. «Хочется жить без конца» «Хочется жить без конца». Луг так безбрежно росист. Так молодого лица Очерк томительно чист. Хочется жить без конца, И почему и не жить, Коль золотого венца Месяц не хочет сложить. Хочется жить и любить, И не любить почему В эту весеннюю ночь, В
«Мне не хочется думать сейчас ни о чем…»
«Мне не хочется думать сейчас ни о чем…» Мне не хочется думать сейчас ни о чем, Наслаждаюсь прощальным вечерним лучом, Песней птицы далекой и тем, что во мне Зародилось, живет и цветет в глубине. Эта музыка, этот звучащий цветок Так приходит нежданно, в таинственный
СПАТЬ ХОЧЕТСЯ
СПАТЬ ХОЧЕТСЯ Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него — убийцы.На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар
«Мне хочется немного оторваться!»
«Мне хочется немного оторваться!» Как накликал Мартин: его пожарный расчет вызвали на собственную улицу — горел магазинчик скобяных товаров. Домишко ветхий, но ведь и до беды недалеко — ветер сильный, рядом сараи, а через два дома расположен и его собственный дом.Стоя на
Работать хочется!
Работать хочется! Надо же, как у нас на работе хорошо! На улице дождь, осень, слякоть… А на работе тепло, сухо, уютно… Работать хочется! Вот только надо сначала чайку крепкого выпить. А то аж глаза слипаются, до чего на работе хорошо!Розалия Львовна, и мне чайку, пожалуйста!
47. Можно всё, что хочется
47. Можно всё, что хочется Общих интересов у Монро и Миллера оказалось очень немного. Мэрилин, безусловно, женщина умная. Но Миллер – мудрец, философ, мыслитель. Они с трудом находили общие темы для разговора. И Миллер, живший рядом с Монро, был бесконечно от неё далёк –
Пить хочется
Пить хочется Всех мучила жажда.Первыми на поиски воды поползли Игнатий Кригер и слесарь из Лодзи Берестецкий. Буженяк сказал им, что на Галицкой улице под артезианским колодцем лопнула водопроводная труба. Они поползли к ней круглым отводным каналом (семидесяти пяти
Как хочется жить!
Как хочется жить! Мы подъезжали к. аэродрому, где нас ждал самолет с красным крестом, чтобы отвезти Губанова и меня в ленинградский госпиталь: раны еще не затянулись. Перед отлетом хотелось повидаться с однополчанами, узнать последние новости. Но мы опоздали. Друзья уже
А мне все хочется о прошлом, уж простите.
А мне все хочется о прошлом, уж простите. В пятом томе "МВП" Каспаров много и развернуто пишет о том, что, если бы в 1975-м году состоялся матч Фишер-Карпов, то Карпов имел бы хорошие шансы на победу. И именно страхом поражения от Карпова объясняется отказ Фишера защищать свое