Глава 1 О себе в связи с Сахаровым и ФИАНом
Глава 1
О себе в связи
с Сахаровым и ФИАНом
Волей судьбы я оказался так или иначе связанным и с секретным атомным городом, и с ФИАНом, и с правозащитным движением. Мои школьные годы прошли в Арзамасе-16 — советском Лос-Аламосе, возведенном на месте знаменитой Саровской пустыни. О назначении города мы, дети, конечно, не знали; в ответ на докучливые вопросы «Что там все время бухает в лесу?» взрослые почему-то всегда начинали смеяться и отвечали стандартно: «Пеньки взрывают». В лесах располагались «площадки», где производились экспериментальные взрывы — естественно, не ядерные. Помню популярное тогда четверостишие:
Эх, Протяжка ты, Протяжка,
Мой родимый уголок.
И зачем на это место
Черт корягу приволок?
Протяжка — небольшая деревня километрах в десяти от города, крайняя точка «объекта», там был железнодорожный КПП. Протяжка, Саров, Дивеево, речка Сатиз — употребление за пределами объекта любых слов, способных идентифицировать его географическое положение, было абсолютным табу. Мы чувствовали себя партизанами, причастными великой тайне. И вдруг, 25 ноября 1990 г. «Комсомольская правда» все рассказала всему свету; жаль, что Андрей Дмитриевич не дожил до этого исторического момента. (19 июля 1994 г. я присутствовал на парламентских слушаниях по проблемам закрытых территориальных образований (ЗАТО). Всем, включая журналистов, раздавали информационный бюллетень, в котором, в частности, сообщалось, что таких ЗАТО на территории РФ функционирует 35, в том числе в системе Минатома — 10! И местоположение и численность населения раскрыли. Скучно жить без тайны.) Сахаров работал на объекте с 1950 г., а мой отец Л. В. Альтшулер — с 1947 г. Работала там и моя мама Мария Парфеньевна Сперанская (см. об этом периоде в сносках [1, 3, 4], а также некоторые статьи этого сборника). Мой брат Александр, который на 6 лет младше, учился в одном классе с Таней Сахаровой — старшей дочерью Андрея Дмитриевича и Клавдии Алексеевны Вихиревой. Одно время наша семья и Сахаровы жили рядом — коттеджи через дорогу. Но это было уже после того, как в 1956 г. я уехал с объекта. В тот период я с Андреем Дмитриевичем не пересекался.
Познакомился я с Сахаровым в 1968 г., когда он согласился быть оппонентом моей кандидатской диссертации по общей теории относительности. Защита состоялась в январе 1969 г. в ФИАНе. В тот день было две защиты: моя и А. Е. Шабада. Мы с Толей Шабадом учились вместе еще на физфаке МГУ. Значительно позже, в 1989 г., он стал доверенным лицом Сахарова на выборах в народные депутаты СССР (его чрезвычайно живой и интересный рассказ об этом периоде см. в книге [2], с. 111). Позже он — народный депутат РСФСР, затем — депутат Государственной думы. Тогда, в 1969 г., Толя работал в ФИАНе. Я же работал в другом месте, хотя с ФИАНом был связан всю жизнь. Руководителем моего дипломного проекта в 1962 г. был профессор В. Я. Файнберг, много лет я посещал вторничные «таммовские» семинары. (После смерти Игоря Евгеньевича руководителем семинара стал Е. Л. Фейнберг.) Поступил я на работу в Отдел теоретической физики ФИАНа лишь в июле 1987 г. — это была инициатива Андрея Дмитриевича после его возвращения из Горького.
Интерес к общественным проблемам я унаследовал от отца, так же как интерес к физике. Постепенный и мучительный переход на значительно более критические, «антисоветские» позиции произошел уже в Москве, в университете под влиянием моих друзей Павла Василевского и позже Льва Левитина (автора самиздатской брошюры: Ю. Гесин «О диктатуре пролетариата», Ленинград, 1970 г.). В 1968 г. мы с Павлом Василевским написали так называемую «Ленинградскую программу» [5], а через два года статью о советском военно-промышленном комплексе как главном факторе, определяющем жизнь страны [6]. Вывод, сделанный на основании анализа открытой советской статистики: доля военных затрат в национальном доходе СССР составляет 40–50% — цифра для мирного времени невиданная в истории. Странно читать сегодня в газетах примерно то же самое [7]. (Подробнее об этом см. [8].) Экземпляр этой статьи я принес на ул. Чкалова, а через несколько дней в ФИАНе Андрей Дмитриевич сказал мне, что прочитал ее, и добавил: «Я рад за тебя». Это была, конечно, высшая похвала. Было это в конце 1971 или в начале 1972 г.
Думаю, что Андрей Дмитриевич и без нас все это понимал. («Вот он наш военно-промышленный комплекс…» — Сахаров в «Воспоминаниях» [1] (гл. 15, с. 281), о совещании в Правительстве в 1959 г. с участием Д. Ф. Устинова и председателя всесильной Военно-промышленной комиссии при Совете Министров СССР Л. В. Смирнова.) Невозможно понять общественную деятельность Сахарова, если не осознавать существование этого угрожающего жизни на Земле сверхзасекреченного, но чудовищного «носорога в лодке» (см. рис.). (Картинку эту я продемонстрировал на I Сахаровской конференции по физике (Москва, ФИАН, май 1991 г.); иллюстрирует она универсальный научный метод Сахарова [9] — метод имплозии, в данном случае в применении не к бомбе, а к решению совсем иного рода проблемы — выезда из СССР Лизы Алексеевой, см. раздел 35.) Опасное непонимание либеральными кругами Запада этого глобального фактора — одна из главных проблем, которую пытался решить Сахаров. Но словами, увы, никого ни в чем убедить нельзя. Убеждает только жертва. (Подробнее об этом ниже, в разделе 4–3.)
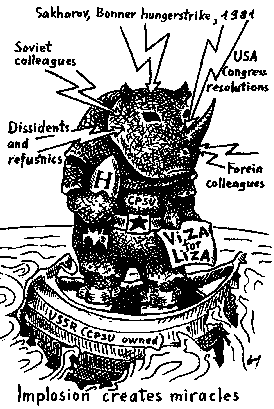
Рис. М. Дубах
Обе наши с Павлом Василевским статьи «измышлялись и распространялись» в условиях строжайшей конспирации и, конечно, подписаны вымышленными именами и даже городом (Ленинград). Что делать! У каждого из нас была семья, а жертвовать близкими (и дальними) ради каких-то своих любимых идей — это мы уже проходили в 1917-м и позже. А Достоевский писал, что все счастье мира не стоит слез ребенка. Дилемма эта в принципе неразрешима; в попытках разрешить ее в общем виде тоже есть что-то нечеловеческое. Тем не менее жизнь эту неразрешимую проблему ставила постоянно — перед Сахаровым острее, чем перед кем-либо другим. Именно потому, что сам он пользовался особым иммунитетом. Декабрь 1974 г. — угрозы Ефрему Янкелевичу и его с Таней Семеновой годовалому сыну Матвею: «Имей в виду, если твой тесть не прекратит свою так называемую деятельность, ты и твой сын будете валяться где-нибудь на помойке!» [1] (гл. 19, с. 576). Это были не шутки. 9 августа 1975 года Мотя неожиданно заболел (судороги, коматозное состояние), его чудом удалось спасти. Андрей Дмитриевич подробно описывает этот эпизод в «Воспоминаниях», заключая следующими словами:
«Одной из особенностей дела Моти является юридическая недоказуемость преступления, если оно имело место (в чем мы тоже не можем быть уверены). С такой ситуацией мы еще не раз будем встречаться — это одно из преимуществ «государственной организации» (конечно, до поры до времени, до „Нюрнбергского процесса“)» [1] (с. 593).
Помню, я тогда, узнав, что Мотя попал в больницу, приехал к Сахаровым. Дома были только Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич. Я пытался отстаивать тезис (вслух ничего не говорил — только на бумаге), что надо открыто заявить, что это дело рук КГБ — это, может быть, создаст некий иммунитет от повторения подобных опытов. Андрей Дмитриевич возражал, что нельзя такое заявлять, не имея к тому достаточно веских данных. Конечно, он был прав. Но ведь как было страшно! В разговоре поминалась и секретная лаборатория убийств, позже, говорят, упраздненная Андроповым; но кто что знает. Заложничество близких — главная трудность, стоявшая перед Сахаровым на протяжении многих лет его общественной деятельности. Вот он и бился, стараясь найти выход из безвыходных ситуаций.
В 1972 г. я подписал организованные Сахаровым коллективные обращения против смертной казни и за амнистию политзаключенных. Однако при публикации моей подписи там не оказалось — Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна объяснили, что вычеркнули меня, так как те же обращения подписал мой отец и они решили, что на одну семью довольно, дело все-таки рискованное. Я тогда немного обиделся, что со мной обошлись как с маленьким.
В июне 1975 г. я написал письмо американским космонавтам — участникам совместного полета «Аполло-Союз». В письме я просил их ходатайствовать перед Правительством СССР, чтобы оно разрешило жене академика Сахарова поехать для лечения глаз в Италию, в чем ей отказывали уже полгода. (Необходимость такой поездки, невозможность лечения в СССР — это тоже было искусственно создано, см. [1], гл. 19.) Идея была простая и, по-моему, весьма конструктивная: самый факт обращения к космонавтам создавал вероятность, пусть даже совсем малую, того, что они обратятся с ходатайством к Правительству СССР прямо из космоса. А поскольку такой уровень гласности для КГБ заведомо неприемлем, то возникала надежда на уступку. Письмо было передано иностранным корреспондентам за месяц до полета и вскоре прозвучало по радио. Вместе с тем я далек от мысли, что именно это сыграло роль в получении Еленой Георгиевной разрешения на поездку. Было очень много ходатайств, а Вилли Брандт и король Бельгии Бодуэн лично просили Брежнева.
Помню, как в декабре удалось услышать по радио выступление Елены Георгиевны на церемонии вручения премии в Осло (не путать с Нобелевской лекцией А. Д. Сахарова, которую она зачитала на следующий день), и как это было сильно: «…сейчас, когда мы собрались в этом зале, чтобы отметить радостное событие, академик Сахаров стоит перед зданием суда в Вильнюсе — суда, где судят правозащитника Сергея Ковалева» (это очень примерный пересказ по памяти). Встретив через несколько дней Андрея Дмитриевича на семинаре в ФИАНе (он уже вернулся из Вильнюса), я поделился с ним своим впечатлением от речи Елены Георгиевны. «Ведь она ее сама придумала!» — сказал он с восхищением.
В конце письма космонавтам я просил также американских участников совместного полета заступиться за автора письма, если с ним что-то случится. Эта деталь весьма характерна. Это было мое первое открытое заявление и хорошо помню, как было неуютно. Чувство такое же, как когда входишь в холодную воду, да и глубина неизвестна. Но потом быстро привыкаешь, входишь во вкус. Не говоря о множестве подписанных коллективных обращений «В защиту», после ареста Орлова, Гинзбурга, Щаранского я сочинил несколько индивидуальных писем-статей («О международной защите прав человека», «Еврокоммунизм и права человека»), которые неоднократно транслировались «голосами». Фамилия в эфире звучала, а жизнь шла своим ходом, как будто и не обо мне речь. Так же было и с «Обращением в ООН» в феврале 1980 г. (см. гл. 31). Впрочем, одна реальная неприятность все-таки случилась: почти везде («День поэзии», «Юность») перестали печатать стихи моей жены — поэта Ларисы Миллер. «Каждый раз рядом с вашим именем возникает разговор о вашем муже („диссидент“, „связан с Сахаровым“…). Это так широко разошлось и я думаю, страшно мешает вам публиковаться» — так сказала Ларисе Маргарита Алигер в начале 80-х. Впрочем, «есть один странный орган, в котором меня печатают: „Сельская молодежь“, дай ей бог здоровья». Это слова из письма Ларисы друзьям в Израиль осенью 1982 г. Напомню, что главным редактором «Сельской молодежи» был в те годы Олег Попцов.
Лафа кончилась весной 1982 г. 17 марта в Фуркасовском пер., дом 1, в Главной приемной КГБ СССР моей жене предъявили толстую папку. Сказали, что это тянет на хороший срок: «ваш муж 10 лет не увидит своих детей». Худшего удалось избежать благодаря кампании защиты, инициированной моими старыми, еще со времен учебы на физфаке МГУ, друзьями, которые к тому времени уже 10лет жили в Израиле и США: Димой Рогинским, Павлом Василевским, Львом Левитиным, Шимоном Сукевером.
«Контактов с академиком» я не прекратил, но замолчать мне пришлось. Снова настало время анонимных сочинений. Но об этом ниже.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 3 Опасные связи
Глава 3 Опасные связи А теперь я расскажу о том, на что натолкнулся неожиданно, случайно. Долго раздумывал — писать или не писать? Во-первых, достоверных объяснений найденному факту нет, к тому же информация оказалась очень скудная. Однако кому будет интересен текст, из
Глава 22. Связи с общественностью
Глава 22. Связи с общественностью В истории успешных компаний нет действий сложнее, восхитительнее и более способствующих изменению, чем выход в свет, первая публичная продажа акций компании.Это сложно, потому что компания (особенно если это – техническая компания)
Глава 10. Незримые связи
Глава 10. Незримые связи Два дня спустя после приезда мы с мужем пришли к Александре Михайловне. Она, характеризуя положение в Швеции, напомнила, что успехи немцев на фронте активизировали здесь антисоветские элементы, вырос тираж правых и профашистских газет. Шведы
Глава 22 SOS по спутниковой связи
Глава 22 SOS по спутниковой связи Иностранный агент Сидоров завтракает с семьей. По радио передают утренние новости: — Как сообщает газета «Монд», по информации из неофициальных источников, в распоряжении французских спецслужб оказался план русских о танковой
Глава 18 ДК Связи
Глава 18 ДК Связи Отдельное место в истории «Аквариума» занимает ДК Связи. Это милое место закрепилось за нами с конца восьмидесятых и стало основной репетиционной точкой для группы. С этим местом связана целая эпоха в концертной деятельности «Аквариума».Стадионы
Первые встречи с А. Д. Сахаровым
Первые встречи с А. Д. Сахаровым Имена ученых, принимавших участие в разработке всех видов ядерного оружия, были в СССР засекречены. Эти люди не участвовали в общественно-политической жизни страны. Но они не участвовали и в каких-либо открытых научных дискуссиях. Академик
Л. В. Альтшулер Рядом с Сахаровым
Л. В. Альтшулер Рядом с Сахаровым Два послевоенных десятилетия я находился в близком общении с замечательными учеными России и в их числе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Многие грани нашего своеобразного существования отражены в книге А. Д. Сахарова «Воспоминания» [1],
Глава 21 Семейные связи
Глава 21 Семейные связи Весной 1983 года душевный порыв побудил меня отправить Стиву фотографию нашего четырехлетнего ребенка, надевшего огромные черные очки с прикрепленным к ним большим пластиковым носом. Лиза была забавна и мила – маска с очками делала ее похожей на
Глава 9 «Конец связи»…
Глава 9 «Конец связи»… Большинству людей приходится преодолевать неудачные полосы в жизни, но испытание, которому подвергся Ким Филби, было несколько иного порядка. Весь его мир, казалось, разрушился. Блестящая карьера, большие надежды исчезли, растворились, теперь он
Глава VII. Служба связи
Глава VII. Служба связи Эти свёрнутые в трубочку листки тончайшей папиросной бумаги несли во время немецкой оккупации жизнь и смерть. Они содержали сведения, которые любой ценой нужно было переправить в Голландию, Для тайной полиции они представляли улику, необходимую для
Глава 5 Связи с Францией
Глава 5 Связи с Францией Хорошо ли, плохо ли Кассандру и Джейн обучали французскому языку у «мадам Ля Турнель» — неизвестно, но дома их ждало кое-что получше. Их кузина Элиза, свободно говорившая по-французски, собралась на Рождество в Стивентон вместе со своей матерью и
Список научных трудов, составленный А.Д. Сахаровым
Список научных трудов, составленный А.Д. Сахаровым
«В‹олкон›ский заключен сам в себе, не в себе…»
«В‹олкон›ский заключен сам в себе, не в себе…» В‹олкон›ский заключен сам в себе, не в себе – в мире. (Тоже? одиночная камера, – с бесконечно-раздвинутыми стенами.) Эгоист – породы Гёте. Ему нужны не люди – собеседники (сейчас – не собеседники: слушатели,