Банзай!
«Поединок», по словам одного из первых серьезных комментаторов повести, появился «после поражения при Мукдене и страшной Цусимской катастрофы, когда русское общество более чем когда-либо было подавлено совершавшимися событиями и искало причин наших неудач»[139].
Если точнее, сборник поступил в продажу в дни Цусимской катастрофы. 14–15 мая 1905 года в проливе между Кореей и Японией, к востоку от острова Цусима, произошло морское сражение, определившее исход войны. Российская 2-я эскадра флота Тихого океана была разгромлена Императорским флотом Японии. Большая часть русских кораблей была потоплена противником (в том числе флагманский корабль; командующий эскадрой получил тяжелое ранение в голову и попал в плен) или затоплена своими экипажами, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах и лишь четырем удалось вернуться домой. Общественный резонанс был колоссальным: и ругались, и плакали, и стонали от бессилия и досады. Это был предел, за которым разочарование руководством страны и армией уже ничто не могло сдержать.
Революционные политические силы не упустили момента. Играя на уязвленном национальном самолюбии, они начали агитационную атаку. Похоже, одной из первых взрывные возможности «Поединка» оценила газета правых земцев «Слово». 22 мая 1905 года она ехидно заявила: «Удивительно ли, что полк, жизнь которого описывает автор, окончательно провалился на смотру... Удивительно ли, добавим, что мы проваливаемся на большом кровавом смотру на Дальнем Востоке»[140]. И пошло-поехало. Леволиберальная газета «Наша жизнь», созданная членами Союза освобождения, заявила, что другой армии и не может быть «в бюрократическом государстве, где связана воля и мысль народа»[141]. В общественное сознание вбрасывался тезис: «Поединок» объясняет причины поражений русской армии на Дальнем Востоке. Этого оказалось достаточно. Начался бум.
«Проект Горького» успешно осуществился: повесть Куприна не только подогрела неприязнь либеральной общественности к «военщине», но и начала разъедать изнутри саму военную среду. Но Горький хотел именно этого. «Великолепная повесть! — заявил он в конце июня. — Я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неизгладимое впечатление... <...> Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм!»[142] Ту же мысль озвучит большевик А. В. Луначарский, прибывший в октябре 1905 года из-за границы для подготовки вооруженного восстания. Назвав разоблачающие сцены «Поединка» «обращением к армии», он выразит уверенность, что повесть разбудит в офицерстве «голос настоящей чести»[143].
И офицерство, разумеется, заинтересовалось, что за «Поединок» такой. Тем более что почва уже была подготовлена книгой Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» и многие воспринимали повесть Куприна как ее русскую версию. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, бывший в 1905 году молодым офицером и служивший в 1-м стрелковом Туркестанском батальоне в Ташкенте, вспоминал: «Перевод с немецкого книги Бильзе “Из жизни маленького гарнизона” и в особенности роман Куприна “Поединок” вызвали самую живейшую дискуссию. Многие в романе увидели если не себя, то своих знакомых. Как это ни горько, а нужно признать, что типы в романе Куприна схвачены верно. В нашем батальоне не нашлось дон-кихотов, которые бы посылали Куприну вызовы на дуэль, как это было в некоторых полках, расположенных в европейской части России. Во всяком случае, кое на кого роман “Поединок” произвел отрезвляющее действие, и не только на офицеров, но и на их жен»[144].
Как и следовало ожидать, офицерство разделилось на два лагеря: тех, кто не принял «Поединок» и счел его личным оскорблением, и тех, кто, призадумавшись, согласился, что Куприн во многом прав. Последние, группа офицеров Петербургского военного округа, уже в конце мая отправили ему официальный благодарственный адрес с двадцатью подписями: «Язвы, поражающие современную офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении всей русской жизни»[145]. Сегодня в РГВИА можно прочитать материалы дознания по этому делу: выявление офицеров, подписавших адрес[146]. Фразу о язвах поставил эпиграфом к своей статье «Обреченные» (Мир Божий. 1905. № 8) Федор Дмитриевич Батюшков. Он сравнил сцену полкового смотра в «Поединке» с картиной И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» (1903): и там и там, по мысли Батюшкова, наружно блестящая и мощная машина, обреченная на скорую и страшную гибель.
Оздоровление России, о котором мечтали смельчаки, подписавшие адрес, уже подготавливали эсеры и эсдеки, — и те офицеры, что одобрили «Поединок», в грядущих кровавых осенне-зимних событиях вооруженного восстания в Москве всерьез задумывались, выполнить ли команду «Пли!» или только сделать вид, что выполняешь. Кстати сказать, по воспоминаниям участников первой большевистской боевой группы, в те весенние дни 1905 года у них были сторонники из гвардейских офицеров, мечтавшие о перевороте и искавшие сотрудничества с революционерами[147]. Некоторые из тех, кто не мечтал, сломаются в недалеком будущем. Мария Карловна вспоминала, как к ним домой явились офицеры лейб-гвардии Семеновского полка Назимов[15*] и князь Федор Николаевич Касаткин-Ростовский[16*]. У обоих была дурная репутация: все знали, что они участвовали в расстреле толпы 9 января 1905-го на набережной Мойки. Когда же полк во время декабрьских беспорядков в Москве и Голутвине снова был отправлен для подавления митингующих, наступил предел. Назимов буквально рыдал: их, армейскую элиту, отправили воевать с собственным народом! Стрелять в мирное население! Он день за днем записывал все свои мысли в тетрадь и хотел бы отдать ее Куприну. Однако больше не пришел.
Трудно сказать, кого тогда было больше: поклонников или противников «Поединка». Бесспорно одно — равнодушных не было. Куприн попал в нерв событий. Он оказался отважнее Бильзе, выпустившего свою книгу под псевдонимом, — поставил подлинное имя. Очень скоро о «Поединке» узнали его бывшие сослуживцы по 46-му Днепровскому пехотному полку. Узнали быстро, потому что в их Офицерском собрании, расписанном в повести всеми красками, теперь работала городская библиотека. Современник, служивший тогда писарем в штабе 12-й пехотной дивизии, вспоминал, что на «Сборник “Знания”» немедленно был наложен запрет. Тех, кто все-таки попадался за чтением «Поединка» и других вещей Куприна, наказывали[148].
Можно представить, что пережили бывшие начальники Александра Ивановича. Например, комполка Байковский, который пятый год был в отставке и время для чтения имел. Неизвестно, содрогнулся ли генерал Драгомиров, которого после поражения под Мукденом император планировал назначить главнокомандующим русской армией. Генерал скончался 15 октября 1905 года на своем хуторе под Конотопом, вдали от Петербурга, в котором теперь издавались такие повести. К счастью, не докатился позор до генерал-майора Ивана Николаевича Назанского (предшественника Байковского), чья фамилия в повести досталась спившемуся философу-революционеру. Он умер еще в 1902 году.
Как-то Борис Лазаревский, приятель Куприна, опросил некоего офицера 46-го Днепровского пехотного полка и поделился сведениями о прототипах героев повести с Фидлером: «Шульгович — А. Н. Байковский, генерал-майор в Киеве; Петерсон — Плисова (в Киеве); Бег-Агамалов — Бек Буазаров в городе Проскуров <...>; Осадчий — Гржегоженский[17*] (Харьков); Слива — Андрусский; Федоровский — Стемиковский (±); Дорошенко — Дорошевич; Лех — Сивоха (±); Арчаковский — Кочеровский, Тальманы — Волжинские (он — в Проскурове, она ±), Липский — Ващенко»[149]. Как видим, некоторые персонажи до сих пор служили в Проскурове, то есть, с точки зрения автора повести, продолжали влачить животное и бездуховное существование.
Особенно взбешен был «горец» Бек-Буазаров, узнавший себя в Бек-Агамалове, свински напивающемся в публичном доме (глава XVIII). Так Куприн спустя много лет отомстил своему однополчанину за эпизод с предложением застрелиться, о котором мы рассказывали выше. Желая драться с Куприным на дуэли, Бек-Буазаров несколько раз приезжал то в Петербург, то в Москву, но не смог разыскать обидчика[150].
Очень скоро писатель получил коллективный протест от своих бывших сослуживцев, на который невозмутимо отвечал: «Я не имел в виду исключительно свой полк. Я не взял оттуда ни одного живого образа»[151]. Интересно, что это цитата из интервью для ведущей в то время австрийской либеральной газеты «Neue Freie Presse» («Новая свободная пресса»). «Знание» оперативно познакомило европейского читателя с подноготной русской армии: «Поединок» (еще в рукописи!) был переведен на немецкий, французский, польский, шведский, итальянский языки.
Особенно показателен французский перевод 1905 года. Обложка была оформлена в подражание обложке книги Бильзе, и название поставили такое: «Une petite garnison Russe (Le Duel)» — «Из жизни маленького русского гарнизона (Поединок)». А под фамилией Куприна значилось: «Ancien Officier de l'Arm?e Russe» (бывший офицер русской армии). То есть читателю давали понять, что повесть не плод вымысла, автор знает, что пишет. Заметим, что с сентября 1905 года представителем и защитником авторских прав Куприна (и других писателей-«знаньевцев») в Европе стало социал-демократическое издательство «Демос», созданное по инициативе ЦК РСДРП. Сначала оно работало в Женеве, а с декабря 1905 года было перемещено в Берлин.
Итак, скандал состоялся. Конечно, громко возмущались военные издания: солидная газета «Русский инвалид», которую Куприн читал еще с кадетских лет, «Военный голос», «Разведчик». Своего рода итог этим публикациям с присоединением собственного негодующего голоса подведет Александр Иванович Дрозд-Бонячевский в работе «“Поединок” с точки зрения строевого офицера» (1910). Автор аргументированно доказывал, что Ромашов — alter ego Куприна — на самом деле простой неудачник и слабак: «Нашему солдату далеко не по душе эти тряпичные, нестроевые Ромашовы, которые только и способны, что изгадить смотр!»[152] Назанский же, еще одно alter ego, вообще человек конченый, «алкоголик и эсер по убеждениям»[153]. Дрозд-Бонячевский счел все его монологи чистой агитацией: «...самая решительная и страстная агитация против армии ведется через посредство Назанского <...> Ну разве это не та же пропаганда, которая разбрасывается повсюду всеми этими “новыми, гордыми и смелыми людьми”? Но пропаганда, облаченная в художественную форму, — не анонимная, а подписанная крупным литературным именем!»[154] В 1909 году Дрозд-Бонячевский станет комендантом Гатчины, а Куприн в 1911-м купит там дом. Их противостояние продолжится.
Сбылась мечта нашего героя: он, приютский мальчишка с тяжелыми комплексами, не поступивший в академию и неудавшийся офицер, стал знаменитостью. Причем не как «зять Давыдовых», а сам! Его осаждали корреспонденты и узнавали на улице. Он всем доказал, что у него было иное, высокое предназначение, и теперь уже не собирался считаться ни с кем и ни с чем. «Слава и деньги дали ему одно, — утверждал Бунин, — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся»[155].
Однако слава вышла геростратова. На долгие годы Куприн обрек себя на унизительные сцены. Одна из них запомнилась Людмиле Сергеевне Елпатьевской, Лёде: в конце 1906 года на каком-то званом ужине на Куприна обрушился офицер, только что вернувшийся с Дальнего Востока. Еле разняли[156]. Другую сцену, случившуюся в 1910 году в Одессе, вспоминал борец Иван Заикин, близкий друг Куприна. Он и Александр Иванович пировали с шумной компанией в ресторане одесского отеля, и там же наверху, в ложах, проходил банкет какого-то полка. Офицеры, увидев Заикина, во главе с генералом подошли к барьеру ложи с бокалами в руках:
«Генерал сказал:
— Пью за здоровье борца и авиатора Ивана Михайловича Заикина!
— Благодарю вас, разрешите, ваше превосходительство, познакомить вас с моим наилучшим другом Александром Ивановичем Куприным.
Генерал шевельнул усом, как таракан, и молчит. Я второй раз:
— Благодарю, ваше превосходительство, разрешите представить моего наилучшего друга.
Куприн встал. Генерал будто не слышит и не видит. Я третий раз говорю:
— Ваше превосходительство, познакомьтесь.
— А, это тот самый Куприн, который написал “Поединок”. Я не считаю возможным подать ему руку»[157].
Далее было еще унизительнее: свита Куприна начала стыдить генерала, а тот просто развернулся и ушел. Куприн якобы сказал: «Вот такими я их и вывел в повести “Поединок”»[158]. То есть — обиделся!..
Разумеется, Александр Иванович с замиранием сердца ждал отзыва Льва Толстого. Не знаем, дождался ли. По воспоминаниям, Толстому читали «Поединок», он слушал очень внимательно, хвалил хорошее знание армейской жизни и образ Шульговича. Однако отмахнулся от сцены братания Ромашова с Хлебниковым; счел ее фальшивой. О монологах Назанского сказал: «Жалкое это рассуждение Назанского. Это — Ницше»[159]. «Что за мерзость речь Назанского», — написал он дочери Марии 15 октября 1905 года. — Я не читаю этих гадостей, сделал исключение и не рад»[160].
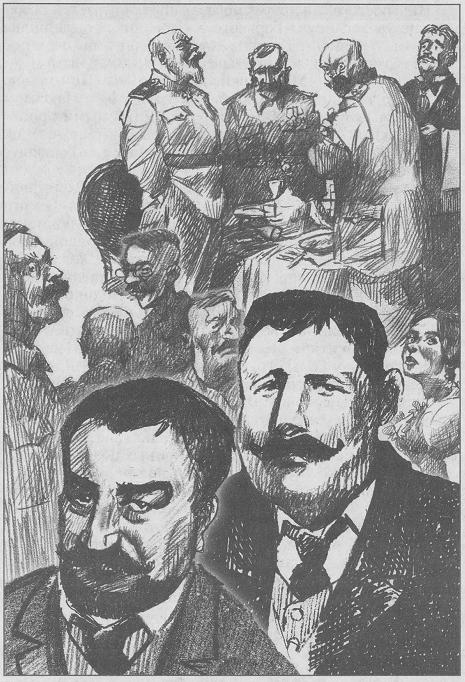
«Такими я их и вывел в “Поединке”», — зло сказал Куприн Ивану Заикину. Рис. Василия Вознюка. 2016 г.
Ни Толстого, ни других образованных читателей обмануть не удалось: рука Горького в «Поединке» была видна отчетливо. «Герой г. Куприна... мыслит по-горьковски со всеми его специфическими вывертами и радикализмом», — утверждала газета «Московские ведомости»[161]. По мнению «Русского вестника», близость к «“великому” Максиму» испортила купринскую повесть «тенденциозными проповедническими страницами», а в основе «злобно-слепой критики армии» лежит «тот же рецепт Максима Горького: “Человек! Это звучит гордо”»[162].
Словом, Куприна сочли очередным «подмаксимовиком», а это налагало определенные обязательства. Он понял, что нужно вживаться в новую роль — революционера, и старательно «учил текст». Полного перевоплощения, впрочем, не выйдет. Погоны ведь прирастают к коже...
Знал ли Александр Иванович, что представлял собой Горький весной–летом 1905 года? О том, что он оказывал финансовую помощь большевикам и был в курсе готовящегося вооруженного восстания? Догадывался ли о том, кто такой «Никитич», Леонид Борисович Красин, которого он встречал у Горького? Красин был прислан Лениным из Женевы возглавить боевую группу большевиков. Вряд ли Александр Иванович был посвящен в детали. У Горького было минимум две причины, чтобы ему не доверять: его офицерское прошлое и его пьянство. Пьющие люди ненадежны. А вот использовать в агитационных целях — это да.
Летом 1905-го Горький жил под надзором в финской Куоккале, знал о том, что его товарищи по партии через Финляндию ввозят в страну оружие, что распространяют его среди петербургских рабочих, что уже установили контакты с Кавказом, Уралом, Латвией, Эстонией... Самуил Яковлевич Маршак, любимец Горького, вспоминал его планы в то время: «...займем арсенал, возьмем главный штаб, телеграф, государственный банк». Во время Декабрьского восстания в Москве в его московскую квартиру, охраняемую кавказской дружиной, будет свозиться оружие для боевых отрядов.
Куприн бывал у Горького и один, и с Марией Карловной. Долгожданная слава их окончательно помирила. Принимая поздравления, в каждой компании они рассказывали одно и то же. «Вскоре после того как “Поединок” появился в печати (и имел такой грандиозный успех), — вспоминал Чуковский, — Куприн стал очень картинно, со множеством забавных подробностей рассказывать друзьям и знакомым, как он дописывал последние главы повести и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней... или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковым выражением лиц и смеялись одинаковым смехом»[163].
Обоим особенно запомнился визит к Горькому 5 июня 1905 года, когда они были приглашены на авторскую читку пьесы «Дети солнца». Дело было в «Пенатах», усадьбе Ильи Ефимовича Репина. Тогда-то Куприн и познакомился с Репиным, любовь к которому сохранит до конца жизни. Атмосферу того дня передает рисунок Репина: Горький читает пьесу; опустив голову и весь превратившись в слух, сидит Владимир Васильевич Стасов; подперев голову рукой, пристально смотрит на Горького Гарин-Михайловский... Куприна не сразу увидишь: он находится за спиной Горького, на отлете, и выражение лица скорее равнодушное. На рисунке нет ни Леонида Андреева, ни Петрова-Скитальца, которые тоже гостили у Горького, но на читку не пошли, слышали пьесу и раньше.
Куприн завидовал Андрееву и Скитальцу, что не может себе позволить общаться с Горьким так, как они. Даже после выхода «Поединка» он не стал «своим». Как вспоминала Мария Карловна, когда они возвращались из Куоккалы, зашел такой разговор:
«— А Скиталец сказал сегодня интересную вещь, — вспомнил Александр Иванович. — Горький предлагал ему быть на “ты”, но Скиталец ответил: “Мы с вами не пара. Я горшок глиняный, а вы — чугунный, если слишком близко стоять с вами рядом — разобьешься”.
— Да, конечно, — вздохнул Александр Иванович, — а как ты думаешь, Маша, мне Горький предложит быть с ним на “ты”?
— Нет, Саша, не предложит.
— Так что же, по-твоему, я горшок глиняный?
— Нет, не в этом дело... Ведь Алексей Максимович уже раз сказал тебе, когда вы говорили о дуэлях, и сказал, как ты передавал мне, с раздражением: “Однако крепко сидит в вас, Александр Иванович, офицерское нутро!”
Некоторое время мы молчали»[164].
Однако Куприн не отступился. Он начал упорно бывать в Куоккале, как некогда бывал на даче Чехова. «Он участвовал в прогулках в лес, в традиционных горьковских кострах, увлекательно рассказывая о своей необычайно яркой, полной скитаний и встреч жизни, — вспоминал Юрий Желябужский, сын актрисы Марии Андреевой, в то время гражданской жены Горького. — Видно было, как ему дороги минуты, проведенные с Горьким»[165]. Александр Иванович изводил Горького своими творческими сомнениями, все еще не понимая: он больше не нужен. Горькому было неинтересно слушать о том, что вот как бы оживить Ромашова, да чтобы он проходил какие-то там стадии... И однажды Горький вспылил: «Да что это такое! Что вы все оплакиваете своего Ромашова! Умно он сделал, что наконец догадался умереть и развязать вам руки. По руслу автобиографического течения плыть легко, попробуйте-ка поплавать против течения».
И Куприн вдруг понял и задумчиво поделился с женой: «Знаешь, Маша... я чувствую, что Горький во мне разочаровался. <...> Я перестал интересовать его. Он считает, что он меня исчерпал. <...> Я понял, что у Алексея Максимовича накопилось против меня раздражение и сейчас он не мог или не хотел больше его сдерживать. <...> Видишь, Маша, больше говорить нам с Алексеем Максимовичем не о чем, друг друга мы все равно не поймем»[166].
Теперь уже невозможно установить, когда именно случилось это прозрение. Полагаем, что не раньше конца 1905 года, потому что летом и осенью Куприн еще хотел быть полезен Горькому и «товарищам».
В середине июня, в разгар поездок Куприна к Горькому в Куоккалу, газеты принесли ошеломляющие вести с Черноморского флота. Новенький броненосец «Князь Потемкин Таврический» 12 июня вышел из Севастополя в район Тендровской косы, 14 июня экипаж (свыше семисот матросов) взбунтовался, казнил некоторых офицеров и пошел в Одессу, узнав, что там начались беспорядки. К вечеру встал на внешнем рейде, повергнув городские власти в оцепенение.
Мог ли Куприн оставаться в Петербурге, когда началась такая заваруха в его любимой Одессе?! Биографами этот период освещен путано. В канонической хронологии жизни и творчества писателя, составленной Ф. И. Кулешовым, сообщается, что Куприн прибыл в Одессу только в середине июля 1905 года. Но как быть с записью в дневнике Чуковского: «Я помню его (Куприна. — В. М.) в Одессе... в 1905 (как он прятался в Потемкинские дни на Большом фонтане)»? Конечно, Корней Иванович по прошествии многих лет мог спутать «Потемкинские дни» и «послепотемкинские дни», но мог быть точен. В таком случае дальнейшие события выглядят логичнее.
Если Куприн действительно был в «Потемкинские дни» в Одессе, то видел и слышал страшные вещи. Здесь несколько дней бушевали бунт и погром. Сожгли деревянную эстакаду в порту, пакгаузы и склады РОПиТ, потопили пароходы... Уверенные в поддержке артиллерии мятежного броненосца, какие-то личности заявляли, что Одесса отделяется от России. Хватит ее кормить! Создается независимая Южнорусская республика! Нужно только еще Крым забрать с Севастополем и Черноморским флотом! Моряки не подведут! И на этом фоне «Потемкин» дал несколько залпов по Одессе.
Обыватели не представляли, что это только начало. Люди посвященные (Куприн вполне мог быть среди них) знали, что большевики готовили масштабное восстание на Черноморском флоте, но планировали его позже, осенью. Команда «Потемкина» нарушила их планы, и все пошло наперекосяк. На борту также царила растерянность. Напугав Одессу, 18 июня броненосец покинул порт и куда-то ушел.
Большевики потеряли связь с мигрирующим кораблем. Именно этим мы беремся объяснить реплику в июльском письме Горького писателю Евгению Чирикову: «...Куприн... на днях едет на Кавказ, ему охота поступить командиром на “Потемкина”»[167]. В эти же дни Фидлер записал в дневнике: «Куприн... как мне сказали, на Кавказе. “Что он там делает?” — спросил я. — “Революцию”, — улыбнувшись, ответил Горький»[168]. То же находим в письме Бунина Федорову от 17 июля 1905 года: «Купришка удрал на Кавказ. Видел ли ты его и какое он произвел на тебя впечатление?»[169]
Что же получается? Не успев попасть на борт в Одессе, Александр Иванович поехал разыскивать броненосец на Кавказе. Значит, он был посвящен в планы восстания. В случае успеха в Одессе броненосцу предписывалось идти к берегам Кавказа, лучше всего в Батум, где гарнизон и крепость сочувствовали большевикам, и начинать масштабный бунт.
Хотелось бы понять, командиром чего мог стать Куприн на броненосце? Что он, пехотный поручик, понимал в корабельной артиллерии? Остается предположить, что ему поручили разложить своим «Поединком» еще и флот.
Видимо, не найдя броненосец (25 июня экипаж сдался румынским властям), Куприн снова прибыл в Одессу, откуда 15 июля морем ушел в Ялту. Принято считать, что он пробыл в Ялте, у осиротевших Чеховых, с 15 по 27 июля, однако Мария Павловна Чехова в письме Бунину замечала, что Куприн приезжал всего «дня на три». Где он был все остальное время? Общался в портовых пивных с матросами? Выяснял настроение? Вполне вероятно.
Покидая Ялту, Александр Иванович дал интервью местному репортеру с обещанием: «...у...у...у! Да и работать же буду, как вернусь!»[170] И обещание сдержал: едва вернувшись из Крыма, 30 июля 1905 года, он читал монолог Назанского на большом литературно-художественном вечере в Териоках, устроенном Горьким и Андреевой. Часть сбора пошла на поддержку забастовки рабочих Путиловского завода, часть — в пользу Петербургского комитета РСДРП. «Программа <вечера> сплошь революционная, — вспоминал поэт Иван Рукавишников, также выступавший там. — Настроение взвинчивается с каждым номером. “Настанет время, когда обер- и штаб-офицеров будут бить!” — Зала гудит»[171].
Куприн был прекрасный чтец, это отмечали все современники. И нет ничего удивительного в том, что выступить с монологом Назанского его пригласят и в Севастополь, где Александр Иванович попадет в самое пекло событий.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК