Глава 13 Люди находят друг друга
Глава 13
Люди находят друг друга
Быстро пролетели московские дни. Утром 15 февраля 1860 года поручик Домбровский стоял в рекреационном зале в строю слушателей Николаевской Академии генерального штаба. Ему понравилось, что парадности отдается мало времени в учебной программе академии. Сразу после краткой молитвы («Отче наш…», а для католиков «Pater noster») и гимна «Боже, царя храни» пошли в класс. Первый урок — высшая тактика. Предмету этому уделялось исключительное внимание — десять часов в неделю. Преподавали его самые выдающиеся тактики того времени — генералы Милютин и Драгомиров. С особым тщанием вникал Домбровский в учение о штыковой атаке. В лекциях профессоров он нашел развитие своего глубокого убеждения, вынесенного им из собственного боевого опыта, — о решающем значении штыка в бою.
Как ни насыщены были занятиями дни слушателей академии, все же оставалось время и для досуга. А свободным временем офицеры-«академики» могли располагать по собственному усмотрению.
Оторванный во время войны от общения с близкими ему по духу людьми, изголодавшийся по книгам, по журналам, по свободному обсуждению политических вопросов, Домбровский с жадностью наверстывал упущенное. Со свойственной ему схватчивостью он быстро разобрался в современных философских и политических проблемах, в том числе и наимоднейших из них — фурьеризме и прудонизме. Однако не отвлеченные теории влекли его к себе, а практическое действие. Читая стихи своего любимого Некрасова «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ», восхищаясь им, Домбровский в то же время твердо знал, что сам-то он призван не воспевать страдания своего народа, а избавить его от них. Он знал, что академия, неведомо для себя, отточит в нем качества борца. Он сознавал, что время борьбы близко, но еще не приспело. Нужна организация, нужны люди. Он принялся искать этих людей и нашел их. Не только в Академии генерального штаба, но и в Инженерной академии (что в Михайловском замке) и в Артиллерийской академии (что на Выборгской стороне, за Сампсониевским мостом). Невелико было число учащихся во всех этих военно-учебных заведениях — не более двухсот, из коих свыше ста — в Инженерной академии. Все они знали друг друга, многих связывали не только личные дружеские узы, но и общие политические симпатии.
По некоторым признакам Ярослав чувствовал, что подпольная организация существует в этой среде. Однако поначалу все его попытки проникнуть в нее были безуспешны. Он не понимал, почему. Старые друзья его еще по Константиновскому кадетскому корпусу и раньше — по Брест-Литовскому, когда он заводил об этом разговор, переводили его на другое. Домбровский терялся в догадках. «Неужели моя кавказская репутация настораживает их?» Он решил поговорить начистоту со своим давним приятелем Андрюшей Потебней.
Случай представился, когда оба они по приглашению брата Андрюши, Александра, отправились в университет. В этот день Александр Потебня защищал диссертацию на звание магистра: «О некоторых символах в славянской народной поэзии». После блестяще прошедшей защиты братья Потебни и Домбровский пошли в ресторан, чтобы отпраздновать присуждение Саше ученого звания. Ярослав не сразу повел разговор на интересующую его тему. Он знал, что Александр Потебня увлекается Герценом и Чернышевским. Но, в отличие от своего брата, он держался вдали от революционных кругов. Прогрессивные убеждения Александра были его, так сказать, тайной любовью, которую он тщательно скрывал от чиновно-университетских верхов.
Вино усилило то радостное возбуждение, в котором Александр пребывал после удачной защиты диссертации. Он говорил свободнее, чем обычно. Подняв тост за «героя кавказской войны Ярослава Домбровского», Александр сказал:
— Мы еще увидим светлое будущее.
Это было самое «революционное» высказывание, которое позволил себе Александр, да и то под влиянием шампанского.
Андрей усмехнулся:
— Ты, Сашенька, сегодня «левеешь» и «краснеешь» прямо на глазах.
Александр обиженно вспыхнул:
— Я, Андрюша, реальный политик. Мой девиз…
— Знаю: против рожна не попрешь.
— А хотя бы и так! Растрачивать зря свой талант — это душевное мотовство. Я очень рад, что наш друг Ярослав там на Кавказе пришел к тому же благоразумному убеждению. От души советую тебе, брат, взять с него пример.
Ярослав с удивлением посмотрел на Александра. Тот сообщнически кивал ему головой. Ярослав перевел взгляд на Андрея. Тот, опустив глаза, барабанил пальцами по столу, как бы отстраняясь от этого разговора. Ярослав почувствовал, что на него накатывается один из тех приступов гнева, которым он иногда был подвержен. Но он овладел собой и сказал тихо:
— Саша, откуда у тебя эти сведения обо мне?
— Слухом, милый, земля полнится.
— А все-таки?
— Приезжал тут с Кавказа один твой дружок. Рассказывал, что ты отказался от своих прежних мальчишеских r?veries[8] и вступил на стезю благонадежности. Он тебя, правда, осуждал «за измену идеалам». А я хвалю. Ты изменил бредовым фантазиям ради трезвой жизни.
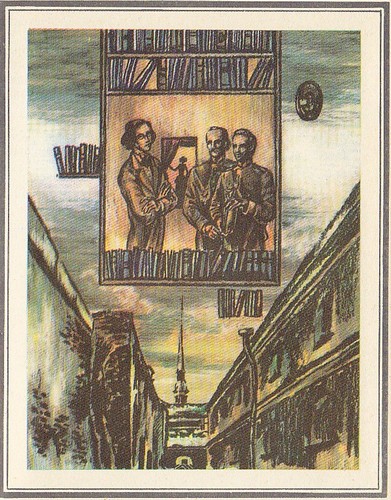
— Припомни, как зовут этого моего дружка?
— Прости, я видел его впервые, да и то мельком. Да вот Андрюша, наверно, помнит. Знаю только, что он из ваших, кадетских.
Внезапное прозрение осенило Ярослава. Он крикнул:
— Каетан Залеский!
Андрей поднял глаза.
— Да, это Каетан, — сказал он. — Разве ты не говорил ему, что революции не удаются? Разве не приводил в пример декабристское восстание двадцать пятого года и июльское восстание поляков тридцать первого года?
— Говорил, — спокойно сказал Домбровский. — Только Каетан пропустил одно мое слово…
— Какое?
— Не удаются дворянские революции. То есть те, к участию в которых не привлечен народ. Вот что я сказал!
Андрей вскочил и обнял Ярослава.
— Я был уверен, что тут что-то не то!
— Что ж меня-то не спросили?
— Собирались. Просто не успели еще.
Домбровский вскричал:
— Идем к Залескому! Спросим о причинах этой его странной рассеянности.
— Успокойся, Ярослав, садись. Каетана нет в Петербурге. Он в Варшаве и делает там немалое дело…
Из всех участников подпольного польского кружка офицеров наиболее примечательным Домбровскому показался Зыгмунт Сераковский. Это был капитан генерального штаба из драгун. Уже в самой наружности его было что-то необычное. Светлые изжеванные по концам усы не скрывали решительной складки рта. Глубокие морщины накладывали на его лицо отпечаток изнуренности. Но самой замечательной чертой его лица были глаза, поистине огненные, впивавшиеся в собеседника с гипнотической силой и в то же время светившиеся умом и добротой. Ярослав понял, откуда эти следы изможденности на лице Сераковского, когда узнал, что он провел несколько лет в арестантских ротах. Этот замечательный человек, будучи студентом Петербургского университета, был сослан за попытку нелегально перейти границу в сорок восьмом году. Способности Сераковского были блестящи: в мрачном оренбургском застенке он начал службу солдатом и вышел оттуда кавалерийским офицером. Впоследствии он окончил Академию генерального штаба и вошел в доверие к высокому начальству. Его командировали за границу для изучения законодательства об иностранных армиях. Статьи его по военным вопросам отличались глубоким знанием предмета. Капитану Сераковскому предсказывали блестящую карьеру. Уже и сейчас он был одним из выдающихся молодых генштабистов России.
Но у него была вторая, тайная жизнь, которую он и считал своей настоящей жизнью. Он был польским патриотом и готовил восстание. После его ареста распался организованный им конспиративный польский кружок при университете. По возвращении из оренбургской ссылки Сераковский вновь организовал подпольный польский кружок — на этот раз в недрах Академии генерального штаба. Через поэта Тараса Шевченко, с которым он отбывал арестантские роты, он связался с киевским подпольем — с хлопоманами, через Герцена, с которым он сблизился во время заграничной командировки, — с польским революционным центром за границей. Своими замечательными человеческими достоинствами и широким революционным размахом Зыгмунт Сераковский очаровал Ярослава Домбровского. И в свою очередь был очарован им. Они стали неразлучны — поручик 19-й артиллерийской бригады и драгунский капитан.
Кружок офицеров нельзя было назвать ни чисто польским, потому что в нем участвовали и русские, ни, в сущности, даже подпольным, потому что он имел легальную внешность. Назывался он «Литературные вечера» и, так сказать, «официальной программой» его было «распространение просвещения и нравственности между молодежью». Но менее всего там говорили о литературе, и не звучали там ханжеские речи о моральном самоусовершенствовании. Там говорили о политических судьбах России и Польши, о гнете царизма, о необходимости революционного переворота, об освобождении Польши, о распространении в народе и в армии освободительных идей.
Кружок собирался по субботам в квартире, где Домбровский поселился вместе со Станевичем, Хейденрейхом и Варавским. Каждый — в отдельной комнате. Все они были слушателями Академии генерального штаба. Поручик Ладожского пехотного полка Фердинанд Варавский ближе всех сошелся с Домбровским и стал ближайшим его помощником в деле организации «Литературных вечеров».
Постоянными посетителями кружка стали офицеры Андрей Потебня, Людвик Звеждовский, Михаил Хейденрейх, Василий Каплинский, Ян Жебровский, Николай Михайлов, студенты Николай Утин, Александр Слепцов, Эммануель Юндзилл, чиновник Виталис Опоцкий.
Домбровский пробовал вовлечь в кружок своего старого приятеля еще по Брест-Литовскому кадетскому корпусу, Петю Врочиньского. Но тот отказался.
— Нет, Ярек, — сказал он. — Я человек не того склада. Эти материи не для меня. По мне, уж лучше бы вы водку пили да шлялись по бабам.
— А впрочем, — вдруг прибавил он, — я вас уважаю.
Душой кружка были Сераковский и Домбровский. Для Сераковского ставили на стол кувшин с молоком. Он сам посмеивался над этим, но к вину не прикасался.
— Обо мне, — говорил он, улыбаясь, — даже в кондуитном списке Академии генерального штаба написано: «По службе усерден, способностей ума хороших, в нравственности хорош и в хозяйстве хорош».
Говоря о своей работе, Сераковский воодушевлялся. Голубые глаза его пылали.
— Я хочу облегчить участь русского солдата, — восклицал он. — Я знаю его жизнь. Она ужасна. Прежде всего надо отменить дичайшее варварство — телесные наказания. А потом уж все остальное.
Вернувшись из заграничной командировки, Сераковский рассказывал:
— Англичане, представьте себе, отрицали, что у них в армии порют солдат. Но у меня под рукой были приказы герцога Кембриджского, где прямо сказано, что солдат 2-го класса такой-то подлежит телесному наказанию. И господа англичане, закуся губу, должны были замолчать…
Вскоре Сераковский, занятый многообразными делами, вместо себя выдвинул в руководители польского кружка Домбровского. Кружок разрастался. В него влились люди, которые впоследствии сыграли большую роль в революционном движении. Константин Калиновский, сын шляхтича, был студент-юрист Петербургского университета и Валерий Врублевский — из той же среды — студент столичного Лесного института, устроенного на военный манер. Через своих русских друзей Домбровский завязал связи с подпольным революционным кружком русских офицеров.
Зимой шестидесятого года в Петербург из Варшавы конспиративно приехал делегат польских революционных организаций. Свидание его с Домбровским произошло на квартире у Потебни. Придя туда, Ярослав, к удивлению своему, увидел Каетана Залеского. Он бросился обнимать Домбровского.
— Все уже знаю, — кричал он. — Это недоразумение. Меня не поняли. Я дал тебе лучшую аттестацию. Больше тебе скажу: ты наша надежда. Ты и Зыгмунт Падлевский. Мы ждем вас обоих в Варшаве. Мы употребим все наше влияние, чтобы по окончании академии ты был назначен в одну из частей варшавского гарнизона.
Искренность Залеского показалась Домбровскому на этот раз неподдельной.
— Разве у вас есть влияние? — спросил он.
— Ого! К мнению Велёпольского здесь, в петербургских сферах, очень прислушиваются.
Ярослав поморщился и не ответил. Конечно, Велёпольский конформист. Но для достижения высокой цели почему не использовать и конформиста?
Занятия в академии обычно кончались не ранее шести часов вечера. Но нередко затягивались и до восьми. Только по субботам «академики» освобождались к четырем часам. Предполагалось, что в субботний вечер они предаются разумным развлечениям — идут в театры или навещают знакомые семейные дома. Разумеется, времяпрепровождение «академиков», большинство которых составляли офицеры-фронтовики, далеко не всегда соответствовало этой идиллической картине. На войне они пристрастились к более грубым развлечениям — азартной игре, попойкам, посещениям «злачных» мест. Обычно начальство не интересовалось, чем занимаются слушатели академии в свободное время. Только после того, как один из них учинил пьяный дебош в публичном доме, был издан строгий приказ «о поведении господ офицеров вне стен академии». А дебошир был отправлен обратно в полк, и… все пошло по-старому.
Во всяком случае к пяти часам в субботу жилой корпус, занятый под офицерское общежитие, пустел. Офицеры, приодевшись, разлетались кто куда. И поэтому никто не удивился, когда в один из таких вечеров за Домбровским зашел Сераковский и оба они удалились с видом заправских фланеров.
Надо сказать, что Ярослав и сам не знал, куда ведет его Сераковский. Но он положил себе за правило в таких случаях не задавать вопросов. Только по серьезному, даже несколько торжественному виду своего спутника Ярослав догадался, что цель их сегодняшней прогулки какая-то особенная. Наконец, пройдя изрядное расстояние, Сераковский сообщил, что они идут к Чернышевскому. Как ни был приготовлен Домбровский услышать нечто необычное, он взволновался.
— Удобно ли? Ведь я не знаком с ним.
— Николай Гаврилович прослышан о тебе, Ярослав, и изъявил желание повидать тебя.
— Расскажи мне, какой он. Боюсь, разочарую его…
Сераковский улыбнулся и с нежностью посмотрел на Ярослава. Скромность и даже застенчивость этого боевого офицера трогала его. Неистовый во всем, в страстях, в убеждениях, в поступках, Сераковский чувствовал себя всюду свободно и ловко. И в каторжном застенке, и в великосветской гостиной он тотчас становился центром внимания. И у знаменитого Чернышевского он чувствовал себя как дома и знал, что тот любит его. Их связывала тесная дружба.
— Нет человека более простого и требовательного к себе, чем Николай Гаврилович, — сказал Сераковский. — И не воображай, что он ученый сухарь. При всей глубине своего замечательного ума он почти всегда весел, жизнерадостен. Он и над самим собой посмеивается, например, над своей рассеянностью. Сколько смеху было, когда он как-то погладил лежавшую в креслах муфту, приняв ее за кошку. И он первый сам над собой хохотал, когда в передней раскланялся с шубой, вообразив, что это человек. А в то же время он проницателен, как никто, и внутреннюю сущность человека постигает мгновенно. Он снисходителен порой к житейским слабостям хорошего человека, но беспощадно принципиален в вопросах общественных и политических. Любимое выражение его — строки из Пушкина: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Под Аполлоном разумей общество, а под поэтом — тебя, меня, всякого человека…
Двери открыл сам Чернышевский. Ярослав увидел человека худого, высокого, с узким бледным конусообразным лицом. Оно просияло радостью при виде Сераковского. Он крепко пожал ему руку и вопросительно посмотрел на Домбровского. Сераковский представил его. Чернышевский приветливо улыбнулся, поправил золотые очки, откинул длинные волосы, спадавшие на лоб, и повел гостей внутрь квартиры. Из полупритворенной двери доносились звуки фортепьяно и шарканье ног. Обернувшись к офицерам, Чернышевский сказал:
— По субботам приходит молодежь, танцует. А в соседней комнате собираются наши. Все имеет вид невинной вечеринки. Только…
Николай Гаврилович замолчал и с какой-то безнадежностью махнул рукой.
— Что, Николай Гаврилович? — тревожно спросил Сераковский.
— От верных лиц имею сведения, — спокойно и четко сказал Чернышевский, — что князь Долгоруков изволил оказать мне честь своим вниманием.
— Точно ли это? — вскричал Сераковский.
Ярослав переводил глаза с одного на другого.
— Не понимаете, Домбровский? Вам все это внове? Начальник III отделения канцелярии его императорского величества князь Долгоруков учредил за мной надзор тайных агентов.
— Кто они? — вырвалось у Ярослава.
Чернышевский улыбнулся наивности этого вопроса.
— Я не Христос, — сказал он, — и своего Иуду я не знаю. Думаю, что сюда они еще не успели проникнуть. Но будущее мое для меня не представляет никакого сомнения…
Он внезапно замолчал. Из комнаты в глубине коридора вышла женщина. Волосы, собранные сзади в узел, а посредине разделенные пробором, подчеркивали ясность ее лица.
— Ты опять об этом, — сказала она с упреком.
Николай Гаврилович взял ее за руку.
— Познакомьтесь. Ольга Сократовна, моя жена, — сказал он. — Хотя с моей стороны и было неосторожностью связывать со своей жизнью еще чью-то.
Ольга Сократовна сделала протестующий жест и хотела что-то сказать, видимо, возразить. Но он продолжал, не выслушав ее:
— Свое будущее я вижу явственно. Сознание своей обреченности, разумеется, не остановит меня. Мое дело продолжат…
Сераковский вмешался пылко:
— Не говорите так, Николай Гаврилович! До революции несколько шагов!
Ольга Сократовна прикрыла лицо руками.
— Революция в России… — сказала она тихо. — Помните, у Пушкина: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»…
Чернышевский сказал твердо:
— Меня не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. Народную революцию возглавят сознательные политические борцы. Наша задача воспитать их.
Говоря это, он обвел окружающих широким жестом, как если бы перед ним была большая аудитория. И тут же рассмеялся и сказал:
— Мы, кажется, проповедуем перед шубами, господа. Идемте в комнату.
Домбровский сказал несколько дрогнувшим от робости голосом:
— Вы, конечно, полагаете, Николай Гаврилович, будущей формой правления республику?
Чернышевский остановился.
— Разумеется, — сказал он. — Однако имейте в виду, что народ не станет защищать форму ради формы. Народ должен получать от данной политической формы существенные выгоды.
Он положил руку на плечо Домбровского и добавил:
— Для вас, поляков, главная задача сейчас — объединение. Один в поле не рать…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Мы не узнаем друг друга
Мы не узнаем друг друга Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали «ура». Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили:— На границе с Финляндией напряженная обстановка, город на военном положении.Сначала шли по
Глава 41 НАМ НИКУДА ДРУГ ОТ ДРУГА НЕ ДЕТЬСЯ!
Глава 41 НАМ НИКУДА ДРУГ ОТ ДРУГА НЕ ДЕТЬСЯ! Наступил 1972 год. Я подняла бокал с шампанским и прочла: «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем! И за тебя я пью! За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не
Глава вторая. ОНИ ИСКАЛИ ДРУГ ДРУГА
Глава вторая. ОНИ ИСКАЛИ ДРУГ ДРУГА «СТРАННЫЕ НЕМЦЫ» Услышав незнакомый мужской голос во дворе, Евдокия Фоминична поставила ведра, повесила коромысло на стену и выглянула из сеней. У крыльца соседнего дома стояли немцы. Их было четверо. Все без оружия — в районе авиабазы
Братва, не стреляйте друг в друга!
Братва, не стреляйте друг в друга! «Братва, не стреляйте друг в друга!» – песню с таким названием впервые исполнил летом 1995 года известный певец Евгений Кемеровский, и актуальность этой песни на фоне всего происходящего почти никем не оспаривалась.Этот страстный призыв,
Глава 2 «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». А.А.
Глава 2 «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». А.А. Козловский пошел провожать Анну Андреевну через весь город — душный, кишащий ночными ворами и попрошайками, тонущий в грязи и помоях. Но музыкант знал, какую Азию он должен открыть чудесной гостье. Он водил ее по темным
Великие знали друг друга
Великие знали друг друга Два великих разведчика Вильям Фишер — Абель и Ким Филби, конечно, знали друг друга. Они не могли не встречаться еще в Лондоне в середине 1930-х годов, где радист Вилли Фишер, работавший под своей фамилией, передавал материалы Кима Филби в Москву.К 1931
Братва, не стреляйте друг в друга!
Братва, не стреляйте друг в друга! «Братва, не стреляйте друг в друга!» — хит с таким названием впервые исполнил летом 1995 года известный певец Евгений Кемеровский, и актуальность этой песни на фоне всего происходящего почти никем не оспаривалась. Этот страстный призыв,
Глава 22 Хол Шеффер. «Они любили друг друга…»
Глава 22 Хол Шеффер. «Они любили друг друга…» Весной 1954 года Мэрилин уже вернулась в Лос-Анджелес. И сразу же, налаживая подпорченные отношения с «Фоксом», дала согласие на съемки в музыкальной комедии «Веселый парад», где должна была сыграть певицу кабаре. Студия также
II. ОНИ ИСКАЛИ ДРУГ ДРУГА
II. ОНИ ИСКАЛИ ДРУГ ДРУГА 1. «Странные немцы» Услышав незнакомый мужской голос во дворе, Евдокия Фоминична поставила ведра, повесила коромысло на стену и выглянула из сеней. У крыльца соседнего дома стояли немцы. Их было четверо. Все без оружия — в районе авиабазы немцы
ТЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА НА ПУТИ…
ТЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА НА ПУТИ… …И вдруг увидел я со дна встающий лик — Горящий пламенем лик Солнечного Зверя. «Уйдём отсюда прочь!» Она же птичий крик Вдруг издала и, правде снов поверя, Спустилась в зеркало чернеющих пучин… Смертельной горечью была мне та потеря. И в
Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга
Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга Когда я вернулся с фронта, приятели разрешили мне присоединиться к их загадочным экспедициям. И вот мы среди гор, в одной из деревушек, где мир уживается с террором.– Да, мы их всех расстреляли,
Друга прикроет друг…
Друга прикроет друг… Лейтенант Гурьев начал летать в районе Сталинграда, когда фронт проходил еще за Доном. Он видел, как двигались на запад гурты скота, вереницы беженцев, до отказа груженные машины и телеги, навьюченные коровы, верблюды. По обочине дороги брели старики
Глава 6. Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Сталин – друг против друга
Глава 6. Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Сталин – друг против друга При жизни Ленина внутрипартийные разногласия разрешались на открытых дискуссиях демократическим путем, но под влиянием непререкаемого авторитета самого Ленина. Однако полностью устранены они не