Василий Аксенов, или Мои 1970-е
Василий Аксенов провел весеннюю четверть 1975 года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, читая лекции о современной русской литературе. Его пребывание в Калифорнии послужило одним из стимулов к написанию его самого популярного романа, «Остров Крым». Оттуда – фривеи с головокружительными серпантинами вдоль моря и виллами над обрывом, частные бассейны, землетрясения, полицейские, похожие на шерифов Дикого Запада. Оттуда же, в общем, и белоэмигрантская тематика: мы с Аксеновым много об этом говорили, он прочитал воспоминания моего отца о том, как тот подростком был в Белой армии, ставшие одним из подтекстов «Острова Крым». Когда мы ехали в Монтерей по самой извилистой и живописной калифорнийской дороге вдоль Тихого океана, я пела ему песни, которым меня научил отец; услышав «Марш Дроздовцев» («Из Румынии походом / Шел Дроздовский славный полк…»), он удивился – оказалось, что советская военная песня «По долинам и по взгорьям…» пелась на тот же мотив. Я этого не знала, а Аксенов впервые услышал «белый» вариант, который попал в «Остров Крым». Моих родителей в Монтерее не оказалось, но я познакомила его с лучшим поэтом второй эмиграции, Николаем Моршеном, подарившим ему свой сборник стихов «Двоеточие»: «На память о приятном вечере в псевдосолнечной Ква-лифорнии».
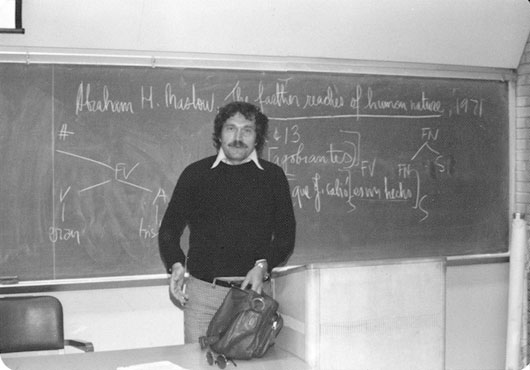
Василий Аксенов в UCLA (1975)
Как читатель наверняка знает, в «Острове Крым» описана альтернативная география и история Крыма: что было бы, сумей белые там задержаться и создать общество по западному образцу[386]. Больше всего эмигрантов эвакуировалось именно из врангелевского Крыма; среди них был и мой отец. Приехав со мной в Москву, он познакомился с Аксеновым, который тогда как раз задумывал свою фантазию о «врэвакуантах» («временные эвакуанты», по аналогии с Временным правительством) и их детях. Один из врэвакуантов, Боборыко, списан с папы: он с воодушевлением рассказывает старшему Лучникову[387] о встрече с молодым офицером Артиллерийской академии в Лефортове, где прежде был кадетский корпус, в котором старик учился. Именно Боборыко «не без вдохновения» напевает марш Дроздовского полка.
В тот приезд в Москву Вася возил нас по местам, памятным отцу. Начали с Лефортова, где папа учился, – Аксенов посредничал в его разговоре с юными курсантами Академии бронетанковых войск, которым отец подарил напоследок пачку американских сигарет. Эта встреча настроила его на ностальгический лад; в тот день он много рассказывал Васе о корпусе накануне и сразу после Октябрьской революции. На праздновании восьмидесятилетия Аксенова в Доме русского зарубежья его сын Алеша вспоминал моего отца-«белогвардейца». Надо думать, что на тех курсантов встреча с ним произвела не менее сильное впечатление. Ведь это был 1977 год! Потом Вася писал мне: «Поиски Суворовского Училища (sic!) с Борисом Арсеньевичем стали одной из моих любимых новелл»[388]. Есть в романе и дешевая туристическая компания «Магнолия», и наш тогдашний маршрут – Москва, Суздаль, Владимир, Ростов Великий, Ярославль: в романе Андрей Лучников едет с группой «западных мещан» по этим городам, чтобы познакомиться с российской стариной.
Эмигрантской темой Аксенов заинтересовался до нашего знакомства. В 1972 году Овидий Горчаков, Григорий Поженян и он написали пародийный шпионский роман «Джин Грин – неприкасаемый: карьера агента ЦРУ № 014», взяв смешной коллективный псевдоним Гривадий Горпожакс. Героя романа Грина (сын белогвардейца Гринева), воевавшего во Вьетнаме, засылают в СССР – родину предков, где он проникается ностальгией. В Лос-Анджелесе мы с Васей много говорили об этом чувстве, о первой эмиграции, о том, что в 1960-е годы он надеялся на либеральные изменения в Советском Союзе. Теория «конвергенции», постепенного сближения СССР и Запада, в том числе – ввиду угрозы термоядерной войны, была сформулирована в 1944 году Питиримом Сорокиным, знаменитым русским социологом-эмигрантом, основателем кафедры социологии Гарвардского университета. Согласно этой теории, СССР должен был стать более либеральным, а Запад – более социалистическим; в результате должна была возникнуть социально-экономическая система, совмещающая принципы капитализма и социализма. В «Острове Крым» об аналогичном сближении под пародийным лозунгом «Сосу-сосу» (мирное сосуществование), или «Общей судьбы», мечтает Андрей Лучников.
В конце 1960-х, на фоне продолжавшегося экономического и социального развития обеих систем, принципа конвергенции придерживался Андрей Сахаров[389]. Незадолго до вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году в сам– и тамиздате появились выдержки из его «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», написанных во время Пражской весны. Помнится, в 1973 году Аксеновы пошли к Васиному старому приятелю на встречу с Сахаровым, а я осталась с их двенадцатилетним сыном, тем самым Алешей, который развлекал меня телесериалом «Семнадцать мгновений весны». Этим воспоминанием я поделилась на вечере памяти Аксенова в Доме русского зарубежья (2012). Имя Штирлица, которого Аксенов назвал советским Джеймсом Бондом, упоминается в «Острове Крым», а с Бондом сравнивается Андрей Лучников.
Оставаясь западником, Аксенов в своей крымской фантазии-фантасмагории выразил разочарование в идее конвергенции. Любопытно, что виновником постигшей остров катастрофы является альтер эго автора, Андрей Лучников, а не советский «куратор Крыма» Марлен Кузенков, поклонник крымской утопии. Раньше Кузенков казался мне провозвестником перестройки, эдаким Горбачевым. Сегодня, после присоединения Крыма Россией, его слова о возможном референдуме на острове кажутся пророческими: «Что касается Запада, то в стратегических планах НАТО Крыму сейчас уже не отводится серьезного места, но тем не менее действия натовских разведок говорят o пристальном внимании к Острову как к возможному очагу дестабилизации. Словом, по моему мнению, если бы в данный момент провести соответствующий референдум, то не менее 70 процентов населения высказалось бы за вхождение в СССР»[390]. Сегодня сам Крым Запад тоже не интересует, но в контексте русско-украинского кризиса[391] «пристальное внимание» к крымскому референдуму и последовавшей за ним аннексии имеет место. Знал бы Аксенов, что в своем романе предскажет это «воссоединение», а лидером крымской партии «Русское единство» будет его однофамилец Сергей!
В «Острове Крым» пародиен не советский чиновник, а любимый герой автора, супермен и западник. Корни «Союза Общей Судьбы», однако, следует искать не только в теории конвергенции, но и в староэмигрантском «наведении мостов» и примирении с Советской Россией в эпоху нэпа: в сменовеховстве, национал-большевизме и евразийстве, в первую очередь – у главного идеолога национал-большевизма Николая Устрялова, для которого нэп знаменовал собой возрождение могущества России[392].
Моя мать, поклонница ранней прозы Аксенова, познакомилась с ним вскоре после публикации «Острова Крым» в «Ардисе»[393] (1981). Я просила не высказывать ему своих критических соображений, но она не удержалась: ее задели слова Андрея Лучникова о «бездарном бароне Врангеле» и «баронском рыле… на наших деньгах»[394], ведь у нас в семье Врангель был в большом почете. Возмущение мамы вызвало также поведение врэвакуантов, в том числе языковое, особенно образ старшего Лучникова, участника Ледяного похода, и его рассказ внуку о своем «самом остром сексуальном переживании»: во время Гражданской войны приглянувшаяся ему смолянка запросто «подняла юбку» в тамбуре поезда и они долго занимались сексом. «Никогда ни до, ни после я острее не чувствовал физической любви», – говорит дед[395]. «Вместо „подняла юбку“, – прокомментировала мать, – можно было хотя бы написать, что «она ему отдалась». И вообще – наши отцы так с внуками не говорили, а те таких вопросов не задавали. И до чего неподходящее здесь слово „милейший“ как обращение деда к внуку». Аксенов стоически выдержал критику и сказал: «Единственное утешение в том, что Вы, Татьяна Александровна, не собираетесь написать рецензию на мой роман».
К языку относилось одно из основных разногласий между первой и третьей волнами эмиграциями. В данном случае первой не понравились осовременивание речи старых эмигрантов и ненормативная лексика, которая шокировала и советских читателей – из тех, что были поконсервативнее. Разница в том, что «первые» сохранили русский язык с «раньшего времени» – современный казался им грубым, а «третьим» их язык казался смешным. (Впрочем, некоторых он прельщал отсутствием советизмов.) К тому же «стариков» задевало неуважение к своим героям вроде Врангеля.
После своей первой поездки в Советский Союз в 1973 году я стала на вопрос «Как ты себя чувствуешь?» отвечать: «Нормально»; мать смеялась, поскольку для нее это слово имело психологические коннотации – возможно, потому, что ее язык был сформирован поколением конца XIX – начала ХХ века, эпохи повышенного внимания к психопатологии.
* * *
Мы с Аксеновым случайно познакомились в 1973 году на просмотре фильма «Белое солнце пустыни» в Ленинграде. Меня туда привел сценарист Валентин Ежов, с которым он был знаком, – находясь в Ленинграде, Аксенов пришел на него, как на культовый фильм своего поколения. (Он стал моим любимым советским фильмом той эпохи.) Затем мы встречались в Москве, куда я приехала на неделю. Он меня всячески развлекал – показывал город, возил в Переделкино, где мы совершили обязательное паломничество на могилу Пастернака, водил в театр. Это была моя первая Москва, и по счастливой воле случая мне очень повезло с экскурсоводом. Правда, мне казалось, что, знакомя меня с писателями, актерами, художниками, Вася сам был рад похвастаться своей американской гостьей староэмигрантского разлива: в те годы мы были большой редкостью. Запомнились и смешные знакомства. В Переделкине тот же Григорий Поженян, один из авторов «Джина Грина», подавая мне бокал шампанского, уронил в него сардинку, но не смутился: видимо, ему казалось, что сардинка шампанскому не помеха, – правда, он был навеселе. В ресторане ЦДЛ Андрей Вознесенский первым делом спросил меня, курю ли я «травку»[396] – эдакий нарочитый жест в сторону западного шестидесятничества; ему, наверное, хотелось выпендриться (это слово я впервые услышала именно тогда), продемонстрировать свою «хипповость». Вернувшись за свой столик, он продолжил легко узнаваемую «жестикуляцию»: прислал мне розу в бокале шампанского – «блоковскую». Так началось наше знакомство, но дружбы не состоялось: мне он, в общем, не очень нравился.
Когда через несколько лет Вознесенский выступал в Лос-Анджелесе, ему очень хотелось встретиться с кумиром моей юности Бобом Диланом[397], которого он ранее приглашал в Москву[398]. Встреча состоялась в ресторане на берегу океана, но Дилан был в плохой форме и вел себя параноидально – то боялся, что его узнают, то, наоборот, именно этого и хотел. Последний раз я виделась с Вознесенским в начале 1990-х: мы с замечательным поэтом Алексеем Парщиковым ездили к нему на дачу в Переделкино. Теперь ни того ни другого нет в живых. Умер Аксенов. Нет Булата Окуджавы и Беллы Ахмадулиной. Давным-давно кончились мои 1970-е, в которых российские шестидесятники оставили неизгладимый след.
Ярким воспоминанием о первой Москве остался нашумевший спектакль Георгия Товстоногова «Балалайкин и компания» в театре «Современник». Главную роль исполнял Олег Табаков, с которым Аксенов меня тоже познакомил. «Балалайкин и компания» шел поздней осенью 1973 года, вскоре после окончания войны Судного дня. В обществе был очередной разгул «эзоповщины» и того, что в литературной критике называется «overinterpretation»: так, например, в одной реплике «Балалайкина и компании» зрители услышали отсылку к Моше Даяну[399].
Сугубо советский писатель Сергей Михалков скомпоновал эту пьесу из отрывков «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина. Аксенов объяснил мне, что Михалков, сам того не сознавая, написал пьесу, в которой сатирически изображенные 1870-е годы вполне соответствовали брежневским 1970-м, и радовался успеху у либеральной интеллигенции. Может быть, лукавый Михалков все и сознавал. Интеллигенция также увидела в «Балалайкине…» отражение усилившейся слежки за ней и краха шестидесятнических надежд. Пьеса считалась смелой; это была эпоха лагерных сроков (еще не вышли на свободу Синявский и Даниэль) и преследования Солженицына, в травле которых Михалков участвовал. Солженицына выслали из Союза буквально два с половиной месяца спустя. Меня поразил размер заголовка статьи о его высылке на первой странице лос-анджелесской газеты – такого большого я не видела ни до, ни после.
В Москве я узнала, что у моего мужа Владимира возобновился рак легких, и срочно улетела домой. Милый Вася мне тогда очень помог. Когда мы прощались в Шереметьеве, он подарил мне серебряный рубль с изображением Николая II и сказал: «В следующий раз – в Иерусалиме». Владимир умер через полгода. Справиться с постигшим меня горем мне помогло среди прочего новое осознание своей русскости под влиянием первой и последующих поездок в Советский Союз: знакомые оттуда оказались мне во многом ближе, чем староэмигрантские.
* * *
В 1975 году я уговорила профессора Дина Ворта, заведовавшего кафедрой славистики в UCLA, пригласить Аксенова, и после долгих мытарств в Союзе писателей ему удалось получить разрешение на выезд. Свое пребывание в Лос-Анджелесе он описал в «Круглых сутках нон-стоп», которые были напечатаны в «Новом мире». В них есть и наши поездки в Лас-Вегас и Национальный парк «Секвойя» с гигантскими секвойями; в Монтерей по крутой дороге с виражами и ресторан «Непентэ» (напиток, приносящий забвение), висящий над океаном, там, где в 1940-е годы жил Орсон Уэллс; признания в любви писателям, жившим в той части Калифорнии, – Джону Стейнбеку, Генри Миллеру, Джеку Керуаку. В тексте я фигурирую как «Милейшая Калифорнийка»[400].

В «порше» профессора Дина Ворта (1975)
Из «Круглых суток…» во многом и вырос калифорнийский «Остров Крым». Хотя они в основном посвящены красивой жизни калифорнийцев, есть в них и старая эмиграция, изображенная в несколько пародийном ключе, – с ее установкой на монархию и законсервированным русским языком (или же смесью русского с английским вроде «Закрой уиндовку (window). Коулд поймаешь!» (catch a cold, простудишься). Другой вариант этой фразы («Закройте виндовку, а то чилдренята (children) заколдуются!») вызвал незабываемый аксеновский смех, и он положил ее в свою копилку макаронической игры слов. Такое языковое смешение эмигранты называли «San Francisco Russian»; как известно, Аксенов был глубоко неравнодушен к ней. Можно сказать, что – на легкомысленном уровне – смесь русского с английским напоминает конвергенцию.
В «Круглых сутках…» описана встреча с Иосифом Бродским, который выступает под именем Джо Редфорд, автором сонетов к Марии Стюарт[401]. Я еще не была знакома с Бродским, но он звонил мне в поисках Аксенова, чтобы обсудить их совместную поездку на автомобиле из Мичигана в Нью-Йорк, – встретились они в Анн-Арборе у Карла и Эллендеи Проффер. Улетая из Лос-Анджелеса в Мичиган, Аксенов сказал: «В следующий раз – в Москве». Оттуда он прислал мне на хранение рукопись романа «Ожог», воспользовавшись почтой австрийского посольства. Мы читали его вместе с мамой, причем я выписывала неизвестную мне непристойную лексику и однажды за ужином попросила отца эти слова объяснить. Он смутился. Мать ехидно напомнила ему, что мне уже далеко за тридцать; главное, ей самой хотелось узнать значение «неприличных слов». Ведь старая интеллигенция не материлась, поэтому многим женщинам из первой эмиграции так и не довелось услышать настоящего мата.

На пляже в Санта-Монике (1975)
По нашей договоренности я послала копии рукописи в издательство «Ардис»[402] и Леонарду Шройтеру, адвокату, который занимался издательскими делами матери Аксенова, Е. С. Гинзбург, и его самого. Наш с ним пароль был «Ol'Blue Eyes», прозвище Фрэнка Синатры, которого мы много слушали в Лос-Анджелесе. Упоминание прозвища в телеграмме означало – «печатать!». «Часто вспоминаю FRANCY. Хорошо, что мы с ним подружились, – писал Вася. – Очень интересно было бы узнать твое впечатление от его новой песни»[403]. Шройтер был одним из главных вдохновителей поправки Джексона – Вэника (1974), способствовавшей отмене препятствий для эмиграции советских евреев в Израиль: в начале 1970-х он занимал должность помощника министра юстиции Израиля по вопросам эмиграции из Советского Союза.
Публикация «Ожога» в английском переводе поссорила Аксенова с Бродским. Роман был предложен издательству, в котором печатался Бродский («Farrar, Straus and Giroux»); тот написал на книгу убийственный отзыв, а на обложке – слово «shit» (говно)! В результате издание было отложено и книга вышла в издательстве «Random House» только в 1984 году. Меня, как и многих, поступок Бродского изумил, чтобы не сказать – шокировал. При встрече в Сан-Диего, где мы с ним праздновали его день рождения, я ему выразила свое возмущение: «Ведь вы были друзьями и знали о трудностях у Аксенова с КГБ, возникших именно в связи с романом; когда он находился в UCLA, вы сами стремились с ним встретиться». Кажется, я также предположила, что Вася наверняка рассказывал ему об «Ожоге» во время их путешествия. Иосиф стал защищаться, сказал, что роман плохой, на что я ответила: «Можно было отказаться писать отзыв». Он: «В Союзе я его уважал как писателя, он был для меня старшим приятелем». И в конце концов: «Что вы хотите от местечкового еврея». Эту фразу можно объяснить желанием кончить разговор, но меня она изумила.
Не то чтобы Бродский, снискавший влияние в американских издательствах и гуманитарных фондах, не помогал русским писателям в эмиграции. Довлатову он помог напечататься в престижном журнале «Нью-Йоркер», Юзу Алешковскому – получить премию Гуггенхайма[404] и т. д. Об Алешковском он писал так: «Этот человек, слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым – и с радостью – признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не „о“ и не „про“, ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие „о“, „про“, „за“, „против“ и „во имя“; сказать точнее – русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания!»[405] В разговорах Бродский называл Алешковского «Моцартом русской прозы», над чем многие потешались. В случае Аксенова, а затем талантливейшего Саши Соколова он сыграл дурную роль[406]. При этом мне всегда было интересно с Бродским, и, когда я приезжала в Нью-Йорк, он водил меня в свою любимую кофейню «Caffe Reggio», где однажды, пытаясь из меня извлечь какой-то ответ, Иосиф произнес «the Pacific is not specific», фразу, которую он потом обращал ко мне.
* * *
В киевском аэропорту, где я оказалась в следующий свой приезд в Союз, Аксенов приехал меня встречать, но, так как я прилетела с тургруппой («Магнолия»), оказалось, что ехать в гостиницу я должна с ней. Местный экскурсовод настаивала: «Я за вас отвечаю!» Аксенову пришлось вынуть писательский билет ССП, который произвел должное впечатление, – она меня отпустила. Это был мой первый раз в Киеве; мы с Васей гуляли по городу, нашли дом Шульгиных; тогда, впрочем, семейная история еще не имела для меня того значения, которое приобрела потом. Когда я затем оказалась в Москве, Аксенов вернулся к роли гида, познакомив меня с Беллой Ахмадулиной, Борисом Мессерером и Булатом Окуджавой.
В тот раз Вася повез меня к матери, Е. С. Гинзбург, жившей за городом. В ее присутствии он показался мне робким сыном сильной, чтобы не сказать – властной, женщины. Помнится, я тогда мысленно сравнила свое впечатление с ее образом в «Крутом маршруте»[407]. Там она отличалась большей женственностью, а также оптимизмом, особенно во втором томе. (Разумеется, оптимизм – по гулаговским меркам!) Несмотря на все ужасы, многие новеллы имеют счастливую развязку; создается впечатление, что в каком-то отношении ей в лагерях везло. Основное впечатление от «Крутого маршрута» – жизнеутверждающее.
К тому времени она уже была больна. Зная это, я привезла ей маленькую иконку целителя св. Пантелеймона, принадлежавшую моему деду Билимовичу, который всегда носил ее в кармане. Осенью того же года Вася повез мать в Париж – якобы на лечение, на самом же деле для того, чтобы показать ей город. Это было предсмертное путешествие матери и сына, хотя, как говорил Аксенов, ей не сказали, что у нее неизлечимый рак. В свое время дедушка этого тоже не знал: мать убедила врача скрыть от него диагноз. В Америке такой поступок со стороны врача уже тогда являлся редкостью, а теперь немыслим – в том числе ввиду возможного судебного процесса.
За день до отлета в тот приезд я по своей вечной рассеянности оставила бумажник, в котором были паспорт, виза и деньги, в туалете ЦДЛ – наверное, выложила, чтобы достать гребешок из сумки, и забыла. Отсутствие бумажника я установила за столиком, разыскивая что-то в сумке; бросилась в дамскую комнату: его нет. Что делать? С нами сидел поэт Евгений Рейн, который рассказывал, что написал поэму – кажется, о наследнике Алексее (Романове), – и регулярно стучал в стенку: не подслушивают ли? Мы с Васей пошли к вахтерше. Та сообщила, что уборщица нашла бумажник, – ура! Но вахтерша передала его администратору, а тот уехал на дачу. Мы умоляем ее ему позвонить; Вася объясняет, что иностранная гостья завтра утром улетает – не мог бы он приехать и вернуть бумажник с паспортом? Тот в конце концов соглашается. По холлу ходит растерянный Андрей Битов: ему тоже нужен администратор, но администратор, сказали, вернется только в понедельник (кажется, была пятница), а Битову в понедельник уезжать, тоже за границу, и ему необходима администраторская подпись. Так я познакомилась и с Битовым.
Недовольный администратор ЦДЛ вызвал меня к себе в кабинет и произнес нравоучительную нотацию; я всячески извинялась и благодарила. Вынув бумажник из сейфа, он попросил меня проверить, все ли на месте, и пересчитать деньги, в том числе, разумеется, доллары. Когда я сказала, что не помню, сколько их было, он опять начал мне выговаривать. Затем попросил расписку – мол, «имущество мне было возвращено целиком и в полной сохранности». Прочитав то, что я написала, сердито буркнул: «Вы плохо владеете языком» – и продиктовал какой-то смешной текст; я поставила подпись. Советским бюрократическим языком я, конечно, не владела. История с паспортом закончилась вполне благополучно – в отличие от аналогичных случаев до и после, когда паспорт по-настоящему терялся. Разгильдяйство Матич в таких вещах хорошо известно[408].
Потом мы виделись с Аксеновым летом 1977-го, когда я приезжала с отцом, затем летом 1978-го; в тот раз я приехала с четырнадцатилетней дочкой. Он шутил, что нужно женить его сына на Асе, чтобы Алеша смог эмигрировать как муж американки. Алеша ее стеснялся, возможно, потому, что не знал английского, Асины же познания в русском были и остались минимальными, так что отношения не сложились. Именно тогда Аксенов вместе с молодыми Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым готовили альманах «Метрополь». Это была действительно незаурядная коллективная акция – попытка издать в Советском Союзе бесцензурные тексты известных и малоизвестных авторов. Наш с Васей разговор о «Метрополе» велся на скамейке рядом с гостиницей «Украина», где мы с Асей остановились. Один из двенадцати самодельных экземпляров был послан на хранение в «Ардис» дипломатической почтой, и он просил, чтобы я сказала Карлу Профферу, что альманах публиковать не нужно: редколлегия готовила московский «вернисаж» в начале 1979-го, после чего Аксенов надеялся получить договор на публикацию в Госиздате. Тогда же он принес мне письмо Профферу от Битова о публикации «Пушкинского дома»: роман должен был вот-вот выйти в «Ардисе». Пока мы с Васей занимались делами, Ася развлекала Ерофеева американскими конфетами, взрывавшимися во рту[409].

Обсуждение «Метрополя» на фоне Дома Советов РСФСР (1978)
Как известно, вместо вернисажа и издания «Метрополя» случился громкий скандал. Ерофеева и Попова исключили из Союза писателей; в знак протеста Аксенов, Семен Липкин и Инна Лиснянская вернули свои членские билеты. Вскоре альманах был опубликован в «Ардисе».
* * *
После публикации «Ожога» в Италии Аксенов со своей новой семьей покинул Советский Союз; Майя и Вася выехали по приглашению Мичиганского университета, где он провел осенний семестр 1980 года. На весенний он получил приглашение в USC (Университет Южной Калифорнии), кафедрой славистики которого я тогда заведовала. По дороге из Мичигана Аксеновы были лишены советского гражданства, о чем узнали только в Лос-Анджелесе, где Васю разыскивал редактор «Нью-Йорк Таймс» Крэйг Уитни, чтобы ему об этом сообщить. Поселившись в Санта-Монике рядом с океаном, Вася и Майя зажили калифорнийской жизнью. (Аксенов думал об эмиграции много лет. В отличие от первых двух третья волна могла позволить себе обдумывать и менять решение покинуть отечество.)
В Лос-Анджелесе тогда пребывал кинорежиссер Андрей Кончаловский[410], живший у своей возлюбленной, знаменитой актрисы Ширли Маклейн, на ее вилле над океаном в Малибу. По старой привычке Вася повез меня к ним в гости, где Маклейн приударила за моим другом Кеном[411], а Кончаловский – за мной. Интересно, впрочем, другое: к моему удивлению, он в восторженном тоне заговорил о Николае II, поразив меня своим монархическим настроением. Мою критику «Государя», как его называли у нас в семье, Кончаловский всячески отвергал. Спор между сыном советского царедворца Сергея Михалкова и внучкой настоящих монархистов напомнил мне разговор почти десятилетней уже давности, состоявшийся в Ленинграде. Это было той же осенью 1973 года, когда мы с Аксеновым познакомились.
Это была моя первая стажировка в Советском Союзе. Я жила в гостинице «Советская»; там же остановился Элем Климов, снимавший фильм «Агония» о последних годах Российской империи. Наше знакомство с ним и Валентином Ежовым, тоже жившим в той гостинице, началось в гостиничном буфете, где я заказывала завтрак. Я к тому времени знала буфетчиц, и мы обычно мило беседовали. Какой-то мужчина, стоявший за мной в очереди, выразил недовольство тем, что меня так долго обслуживают; буфетчица ответила, что она обслуживает американку. «Моя жена тоже американка», – заявил мужчина! Я в свою очередь выразила сомнение, но тогда он стал уже мне возражать, притом что пригласил за их столик. Оказалось, что отец его жены, актрисы Виктории Федоровой, действительно был американцем – военным атташе США в Советском Союзе во время и сразу после войны; тогда у него случился роман с матерью Федоровой. В результате Джексона Тейта вскоре выслали, а известную актрису Зою Федорову посадили во Владимирский централ. Ежов рассказал мне, что жена его недавно бросила. Он из-за этого очень переживал – много пил, а после отъезда Климова и съемочной группы его состояние отчасти стало моим бременем. Виктория Федорова вскоре уехала в Америку.
Климов пригласил меня на съемки в Царское Село[412], проходившие в Камероновой галерее; снимали аудиенцию председателя Государственной думы Михаила Родзянко у Николая II. В какой-то момент я невольно произнесла вслух, что мой дед знал Родзянко. Человек, стоявший рядом, удивленно посмотрел на меня и спросил, кем был мой дед, но я как-то сумела свои слова замять. (Мама, как старая эмигрантка, взяла с меня обещание, что я никому не скажу о своем родстве с Шульгиным!) Это был Алексей Габрилович, сын знаменитого сценариста Евгения Габриловича, которого Анатолий Ромашин, игравший Николая, попросил купить где-нибудь водки, чтобы согреться, и мы вместе отправились на поиски.
В тот вечер за ужином мы с Ромашиным спорили о последнем императоре[413]: Ромашин восхищался его культурностью и прочими достоинствами; Климов, Габрилович и Ежов заняли скорее нейтральную позицию, а я – критическую. Разумеется, все члены царской семьи получали хорошее образование, но моя простенькая мысль была в том, что само по себе это не гарантирует интеллектуальной изощренности, не говоря о способности править страной. Ромашин, как и впоследствии Кончаловский, отказывался это признавать. Их идеализацию Николая я истолковала как модную советскую ностальгию по благородным людям у власти. У Ромашина эта ностальгия смешным образом соседствовала с любовью к американским «шмоткам» – в автобусе после съемок он снял царское одеяние, чтобы похвастаться майкой с американским флагом и с гордостью сообщить, что купил он ее в Нью-Йорке. Впрочем, и то и другое вполне совмещалось в советском и постсоветском контекстах. В любом случае эти ленинградские знакомства были очередным большим везением.
Аксенов и другие шестидесятники, однако, не питали иллюзий ни в отношении Николая, ни в отношении монархии. В их среде не было на это моды: они хорошо сознавали ее несовместимость с западническими установками, которые у них тоже проявлялись в любви к фирменной американской одежде, в первую очередь – джинсам «Levi Strauss». В свой первый приезд Вася познакомился с моей подругой Джуди Карфиол (по-баварски «Karfiol» – цветная капуста), чей предок Ливай Страусс запатентовал так называемые «blue jeans», которые до сих пор производятся компанией, носящей его имя.[414]
* * *
В 1980 году Аксенов вел семинар по современной русской литературе в USC, в котором участвовали наша кафедра, а также профессора и аспиранты UCLA. Впрочем, Аксенов гордился не этим, а тем, что вел занятия (которых, правда, было всего два) у спортсменов: «К пальме приближался черный юнец семи футов ростом. Вслед за ним появились два белых богатыря, косая сажень в плечах, Мэтью и Натан. Вскоре вокруг пальмы набралось десятка два гигантов и богатырей – Тимоти, Натаниэль, Бенджамин, Джонатан, Абрахам и прочие, баскетболисты и футболисты спортклуба „Троянцы“»[415].
Историю со спортсменами следует пояснить. В конце 1970-х основной задачей нового заведующего нашей кафедрой стало увеличение количества изучающих русский. Университет славился спортивными достижениями; приближалась московская Олимпиада. В ее преддверии я предложила организовать спецкурс русского языка для спортсменов, убедив университетскую администрацию в том, что это даст нашим олимпийцам преимущество перед другими американскими атлетами: больше никто не сможет беседовать о спорте со своими русскими визави на их языке! (Спортсменам не особенно хотелось учить иностранный язык, но таково было требование для окончания университета.) Я, конечно, сознавала смешную сторону «проекта», но администрация, не желавшая, чтобы у университета была репутация заведения, в котором спортивным достижениям уделяется больше внимания, чем академическим, курс одобрила – и на него в первый же семестр записалось свыше пятидесяти спортсменов, среди которых были будущие знаменитые футболисты (речь об американском футболе) и баскетболисты. Не то чтобы они вдруг загорелись желанием учить именно русский: просто это был единственный языковой курс, ориентированный на спортивную тематику.
Главное – он спас нашу программу от сокращений преподавательского состава. Местные слависты надо мной подсмеивались: русский язык учило больше спортсменов, чем обычных студентов. В любом случае они помогли кафедре финансировать большее количество аспирантов, что привело к найму трех новых профессоров, включая Александра Жолковского, чему слависты на кафедре UCLA завидовали. В моей нестандартной предприимчивости проявилась готовность сойти с протоптанного пути в поисках новых дорожек и приключений. Как известно, из-за ввода советских войск в Афганистан Америка олимпиаду бойкотировала – но спецкурс просуществовал еще много лет!
Эти богатыри – и богатырши – регулярно заходили к нам на кафедру; один из них, очаровательный Ронни Лотт, стал главной звездой американского футбола в своем поколении. Он даже приходил на кафедральные лекции. Однажды, встретив меня в магазине, Лотт заговорил со мной по-русски, и мы несколько минут проговорили на этом чужом ему языке. Много лет спустя на каком-то приеме, уже в Беркли, я рассказала про Лотта историку Реджи Зельнику, который, разумеется, знал, кто это такой; Зельник тут же обернулся и сообщил своему старшему коллеге по Берклийскому университету Н. В. Рязановскому: «Ольга Матич знает Ронни Лота!» На Николая Валентиновича это произвело не менее сильное впечатление[416].
Аксенов и сам любил спорт, особенно баскетбол. Спортивная удаль была одним из непременных свойств его героя-супермена, поэтому встреча с «Троянцами» была для него не только «экзотикой», но имела и личный интерес:
Странно, что вы называетесь «троянцами», – сказал я студентам. – Что же тут странного, сэр? – спросил Мэтью. – Странно то, что существует какая-то очевидная юмористическая связь между, казалось бы, космически отдаленными явлениями. Дело в том, что альманах «Метрополь», редактором которого я имел честь быть, в Москве на партийном собрании советских писателей назвали «троянским конем империализма». Словом, у вас, троянцев, сегодня появилась возможность узнать обо всех этих делах from the Trojan horse's mouth…[417]
* * *
После переезда Аксеновых в Вашингтон мы продолжали общаться – и в «городе-герое», как прозвал его Вася (а друзья «Васингтон»), и затем в России. Когда я была в Москве летом 1993 года, он меня выручил в связи с одним необычным приключением.
Я тогда занималась образом Саломеи, в том числе у Оскара Уайльда, и исследовала русские постановки его пьесы в начале ХХ века. Средь бела дня, ловя машину на Новом Арбате, чтобы ехать в Театральную библиотеку, я почувствовала неимоверную боль в левой руке около плеча. Первое, что пришло мне в голову и запомнилось, – что на меня что-то упало с неба, может быть метеорит: боль было просто не с чем сравнить, и в моей голове действительно мелькнула эта дикая мысль. Оглядевшись, я увидела на тротуаре нечто вроде дротика, а в отдалении – двух молодых сомалийцев[418], глядевших, как мне показалось, на меня с ненавистью. Я отбежала в сторону, поймала машину и все-таки поехала в библиотеку. Первым, кого я там встретила, был специалист по русскому футуризму Александр Парнис. Сняв джинсовку, я увидела, что на опухшей руке образовались круги наподобие мишени. Парнис посоветовал мне срочно обратиться к врачу. Снова поймав машину, я отправилась в американское посольство – но нужен был паспорт, и за ним пришлось заехать.
Морской пехотинец, охранявший вход в посольство, напомнил мне, что сегодня День независимости (4 июля) и весь персонал, включая врачей, празднует в Спасо-Хаусе (резиденции американского посла). Расстроившись, я показываю солдату свою руку. Он звонит в разные инстанции и выясняет, что лучше всего будет обратиться в Американский медицинский центр. Между загадочным ранением и осмотром прошло около трех часов; слава Богу, тогда еще не было тех пробок, которыми теперь славится Москва. Перед тем как сделать нужные вспрыскивания, врач успокоил меня словами: «Поскольку вы еще на ногах, укол явно был поверхностным и яд в организм не проник». Толстая джинсовая куртка и еще какие-то слои одежды под ней меня защитили.
Что же это было? Духовая трубка и кураре – лишь догадка. Вместо того чтобы подобрать дротик и взять его с собой как улику, я, испугавшись, бежала от него. Пусть и трудно представить себе выстрел из такой трубки прямо перед торговым домом «Новоарбатский», других объяснений ни я, ни мои московские знакомые придумать не сумели.
Роль Аксенова в истории на Новом Арбате была финансовой. Поход в Медицинский центр обошелся мне в 500 долларов, и денег у меня осталось мало. Я обратилась к Васе, который немедленно меня выручил. За обедом в каком-то арбатском ресторанчике он совершенно неожиданно заговорил о самом интимном – о своем самоощущении последних лет во время работы: сначала – радость и гордость, потом, когда книга подходит к концу, – разочарование и самообвинения в графоманстве. Этим признанием он несколько нарушил ту легкость общения, к которой я привыкла. Правда, он быстро перешел на свой привычный стиль и стал показывать, как удерживает рвущуюся к бумаге левую руку: «Это она графоманит, мне потом приходится ее редактировать!»
Наша последняя встреча была в 1999 году. Вася пригласил меня в «Крымский клуб» на Первые Аксеновские чтения – поговорить об «Острове Крым» и старой эмиграции. Я рассказала о калифорнийском подтексте романа, о знакомстве Аксенова с моим отцом. После мы гуляли вдоль Москвы-реки, вспоминали встречу около гостиницы «Украина», говорили о переменах в России за последние двадцать лет, о том, что я опять овдовела (мой последний муж Чарли Бернхаймер умер зимой 1998-го). Кончилась встреча тем, что Вася, как всегда, повел меня в ресторан, где я похвасталась недавно опубликованной статьей о российских мафиозных надгробиях[419] (пример сворачивания с исследовательской протоптанной дорожки), рассказала, что продолжаю увлеченно разыскивать их на московских кладбищах, что на днях нашла «мафиозный пантеон» на Востряковском.
Вокруг одной могилы сидело трое молодых людей, которые сначала отнеслись ко мне с подозрением – не хотели, чтобы я фотографировала. Я рассказала им свою легенду: что я американский исследователь русского происхождения, изучаю российские надгробия, что вот это мне очень понравилось. Хранители могилы постепенно расположились ко мне и даже предложили «постоять на стреме» – не едет ли кто, чтобы я смогла спокойно фотографировать. Напоследок один из них, откупорив шампанское «M?et & Chandon», предложил и мне; я ответила, что не пью, хотя «теперь мне жаль, – сказала я Васе. – Не смогу похвастаться, что выпивала с хранителями мафиозной могилы».
* * *
Как читатель наверняка понял, у нас с Аксеновым сложились очень близкие отношения, хотя в последние годы его жизни мы не виделись. Он был чрезвычайно щедрым человеком. В свой первый приезд в Калифорнию он буквально завалил меня подарками, хотя был отнюдь не богат. Он обладал редким умением общаться с самыми разными людьми, включая самых «простых», что мне нравилось. Многих привлекали его открытость, отсутствие высокомерия – и неизменный молодежный стиль, который, впрочем, под конец стал казаться несколько неестественным, пожалуй, даже неуместным. В последние годы семейные обстоятельства Васи были очень тяжелы. В том же 1999 году единственный внук Майи, Ваня Трунин, которого Аксенов очень любил, покончил с собой в Сан-Франциско – выбросился с крыши четвертого этажа. Ему было двадцать шесть лет. О нем мы тогда, конечно, говорили. Возможно, Аксенов стал так много, может быть, слишком много, писать отчасти для того, чтобы отвлечься от семейных невзгод, но это – мое допущение. На Майю, которой ранее так везло, обрушились неимоверные потери. Умер Аксенов: после инсульта он больше года лежал в больнице, лишь изредка приходя в сознание. Вскоре после его инсульта неожиданно скончалась дочь Майи Алена, которая много лет страдала тяжелой формой алкоголизма[420]. Слов нет.
Кода. Уже после того, как я написала эту главу, в Берклийской университетской библиотеке мне случайно попался сборник Аксенова «Американская кириллица» (2004). Я его раньше не знала. В нем собраны фрагменты из его книг об Америке, включая «Круглые сутки нон-стоп». Меня поразило то, что «Милейшая Калифорнийка» (или «М. К.») превратилась в «Лесли Врангель» – потомка того самого Врангеля, образ которого в «Острове Крым» так возмутил мою мать. В предисловии к «Кириллице» Аксенов пишет о своей первой поездке в Америку: «Отправился бедолага в долгий путь, к Врангелям в Калифорнию»; дальше: «Эта семейка повадилась наезжать в СССР», но в Америке буква «в» в фамилии Врангель произносится «как „w“, как и в джинсах Wrangler – заквакал» бы какой-нибудь московский генерал, если бы узнал, что эти путешественники ни больше ни меньше, потомки «черного барона»; что они «уже в нескольких поколениях являются славистами», вернее, «американскими славистами», пишет Аксенов[421]. В описании его поездки в Монтерей говорится: «В этом месте в оригинале „Нон-стоп“, чтобы не взбесились московские инициалы, не говоря уже о безымянных товарищах, я не упоминаю, что останавливался в родовом доме Врангелей, построенном еще внуком крымского главкома, преподавателем военной школы переводчиков. С помощью данных скобок объясняю современной молодежи, забывшей советскую крепостную систему»[422].
С одной стороны, получилась изрядная пародия на меня и на старую эмиграцию, напоминающая о подзаголовке «Победы»: «Рассказ с преувеличениями» (1965), с той разницей, что «Победа», может быть, лучший рассказ Аксенова. С другой – шифровка (реальные персонажи замаскированы под Врангелей и, вроде меня, «американизованных»), пародирующая советский эзоповский стиль. Что Василий Павлович имел в виду – теперь не спросишь, а жаль. В любом случае получилась очередная хохма в стиле Аксенова – немного глуповатая, но, наверное, именно такой и должна быть хохма.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК