ГЛАВА I
ГЛАВА I
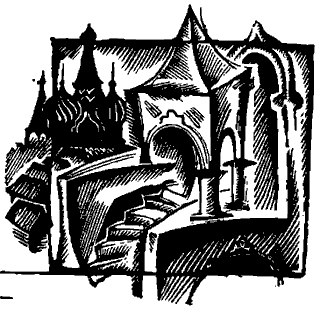
В лето от сотворения мира семь тысяч пятьдесят первое[1], в третью седьмицу июня, московский митрополит Макарий, год назад поставленный князьями Шуйскими вместо свергнутого Иоасафа, пожелал посетить монастырь Святой Троицы.
Дорога пылила, проваливалась в ухабы, подсовывала под колеса возка толстые корни сосен и елей. Речные броды подкарауливали ямами, засасывали в ил. На ночлеге в Радонеже телеса терзали оголтелые блохи, откуда-то несло козлятиной, митрополит не выспался, но бодрился: до монастыря оставалось полдня пути.
На Москве известно было, что едет митрополит поклониться мощам святого Сергия Радонежского, толковать с братией о богослужебных книгах и подновлении икон в московских церквах.
Макарий, прибыв к Святой Троице, и впрямь целовал раку чудотворца, впрямь рассуждал о переводах сочинений блаженного Августина, о нехватке книг и завершении переписки начатых им в Новгороде Четьи-Миней, впрямь заказал монастырским мастерам новые иконы, но приехал он в обитель не только ради бесед и поклонений.
Жаждал митрополит покоя и уединения, хотел в тишине обдумать мирские и церковные дела.
Знал Макарий, что Шуйские, призывая его с новгородского архиепископства, надеялись: новый митрополит, приверженный иконному письму и книжному чтению, известный любовью к старине, не станет вмешиваться в житейскую суету, в московские распри, будет смотреть на все из княжеских рук.
Но не для того оставил Макарий тихие радости упорных трудов по собиранию старых книг, не для того покинул налаженные со многими тяготами новгородские церковные училища, где мечтал вырастить для Руси просвещенных иереев, чтобы стать покорным слугой Шуйских.
Прежде чем согласиться на принятие митрополичьего параманда, дал Макарий обет господу не пощадить себя ради возвеличения христианской веры и православной церкви, ради устроения русской земли.
После смерти великого князя московского Василия пришла в упадок светская власть, начались боярские свары, нависла угроза над самой церковью.
Душа скорбела от созерцания непотребств: священники не знали служб, игумены не возбраняли бегать к чернецам девкам да бабам, курили вино, упивались во пианство, честным же старцам не давали даже на одеяние, и многая братия волочилась теперь по миру, испрашивая милостыню и подвергаясь житейским соблазнам.
Куда же было таким пастырям ополчаться на ереси, точившие народишко?
Прибыв в Москву, Макарий сразу стал прибирать священство к рукам.
Однако у московских иереев всегда находилась заступа, и митрополит видел, что начинать надо не с них, а с обуздания всесильных боярских родов, в первую голову с тех же Шуйских.
Сделать же сие можно было только одним путем — завоевав доверие диковатого, озлобленного двенадцатилетнего великого князя Ивана, воспитав в Иване мысль о его призвании быть единодержавным властелином всего христианского мира.
В беседах с великим князем вел он речь о кесаревом величии, о божественном происхождении власти Ивана, на коею посягать никто не смеет.
Иван слушал такие речи жадно, но недавно князь Андрей Шуйский с грубой прямотой сказал митрополиту:
— Ты, владыка, говори, да не заговаривайся! А то ведь из Москвы и на Соловки дорога есть!
Макарий знал, что Шуйские угрозами зря не бросаются, стал в речах осторожен, но поступаться правдою не думал.
У раки чудотворца Сергия надеялся митрополит размыслить в покое о мирских делах, почерпнуть сил для будущих деяний.
Но вместо покоя ждали его в монастыре новые заботы.
Игумен в первый же день по приезде митрополита передал ему мольбу узника тверского Отроч-монастыря Максима, прозываемого Греком. Был Максим муж мудрый, наделенный от бога великим даром языков и сказаний. Тринадцатый год томился он в оковах, осужденный собором святых отцов за ереси и волхование против покойного великого князя Василия. Просил Максим у митрополита разрешения ходить в церковь и причащаться святых тайн.
Макарий нахмурился. Передав мольбу Максима, монахи содеяли дерзость: собор запрещал переписку с осужденным. А просьба помочь Максиму Греку ставила митрополита в трудное положение. В Максимово волховство Макарий не верил. Не стал бы Максим писать на ладонях водкой и простирать оные, называя беду на великого князя, как поганая ворожея. Умен и учен был Максим! А что говорил, будто русские митрополиты неправильно ставятся, без патриаршего благословения, и что описки в книгах делал, так Максим сам же на соборе ниц падал, каялся: не знал-де о патриаршей грамоте, дозволяющей русскому собору митрополитов ставить, и плохо за писцами следил…
Но Максим, не зная Руси, на порядки ее восстал, поучать всех вздумал. Против развода великого князя Василия с бездетной Соломонией ополчился. Сие, дескать, писанию противно… Конечно, противно. А как не оставил бы Василий наследника — что бы тогда началось? В какую бездну распрей и смут вверглась бы земля? Что бы со святой церковью и православной верой сталось?
Эх, Максим, Максим! Нельзя было пощадить тебя, да и сейчас заступиться за тебя опасно. Заступишься из жалости, а поддержку как осуждение давнишнего брака Василия с Еленой Глинской понять могут. Решат еще, что сын их Иван и прав на отцовский стол не имеет! А ведь и того довольно, что злые языки повсюду разносят, будто великий князь вовсе не Василия сын, стар-де был Василий, чтобы детей иметь! а отродье боярина Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского…
Ответить на мольбу Грека резким отказом митрополит все же не решился. Велел сказать узнику, что скорбит о судьбе его, целует тяжкие узы его, но помочь ничем не может.
По лицу игумена увидел: тот ждал иного, и рассердился. Все жаловались, все чего-то хотели, все чего-нибудь требовали!
Так, рассерженный, и отправился отдыхать в отведенные покои.
Лишь усердная молитва смирила Макария, утишила гневное состояние духа.
Лежа в постели, митрополит отдался мечтаниям. Скоро великий князь взойдет в возраст, сможет обходиться без опекунов. До той поры следует искоренить в нем пороки, воспитать его ум, научить покорности святой церкви. Тогда с божьей помощью можно великое свершить! Покорить язычников, распространить христианство, твердо противостоять латине!
От обширных замыслов мысль митрополита скакнула вдруг вспять. Подумал, что пока ничего толком не сделал для будущего торжества. Даже от шептунов и соглядатаев, от неверных людишек не оградил себя. А надо, надо гнать оных! Взамен же призвать людей верных, кои бы всем тебе обязаны были. Без опоры, без поддержки ничему не вершиться. Дуб не ветвями, а корнями силен. Вот и надобно пустить в московскую землю свои корни.
А людишки верные сыщутся!
Митрополит вспомнил, как в последний год новгородской жизни принимал у себя тамошних писцов. Выговаривал им, что в книгах, переписываемых на продажу, имеется много ошибок.
— Может, и не вы те книги продавали, — сказал он тогда, — да нелишне и вам помнить, сколь от каждой ошибки вреда и смущения происходить может. Вот и размыслите и прочим писцам передайте, чтоб впредь с работой не торопились, за деньгой не гнались, а помышляли о доброй славе и спасении души!
Мастера кланялись. Макарий обратил внимание на самого молодого из них: коренастого, с тонким, живым лицом, умными голубыми глазами.
— Чей такой?
— Мой, мой сын, владыка! — торопливо ответил, кланяясь, старый, давно известный Макарию писец Федор.
— Учишь или сам пишет уже?
— Сам, владыка, сам! Вот дозволь тебе Евангелие, сыном переписанное, поднести…
Макарий раскрыл поданную книгу. Полюбовался крупным, четким полууставом, сделанными «покоем» заставками, искусно украшенными цветами и травами.
— Рисовал тоже он?
— Он, он, владыка.
— Горазд… Как звать тебя, раб божий?
Зардевшийся молодой писец баском отозвался:
— Иваном…
— Экий глас!.. А что, петь столь же горазд, как писать да рисовать?
— То не мне судить, владыка.
— Скромность — украшение христианина. А ну, возгласи-ка, Иване, святую славу!
Молодой писец петь умел. Макарий посоветовал Федору женить сына: такого молодца в дьяконы рукоположить можно!
Макарий уже собирался отпускать писцов, когда заметил, что Иван порывается молвить что-то, и выжидательно поднял брови.
— Не робей, раб божий, слушаю.
— Прости меня, грешного, владыка, если что не так молвлю, — выступив вперед, сдерживая басок, начал молодой писец. — Вот давеча ты про ошибки книжные помянул. Куда как прав ты! Возьмешься за иным списывать — одно начертано. К другому заглянешь — иное. Вот и помыслил я…
Писец волновался. Он перевел дыхание.
— Помыслил я, владыка, что неладное мы творим. Не так бы надо!
— Как же?
— Опять же прости меня за дерзость. Но вот сколь годов слышу уже, что у латинян, и в немецких землях, и во фряжских давно ручное письмо оставлено. Книги там печатно творят, вроде бы обронно режут, как для тиснения на булате…
— То наущение дьявольское! — тонко воскликнул один из писцов. — Писание книг — душе во спасение! А печатание — ересь!
Молодой писец скосил глаза на длиннобородого крикуна, потянулся к Макарию.
— Дозволь досказать, владыка!.. Латинян, еретиков не хуже других ненавижу. Да ведь мало книг у нас и плохи! А с одних бы досок, иереями правленных, сколь напечатать могли! И скоро и без ошибок!
— Где про латинские книги слыхал? — осторожно, ровным голосом спросил Макарий.
— Многие купцы заезжие сказывали. Те же немцы. Шведы.
— Знакомство с ними водишь?
— На кой они мне, владыка? Да и им какая во мне корысть? А у наших гостей встречал иных, похвалялись…
— И книги латинские видал?
— Видал, владыка.
— И чел?
— Наша вера единственно правильная. Зачем мне латынь? Не учился их письму поганому и знать не хочу. Ничего не читал, владыка.
— Так, так… Зачем же тогда книгами прельщаешься ихними?
— Обидно мне, владыка, что еретикам такое открыто, чего мы, поборники веры истинной, не знаем и не умеем!
— Сам, сам еретик! — взвизгнул крикливый писец.
— Помолчи! — свел брови Макарий. — Не по чину разумен!
Писец осекся и вытаращил глаза.
— Продолжай! — обратился к Ивану Макарий. — К чему речь вел?
— И еще я слышал, владыка. В Вильне, у литовцев, нашей православной веры человек, Георгий, печатал будто бы книги с греческих списков истинных, и по-нашему.
— Тот Георгий, по прозванию Скарина, латынью с толку был сбит. И православное имя на поганое сменил. Франциском назывался.
— Того я не ведал, владыка. Коли он таков, пес с ним… Нет, я того не ведал…
Макарий опустил веки, помолчал.
— Пробовал ли печатать книги? — наконец спросил он молодого писца. — Говори прямо.
— Нет, владыка. Не пробовал. Вот хотел тебя попытать, гоже ли сие нам. Твоего совета жду.
Макарий уже не помнил точно, как ответил тогда молодому писцу. Сказал только, что о печатных книгах мысль надо покамест оставить, что не ему, грешному, судить, хорошо ли будет их вводить, что дело с печатными книгами собору святых отцов ведать надлежит…
Вот таких, как Иван Федоров, и надобно назвать в Москву. Умны, пытливы, безропотны в послушании будут, а книжным трудам прилежа, от скверны житейской уберегутся.
Но не быть ни книгам, ни покою, пока нетверда великокняжеская власть, пока шатки алтари…
Макарий слез с постели, подошел к киоту, опустился на холодный пол голыми коленями и вознес молитву ко вседержителю, чтобы хранил великого князя, чтобы посрамил его врагов и врагов церкви.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная