Тридцать одна вина
Тридцать одна вина
Я старший был пятью годами
И вынесть больше брата мог.
В цепях, за душными стенами
Я уцелел — он изнемог.
…………………………………
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.
Пушкин. «Братья разбойники»
Волны от удара, землетрясения — во все стороны. Пленных черниговских офицеров по дороге расспрашивают конвоирующие их гусары и, когда узнают цель и намерения восставших, тотчас начинают лучше обращаться с арестантами, жалеют, что не знали всего этого прежде: их уверили, будто Черниговский полк взбунтовался для того, чтобы безнаказанно грабить. Гусары простодушно уверяли пленников, что при малейшем сопротивлении Муравьева, при первом ружейном залпе они обратились бы назад и не стали бы действовать против него.
Генерал Рот приезжает 4 января посмотреть на захваченного Муравьева, которого в последний раз видел у себя за обедом десять дней назад. Очевидец вспоминает, что Рот «ужасно гневался на Гейсмара за то, что он, по силе данного ему предписания, не дождался его, Рота, прибытия и дерзнул без него одержать блистательную победу над бунтовщиками». Тем не менее Рот посылает в штаб армии капитана Стиха с извещением о своем успехе. Это донесение Рота отправляется в Петербург из Могилева с тем же Стихом, а в столице «так были осчастливлены развязкою этой несчастной истории, что Стих произведен в подполковники, а сам Рот получил ленту Александра Невского».
Генерал-майор Гейсмар посылает тут же в штаб армии жалобу на Рота: «О том, что я был лицом, командовавшим так называемым средним отрядом, упомянуть о котором генерал, по-видимому, счел излишним».
По всей округе разъезжают гусарские и жандармские отряды в поисках убежавшего Ивана Сухинова. Тот пытается застрелиться, но неудачно, бежать за границу — тоже без успеха. В конце концов он через два месяца захвачен в Кишиневе; по дороге в штаб армии над ним издевается частный пристав, и неистовый Сухинов хватает со стола нож, как прежде обнажал саблю:
«— Я тебя, каналью, положу с одного удара, мне один раз отвечать, но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе.
Испуганный полицейский чиновник упал на колени и, дрожа весь от страха, просил прощения во всех оскорблениях, нанесенных им Сухинову; обещал впредь быть вежливым и делать все, что от него будет зависеть. Частный пристав сдержал свое слово, от Житомира до Могилева заботился о Суханове как о своем родном».
Жандармы обшаривают Хомутец и Обуховку. Испуганные коммерсанты и помещики пробираются на киевские «контракты», на которых уж многих нет, кто сходился здесь в прежние годы, а теперь под охраной проносятся мимо.
Иван Матвеевич в Петербурге еще не знает о восстании и по-прежнему читает в своем кругу по-гречески и старофранцузски. 877 солдат ждут, кого простят, кого — на Кавказ, кого — сквозь строй, кого — еще хуже. А на их кандалы уже потрачено 100 пудов железа, пожертвованных спасенной графиней Браницкой.
Главнокомандующий 2-й армией Витгенштейн регулярно доносит из Тульчина, что «прапорщик Ипполит Муравьев-Апостол еще не прибыл сюда и где теперь находится — неизвестно».
В двух избах у Белой Церкви, где размещены пленные офицеры, в Киеве, Полтаве, Кибинцах, Могилеве, Москве, Петербурге уже начаты те разговоры, которым не было и не будет конца:
— Отчего неудача? Отчего черниговцы так медлили? А если б пошли на Киев? Почему в Испании Риэго имел больший успех? Почему… Почему… А если бы…
Волны уходят от центра удара, не возвращаясь.
Сергея Апостола и других везут. В тюремном евангелии Матвея: «4 января (понедельник). Мы прибываем в Белую Церковь, где меня разлучают с Сергеем». Затем другими чернилами позже дописано: «…которого я уже больше не видел до самой моей смерти».
«В разговоре с подполковником Сергеем Муравьевым усмотрел я большую закоснелость зла, ибо сделав ему вопросы: как вы могли предпринять возмущение с горстью людей? Вы, которые по молодости вашей в службе не имели никакой военной славы, которая могла бы дать вес в глазах подчиненных ваших: как могли вы решиться на сие предприятие? Вы надеялись на содействие других полков, вероятно потому, что имели в оных сообщников: не в надежде ли вы были на какое-нибудь высшее по заслугам и чинам известное лицо, которое бы при общем возмущении должно было бы принять главное начальство. — На все сии вопросы отвечал он, что готов дать истинный ответ на все то, что до него касается, по что до других лиц относится, того он никогда не обнаружит, и утверждал, что все возмущение Черниговского полка было им одним сделано, без предварительного на то приготовления. — По мнению моему надобно будет с большим терпением его спрашивать».
Рапортует из Могилева в Петербург начальник штаба 1-й армии генерал-адъютант Толь. Сквозь штампованные обороты пробиваются отзвуки живого разговора — удивление важного генерала, как можно восставать, «не имея никакой военной славы… веса в глазах подчиненных»? Наверное, еще пренебрежительнее разговаривали с участником единственного в своей жизни сражения подпоручиком Бестужевым-Рюминым. О нем в том же рапорте: «Подобно Муравьеву, усовершенствованный закоснелый злодей, потому что посредством его имели сообщники свои сношения; и он по делам их был в беспрестанных разъездах; ему должны быть известны все изгибы и замыслы сего коварного общества».
Разговор был грубым, жестким. Если слово «злодей» несколько раз появляется в рапорте Толя, то, понятно, начальник не стеснялся и в разговоре, так же как престарелый и «заболевший от огорчения» главнокомандующий 1-й армией Остен-Сакен…
«Могилев. При названии этого города должно вспомнить русскому своего мученика Муравьева-Апостола: когда его скованного привели перед Остен-Сакеном, и когда Сакен стал бесноваться, вмешивая красные слова, то Муравьев потряс оковы от сдержанного волнения, плюнул на Сакена и повернулся к выходу (из рассказа старого капитана, конвоировавшего Муравьева до Петербурга)».
Эти строки были опубликованы 35 лет спустя в герценовской газете «Колокол»; их прислал один из тайных корреспондентов-поляков.
Было так или легенда?
Могло быть. Другие заключенные свидетельствовали, что начальство 1-й армии, «собственно, не допрашивало, а ругалось». В этом случае Сакен был крайне заинтересован скрыть плевок, бесчестие и не упоминать о том нигде… Но возможно, что «рассказ старого капитана» — увеличенный отпечаток действительного разговора, резкого, раздражительного.
Начальник штаба армии генерал Толь — начальнику главного штаба Дибичу в Петербург.
«Привезенный сюда глава мятежников подполковник Сергей Муравьев, также Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин. Оба сии последние отправляются в С. Петербург; Муравьев в ведении старшего адъютанта подполковника Носова и с штаб-лекарем Нагумовичем, дабы на пути пользовать рану его и иметь всякую предосторожность, чтоб злодея сего доставить в С. Петербург живого».
Пять лет не были в столице после семеновского дела. Тогда 24-летний капитан и 17-летний юнкер ехали тою же дорогой, только в обратном направлении; меньше месяца назад по ней ехал Ипполит; восемь месяцев назад — тот пушкинский прапорщик, появлявшийся в отрывке «Записки молодого человека».
Пока приговор не вынесен, арестованных именуют: «Господин подполковник Муравьев», «Господин подпоручик Бестужев-Рюмин…»
От Могилева до Петербурга пять дней. Двумя днями раньше везут брата Матвея…
Бестужева-Рюмина привозят в полдень 14 января. Генерал Левашов снимает первый допрос, молодого человека запирают в крепость и пять дней не тревожат.
Сергея Муравьева сначала — в Главный штаб, тоже встреча с Левашовым, а поздно ночью 20-го везут во дворец. Три дня назад Левашов, очевидно при царе, допрашивал Матвея. Подавленное настроение старшего Муравьева замечено. Этот тип заключенного уже не раз встречался за прошедший месяц.
Для начала старшему брату разрешено написать отцу — будто подслушали тот, последний разговор с Ипполитом — о любимом существе и счастье общения с ним: четыре дня спустя Матвей Иванович дает подробные показания:
«Одним только точным повествованием всего того, что происходило в моей совести, могу выразить и глубину моего раскаяния и признательность, коею я проникнут оказанною мне государем императором милостию, что дозволено мне писать к моему отцу. Вы мне дозволили, Ваше превосходительство, адресоваться к вам. Я намерен продолжить несвязное повествование, начатое в прошлое воскресенье. И умоляю о снисхождении к тому, у которого при душевном унынии и мысли не иначе могут следовать, как с трудом и память помрачается».
Матвей понятен. Теперь — Сергей. И ему на другой день, 21-го, разрешают писать к отцу:
«Мой дорогой и добрый батюшка! Сам государь был так милостив, что позволил мне писать вам, и я его благословляю от всего сердца, потому что этим он дает мне возможность, которой я всячески домогался и которой, конечно бы, не получил, — испросить у вас на коленях прощения за все горести, которые я вам доставил в печальное, только что протекшее время. Поверьте мне, дорогой батюшка, сердце мое сжимается, когда только вспомню о глубокой скорби, которую вы должны были пережить; но ради бога, простите меня, не откажите в этой милости сыну, обращающемуся к вам с полным раскаянием и надеющемуся еще на снисходительность отца, даже когда он теряет право на снисходительность других. Мой бедный брат Матвей достойнее меня, потому что он последовал за мной в деле, которому не сочувствовал, единственно чтобы не разлучать своей участи от моей. Я вам объявляю это, дорогой батюшка, потому что это правда; все поведение Матвея было только делом дружественной преданности, и мне приятно ознакомить вас ближе со всей чистотой его характера. Я прошу прощения у матушки. Я возблагодарил ее только горем за всю любовь, которою она всегда меня окружала, и за ее ласки ко всем нам. Клянусь, однако, что был бы счастлив, если бы жизнь доставила мне случай не одними словами доказать ей преданность и благодарность, которые не перестану питать к ней. Прошу также прощения у доброй моей Екатерины и Бибикова; благодарю их за постоянную их дружбу ко мне и от всего сердца молю бога, чтобы он сохранил их и детей их. Обращаюсь с тою же просьбой и теми же желаниями к моей доброй Анюте, к Елене; крепко целую дорогих моих Дунюшку, Лизыньку и Васиньку: в них вы найдете, дорогой мой и достойнейший батюшка, все утешения, которые мы должны были бы вам доставить. Мне необходимо, дорогой батюшка, чтобы nu уверили меня в вашем прощении, чтобы вы сказали, что не отказываете в вашем благословении; эта уверенность даст мне возможность перенести мою судьбу, какая бы она на была. Позвольте мне также просить вас сохранить на память обо мне перстень, который я носил и который находится теперь в моих пожитках. Я уверен, что вам не откажут в нем, если вы попросите. Этот перстень был дан мне Матвеем и никогда не покидал меня в течение пяти лет. Пусть он напоминает вам сына, которым вы некогда гордились, мой милый и добрый отец, сына, достававшего вам много горя, за которое он на коленях вымаливает ваше прощение, уверяя вас, что несмотря на все, никогда не переставал глубоко любить и уважать вас. Целую ваши руки.
Покорный ваш сын Сергей Муравьев-Апостол».
Подписав письмо, Сергей Муравьев еще просит отца в постскриптуме позаботиться о служивших ему людях, о «двух сиротах», которых он усыновил и которые «теперь в Хомутце». Наконец, желает, чтобы прислали Евангелие: «Напишите своей рукой на первой странице, что вы меня прощаете и даете свое благословение».
Обратим пока внимание на одну фразу: «Если б жизнь мне доставила случай не одними словами доказать… преданность и благодарность», то есть «если буду жив» (надежда, появившаяся после встречи с царем).
Николай I: «Никита Муравьев был образец закоснелого злодея».
Из продолжения этой записи, сделанной несколько лет спустя, видно, что царь перепутал Муравьевых, подразумевая Сергея Муравьева-Апостола: «Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой рапы и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что — причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:
— Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтобы считать ваше предприятие сбыточным, а не тем, что есть — преступным, злодейским сумасбродством?
Он попик голову, ничего не отвечая…
Когда допрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки».
Легенда: «При допросе императором Николаем Сергей Муравьев так резко высказал тягостное положение России, что Николай протянул ему руку и предложил ему помилование, если он впредь ничего против него не предпримет. Сергей Муравьев отказался от всякого помилования, говоря, что именно и восставал против произвола и потому никакой произвольной пощады не примет».
Другая редакция той же легенды, записанная в семье декабриста Ивашева (со слов Матвея Ивановича):
«Во время допроса царем… Сергей Муравьев-Апостол стал бесстрашно говорить царю правду, описывая в сильных выражениях внутреннее положение России; Николай I, пораженный смелыми и искренними словами Муравьева, протянул ему руку, сказав:
— Муравьев, забудем все, служи мне.
Но Муравьев-Апостол, заложив руки за спину, не подал своей государю»…
Не было, конечно, такой сцены. Но мы ведь и не знаем, что на самом деле царь обещал в ночь на 21 января. Только можем угадывать из письма Сергея Муравьева, отправленного пять дней спустя:
«Государь.
Пользуясь личным разрешением вашего императорского величества представить непосредственно вам все, что я мог бы добавить к сделанным уже мною показаниям, я позволяю себе сообщить еще следующие подробности».
Затем идут некоторые факты о польском обществе, об армии.
«Подтверждаю еще раз мое показание о том, что ни я сам и никто из знакомых мне членов никогда не воздействовал на солдат ни путем приема их в общество, ни путем каких-нибудь особых присяг, ни прочими способами. Единственной системой, проводившейся в отношения их, было старание привязать их к себе, проявляя к ним интерес и снабжая их деньгами для удовлетворения их нужд… Армия всегда будет подвержена волнениям, пока существуют такие источники ее недовольства…
 Что касается лично меня, то если мне будет дозволено выразить вашему величеству единственное желание, имеющееся у меня в настоящее время, то таковым является мое стремление употребить на пользу отечества дарованные мне небом способности; в особенности же если бы я мог рассчитывать на то, что я могу внушить сколько-нибудь доверия, я бы осмелился ходатайствовать перед вашим величеством об отправлении меня в одну из тех отдаленных и рискованных экспедиций, для которых ваша обширная империя представляет столько возможностей — либо на юг, к Каспийскому и Аральскому морю, либо к южной границе Сибири, еще столь мало исследованной, либо, наконец, в наши американские колонии. Какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному исполнению ее, ваше величество, убедитесь в том, что на мое слово можно положиться.
Что касается лично меня, то если мне будет дозволено выразить вашему величеству единственное желание, имеющееся у меня в настоящее время, то таковым является мое стремление употребить на пользу отечества дарованные мне небом способности; в особенности же если бы я мог рассчитывать на то, что я могу внушить сколько-нибудь доверия, я бы осмелился ходатайствовать перед вашим величеством об отправлении меня в одну из тех отдаленных и рискованных экспедиций, для которых ваша обширная империя представляет столько возможностей — либо на юг, к Каспийскому и Аральскому морю, либо к южной границе Сибири, еще столь мало исследованной, либо, наконец, в наши американские колонии. Какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному исполнению ее, ваше величество, убедитесь в том, что на мое слово можно положиться.
Единственная милость, которую я осмеливаюсь просить у вашего величества, как благодеяния, которое никогда не изгладится из моего сердца, это разрешение мне соединиться с братом.
Благоволите, государь, милостиво отнестись к просьбе…»
Заниматься рассуждениями на тему, что Муравьев указал на меньшее число фактов, чем другие, не станем.
Показания дает, не молчит; царь в беседе «лично разрешил» представлять сведения непосредственно ему самому. За месяц с лишним Николай I очень многое узнал, и желающему «запереться» невыносимо трудно: он обложен чужими показаниями со всех сторон, да еще намекают, что, оспаривая ответы друзей, ухудшаешь их положение.
Но если Сергей Муравьев разговаривает с царем, как не повторить, что армия недовольна своим положением и поэтому легко поддается агитации; повторить надо — вдруг что-то улучшится, и, конечно, об этом уже говорилось ночью 20-го, и ровесник закованного (старший всего на три месяца и три дня), император, конечно, искусно поддерживал разговор, даже как будто соглашался, вздыхал о солдатах. И, как позднее на допросах Каховского или в беседе с Пушкиным, привезенным из Михайловского, царь сказал что-то вроде «крайне жаль, когда такие способные люди употребляют свои таланты не за, а против власти, и что было бы прекрасно теперь объединить усилия». Муравьеву дана надежда.
След этого обещания наблюдается даже в царском воспоминании («Муравьев… одаренный необыкновенным умом… отличное образование»), и Муравьев, пожалуй, отзывается на эти царские слова, когда пишет «дарованные мне небом способности», lie стал бы он так наивно говорить о рискованных восточных экспедициях, если б ему не намекнули: пиши и о своих желаниях. И он начинает: «Что касается меня, единственное желание…» И еще: «Милость соединиться с братом».
Разрешение говорить о себе, намек на будущую «общую службу» — все это, умноженное в несколько раз слухами и воображением, дает легендарный итог: «Николай протянул ему руку и предложил ему помилование».
Царь и подполковник расходятся почти что довольные друг другом. На Сергея Муравьева в следующие педели и месяцы не будут кричать, не будут надевать железа, он будет давать показания.
Но его тяжкое печальное отступление будет все же происходить «в боевом порядке»; он не выйдет из спокойного, стоического, римского, философского настроения; в основном, на девять десятых, подтвердит то, что скажут другие, и, как это ни парадоксально и трагично, его последние месяцы отчасти облегчены тем, как много власть уже узнала до его появления перед следователями: с 14 декабря по 20 января список арестованных уже почти исчерпан.
И все же с Муравьевым-Апостолом — один разговор, а с Михаилом Бестужевым-Рюминым — юным, пылким, легко переходящим от подъема к отчаянию — разговор совсем иной.
Бестужев-Рюмин — царю, 26 января:
«Государь.
Я много наблюдал и хотел бы представить вам свои наблюдения. Единственная милость, о которой я хотел бы вас просить, — не принуждать меня назвать вам имена лиц, — и взамен этого я имел намерение умолять ваше величество сделать меня ответственным за все то, что могли замышлять члены Общества, в котором я состоял. Я всегда думал и сейчас полагаю, что вожди, пригодные к осуществлению революции, значительно важнее, чем лица, которые впервые возымели замысел осуществить ее… Позавчера вечером, вынуждаемый назвать имена, подавленный строгостью вашего величества, я был как одурманенный. Но не страх смерти действовал на меня. Много людей могут вам подтвердить, что только любовь к родителям привязывала меня к жизни, давно уже потерявшей прелесть. Но, государь, строгое обращение со мной, боязнь подвергнуть тому же других, уверенность, что это повергнет множество семей в отчаяние, все эти соображения привели меня в состояние упадка духа, от которого я в настоящее время с трудом пытаюсь отрешиться, хотя, чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что бесполезные строгости внушают вам отвращение.
Государь, я вас умоляю даровать мне еще аудиенцию, но как милости прошу вас о том, чтобы вы не наводили на меня страх. Размышляя о людях, ваше величество должны знать, что можно не бояться смерти и, однако, смущаться от одного разговора с человеком — и не тогда даже, когда говоришь со своим государем. Может быть, в дальнейшем вы уверитесь, что отсутствие чувства мне не свойственно и что, не требуя ничего для себя, я могу быть полезным моему отечеству, для которого вы можете быть благодетелем, сохраняя всю свою власть…»
«Позавчера», значит, царь кричал, «наводил страх». Новой аудиенции, однако, Бестужеву не дают.
Через день он обратится к одному из главных следователей, генералу Чернышеву:
«Генерал, благоволите испросить у Комитета, чтобы он соизволил разрешить мне отвечать по-французски, потому что я, к стыду своему, должен признаться, что более привык к этому языку, чем к русскому».
Ответ: «Отказано, с строгим подтверждением через коменданта, чтобы непременно отвечал на русском языке».
Тут дело не только в том, что затруднялось делопроизводство (писари Комитета наделали бы массу ошибок, если б разбирали французские строки): Николай I нарочито подчеркивает национальный характер власти, здесь уже виднеются будущие — «православие, самодержавие, народность»; вот-де каковы эти бунтари-освободители, по-русски не знают.
Соседи Бестужева-Рюмина вспоминали, что по ночам из его камеры доносился беспрерывный шелест страниц: в поисках точного перевода с французского на русский перелистывались словари. Александр Одоевский не мог перестукиваться по системе, изобретенной его товарищами, так как не знал на память русского алфавита.
Но Одоевский писал прекрасные русские стихи, а живой ум и одаренность Бестужева-Рюмина хорошо видны даже в его официальных показаниях…
Плохо ему пришлось на следствии, тяжелее, чем другим; и если изобрести некую «единицу тюремной тяжести» — число допросов, очных ставок и прочее, деленное на число лет допрашиваемого, — то, наверное, было ему тяжелее всех.
11 февраля Следственный комитет постановляет:
«Бестужеву-Рюмину объявлено высочайшее повеление, что по замеченным в ответах его уверткам и уклонениям от истины положили: заковав его, дать ему вновь допросные пункты».
Вскоре была исчерпана милость Ивану Матвеевичу — военный министр сообщает коменданту крепости: «Сергею Муравьеву писем не писать».
«Из России приходят печальные вести. В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения оба поплатятся головой». Так в феврале 1826 года представляются дела одному чешскому литератору, который смешал Сергея Ивановича, Ивана Матвеевича, Александра Сергеевича и других, но в главном не ошибается. «Печальные вести»…
Шли месяцы; по камерам больше 500 заключенных; допросы Пестеля, Бестужева-Рюмина, Сергея, Матвея, Славян, Северян. Никому не весело, но Матвею и Бестужеву-Рюмину труднее, чем Сергею, ибо Сергей нашел в те месяцы особую линию поведения, по-видимому, наиболее точно соответствовавшую его характеру. Лишнего не говорит, но и не отпирается. В показаниях его не найти слов вроде «не скажу», «умолчу», отвечает на все вопросы, если не помнит, то, по-видимому, действительно не помнит: «Показание брата Матвея, что члены на последнем совещании в Лещине подтвердили торжественно честным словом принятое уже до того решение непременно действовать в 1826-м году, справедливо, и я, кажется, так же показал сие обстоятельство в моих ответах. Показание же полковника Давыдова о мнимой присяге Артамона Муравьева на евангелии посягнуть на жизнь государя не основательно».
Сожалеет, но не кается и, по-видимому, внушает определенное уважение даже следователям: все ясно, взят с оружием в руках, умел восстать — умеет ответ держать.
В обращенных к нему «вопросных пунктах» и в других документах Следственного комитета встречаются иногда несколько необычные обороты:
«1826 года 3-го февраля, высочайше учрежденный следственный комитет требует от г. подполковника Сергея Муравьева-Апостола следующего показания:
В дополнение вчерашнего показания своего объясните, с свойственным вам чистосердечием, сие…» и т. д.
5 апреля. «Допрашивали Черниговского пехотного полка подполковника Сергея Муравьева-Апостола… Пояснил некоторые обстоятельства, но вообще более оказал искренности в собственных своих показаниях, нежели в подтверждении прочих, и очевидно принимал на себя все то, в чем его обвиняют другие, не желая оправдаться опровержением их показаний. В заключение изт>-явил, что раскаивается только в том, что вовлек других, особенно нижних чинов, в бедствие, но намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем бог один его судить может, и что составляет единственное его утешение в теперешнем положении. Положили: дать ему допросные пункты».
Комитету обидно, конечно, что «только бог судить может». Сергей Иванович же точно и ясно соединяет две мысли: об исполнении и намерениях.
Намерение благородно, исполнение печально: и солдат он повел, иногда прибегая к вымыслу («царь Константин», другие полки «обязательно помогут»), и братья гибнут, и сам не сделает, что мог («лишь пред концом моим, внезапно озаренный, узнает мир, кого лишился он»). Однако ни разу извинение, сожаление о содеянном не просачивается в тот непроницаемый отсек души, где находится его идея.
Мы знаем, как в тюрьме письменно формировалась эта мысль: на чистых страницах или обложке Евангелия, которое было у Сергея в крепости. Возможно, это было то самое Евангелие, что он просил у отца, или так же, как Матвей, получил его от мачехи (наверное, это было примерно в одно время, логично, что две книжки посланы сразу обоим братьям).
Книжка до нас не дошла, но Матвей, вернувшись из ссылки, видел ее или по крайней мере знал записи, которые делал там Сергей, его тюремный дневник:
«Одно только намерение составляет виновность. Действия, как действия, ничего не доказывают, потому что можно сделать много зла с самыми лучшими намерениями и принести много добра с самыми превратными намерениями. Что виновность вытекает из намерений, а не из. действий, это до того справедливо, что главная трудность в обязанности судей состоит не только в том, что они должны быть беспристрастны, но должны обладать кроме того достаточной проницательностью, чтобы быть в состоянии проникать, на сколько возможно, в намерения подсудимого сквозь целый ряд доказанных фактов, и даже эта произвольная власть судить действия и намерения казалась до того неимоверною и выше человеческих сил, что есть страны, которые разделили судопроизводство на суд присяжных и судей, из которых первый есть судья намерений, а вторые только применители закона. Эти рассуждения покажутся многим глупостями, не стоющими внимания. Для судопроизводства же дело гораздо проще. По их понятиям, это действительно ложе Прокруста, которое всем впору, кто ни попадет на него, естественным ли образом или нет, что до того! Однако выходит ли из всего сказанного нами, что так как намерения каждого известны ему одному только, то хорошее судопроизводство должно требовать от каждого подсудимого самооправдания? Конечно нет! Потому что мало людей имели бы духу к откровенному признанию, и даже можно сказать, что самые невинные и чистые скорее чем развращенные, были бы способнее обвинить и осудить себя. Но без сомнения суждения людей подвержены все погрешности, колебанию и только приблизительны; чем они решительнее, тем более они плод ничтожества и беспечности и тем они ближе к заблуждению. Великая ответственность лежит на каждом судье; эта ответственность увеличивается в размере с произвольной властью, данной судье, и следовательно снисходительность, милость и любовь не только самые благородные, но и самые разумные и твердые основания приговоров. И вот мы доходим до нравоучений Евангелия… Эта книга нам тоже возвещает великий суд, исправляющий все остальные. Она нам возвещает, что некогда наш божественный спаситель (единственный праведный судья, так как, испытуя сердца, судит действия по намерению) придет, окруженный славою, воздать каждому по делам его… Будем же все надеяться и бояться этого дня, который обличит намерения каждого!»
Как видно, он чуть ли не жалеет судей, глубоко сочувствует судьям. И царя жалко — он еще «ближе к заблуждению». Кажется, будто Апостол снова на площади Василькова толкует свой Катехизис:
«Великий суд… Для чего бог создал человека?
— Для того, чтоб он был свободен и счастлив… Закон божий гласит: да первый из вас послужит вам».
Как причудливо и противоречиво сталкиваются и отталкиваются разные идеи!.. Судить по намерению — вот чего хочет сейчас Муравьев; но сам же, как и его единомышленники, хотел в случае победы ввести современный суд, который будет воздавать более по делам, чем по умыслу; за «дурные намерения» издревле преследовали людей тираны, церковное право.
Это так. Но сейчас ведь — суд тиранический, произвольный; для него благое дело — это худое дело; какой же приговор, если в задачу подсудимых входило, в частности, сломать этот самый суд? Поэтому, говорит Муравьев, лучше вернемся «назад» — оценим намерения! Конечно, и в этом случае невозможна большая объективность, но при сложившейся ситуации, он думает, лучше, честнее воздать по намерению, чем по содеянному…
А следователи-судьи, собственно говоря, не против. Они и судят большинство декабристов за намерение (например, намерение к цареубийству). Пестеля, к примеру, арестовали до всякого действия, его «вина», большая, чем у других, состоит в намерениях; но Комитет не смущается и осудит любого с любой стороны — по делам, по умыслам…
Впрочем, Сергей Иванович уже сам вынес себе приговор, и остальное, в сущности, не очень даже ему интересно и важно. Это высокий уровень самосознания: пусть вы правы в ваших оценках, у меня — свои.
Самые близкие к нему люди не могут удержаться на этом уровне. Если б он, Сергей, мог хоть час с ними поговорить…
Бестужев-Рюмин: «Сделано было мне предложение вступить в Общество; я имел безрассудность согласиться. Все остальное (как люди глубокомысленные легко поймут) было неминуемое последствие первого пагубного шага. Угрожаемый бедою, уплачивая себя софизмами, я ревностно содействовал скорейшему достижению желаемой цели — не видя, что самый успех наш был бы пагубен для нас и для России. Но мне определено было раскрыть глаза уже в оковах».
Матвей Муравьев: «Удостойте обратить внимание на прискорбное и ужасное влияние, которое оказывает Тайное общество на членов, которые хотели бы уйти из него. Можно сравнить это с ролью, которую играла судьба в трагедиях древнего мира. Напрасно хочешь уйти — покинув путь долга, вы осуждены вращаться в порочном кругу, который вновь приводит вас к той точке, от которой вы хотели бежать. Экзальтация погубила меня».
Экзальтация — это Бестужев-Рюмин, его дар слова, который гипнотизировал Соединенных славян и был «музыкой» тайного общества. Но в дни упадка молодость духа оборачивается некоей странной, талантливой, страшной искренностью.
«Обвиняемый многими, не будучи в состоянии дать неопровержимые доказательства ложности их утверждения, я предпочел лучше согласиться, чем оставить у Комитета малейшее сомнение в моей искренности. Я не хочу, чтобы сказали, что я упорствую по той причине, что не применяются пытки. Но я вам представлю несколько соображений, таких, что ваше превосходительство, обремененный важными делами, почувствует себя спокойно, что эти данные не имеют основания…
Ваше превосходительство, благоволите извинить меня за то, что я все изложил не столь хорошо, как это требовалось бы. Столько несчастий изнурили бы душу, более сильную, чем моя».
Речь шла о том, соглашались Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин на убийство только одного царя или всего семейства? Следователи вникают тут в каждую деталь: доказанное намерение к цареубийству им нужно было для вящего обвинения; интересуются средствами, чтобы не говорить о цели. Об отмене рабства и конституции спрашивают едва-едва, между делом, а «дело» — выяснить, что за планы загорались и гасли в Москве, Бобруйске, Лещине, Белой Церкви?
По этому поводу устраивались очные ставки Сергея Муравьева с Пестелем, и они впервые увиделись после тех, давних встреч на свободе…
Тогда же Сергею предъявляют показания, что за несколько дней до восстания в Житомире он просил поляков убить Константина. Показания брата Матвея.
Сергей мог бы отказаться, и тогда дали бы очную ставку с братом, и встретились бы. Возможно, если бы понимал, что никогда им не свидеться, пошел бы на этот прием. Однако прямодушие спорить с братом не позволяет.
Сергей: «Сие показание брата совершенно справедливо; я, с своей стороны, желал скрыть показанное им обстоятельство, ибо это единственный случай, в который я отступил от правила, мною руководствовавшего во все время нахождения моего в Обществе».
Был случай таким же путем увидеться со «вторым я» — Мишелем Бестужевым-Рюминым. Показания о тайных переговорах с поляками разошлись, предлагается очная ставка, но «подполковник Сергей Муравьев-Апостол, не допуская до очной ставки, подтвердил показание подпоручика Бестужева-Рюмина».
Муравьев не увидел в тот весенний день друга, закованного в цепи, но они еще встретятся.
Сергей Иванович еще просил прощения у отца… Много лет спустя Матвей запишет: «Лица, принадлежавшие к тайному обществу, привезенные в Петербург, являлись к Николаю, который сказал, что отец нас проклял. Зная своего отца, я не поверил этим словам».
Но Матвей Иванович смущен. Как видно, на Евангелии, которое вернулось от Сергея на волю, Иван Матвеевич не написал того прощения, которого просил у него сын. Царь, вероятно, знал о каких-то словах сенатора Муравьева-Апостола, не одобрявших замысла сыновей…
Не слышим — угадываем отца в эти дни: один сын погиб, двое — у края могилы, зять чуть не убит соратниками сыновей и сейчас участвует в разборе обвиняющих бумаг. Иван Матвеевич, кажется, всю жизнь учил добру, чести, но каков же капитан, если команда, им воспитанная, тонет? Учил быть честными — и они восприняли, да думал ли он, что так серьезно воспримут, думал ли, что сам, тысячу раз не желая, десять тысяч раз подтолкнул их, своим эпикурейским равнодушием, спокойствием, может быть, усилил их пылкое беспокойство?
Если отец не пришлет утешающих слов, Сергей найдет их сам, но страшится за Матвея и Бестужева, за брата особенно, из них троих слабейшего.
Из тюремных записей в Евангелии Матвея:
«Как я благодарен вам за ваше Евангелие! Сколько раз смотрел я на два восковых пятна на переплете, и что за воспоминания они во мне возбудили: круглый стол в Хомутце, наше вечернее чтение… все это кончено для меня — для меня нет больше счастья на земле. О, господи! сократи мой путь и призови меня скорее. Я больше ни к чему не буду годен. Я знал дружбу в здешней жизни и у меня нет более друга. Те, что дружески расположены ко мне, должны радоваться, когда узнают, что я оставил юдоль скорби. Что касается меня, то я мог бы все перенести, может быть, даже мужественно, но…»
Несчастный гость на жизненном пиру
Я жил лишь день — и умираю,
И над моей могилой, как умру,
Никто слезы не выронит, я знаю…
29-летний французский поэт Николай Жильбер написал эти строки за восемь дней до смертельного падения с лошади…
Как другой поэт, Матвей «был рожден для жизни мирной»: «Близ Хорола в Хомутце, там, где разветвляется дорога из Хомутца в Бакумовку и Обуховку, есть источник; по малороссийскому обычаю здесь стоит деревянный крест. Возвращаясь, я отдыхал у креста, и там бы я хотел быть похороненным.
Я дорожу воспоминаниями о своих. Но по воле судьбы я родился и умер в Петербурге. Я убежден, что мои дорогие Екатерина, Анна, Елена не забудут меня. Для Дуняши, Лизаньки и для самого Васиньки я буду лишь воспоминанием детства…
Брат Ипполит скончался 3 января 1826 года в воскресенье в три часа пополудни, похоронен в деревне Трилесы Киевской губернии.
Брат Матюша (зачеркнуто: „февраля“) марта (пропущено место для цифры) 1826 года в (оставлено место для названия города).
Брат…»
Последняя строчка как открытая могила: Матвей даже боится вписать имя Сергея.
Предпоследние строки обличают намерение к самоубийству.
Сергей догадывается обо всем этом, помнит прежние порывы брата — решить все разом и, кажется, находит способ ободрить его в горчайшие дни. Перед пасхой, которая должна была вызвать рой полтавских воспоминаний, силы Матвея почти кончились. В страстную пятницу он пишет Чернышеву, самому грубому и жестокому из следователей:
«Во имя бога, умершего за нас на кресте, во имя тех, кого вы любили и кого больше нет, я умоляю, ваше превосходительство, не откажите мне в единственной милости, которую я осмеливаюсь еще просить». Просит же он снисхождения за то, что должен ради покоя — своего и близких — «освободить землю от своего присутствия… Смерть сгладит все».
Попытка окончить жизнь голодовкой вызывает появление в камере протоиерея Петра Мысловского.
Спор об этом человеке не окончен. Большинство декабристов сохранило о нем лучшие воспоминания. Несомненно, он жалел их, многих ободрил и не мог бороться с возрастающим уважением и симпатией к некоторым из «грешных душ», переданных ему для очищения. Но были также арестанты, уверенные, что Мысловский выдает властям тайну исповеди.
Самое вероятное, что было и то и другое. Человек и чиновник не разлучались в протоиерее, он на службе и по службе доложит Чернышеву:
«Вследствие приказания, вчерась данного мне вашим превосходительством, я, не теряя ни минуты, тотчас отправился в назначенное место… я нашел несчастного гораздо в спокойнейшем духе, нежели мог ожидать. Он даже отрекся начисто от последних слов и намерений, в избытке скорби сорвавшихся с языка его… Я имею причину думать, что воображение его, сильно возбужденное горьким одиночеством, с коим он не был знаком во всю жизнь свою, а паче — упреки совести сухие и палящие, суть единственною причиною душевных его волнений и мятежа. Три часа, мною у него проведенные, достаточны, чтобы успеть заглянуть во внутренние изгибы сердца его. Сию минуту паки отправляюсь я к злополучному и — более, нежели когда-либо, вменяю себе в обязанность почасту посещать его. О дальнейших последствиях буду иметь честь аккуратно извещать ваше превосходительство…
С неумирающим чувством благоговения честь имею пребыть вашего превосходительства всепокорнейший слуга Казанского собора ключарь Петр Мысловский.
18 апреля Царь суббот, праздник праздников».
В тот единственный день, когда Сергею разрешают написать Матвею, он будет говорить в основном против самоубийства; безусловно, младший брат знал про опасное намерение Матвея, знал от Мысловского. Священник, не раз делавший маленькие подарки узникам и посетивший на пасхе всех подопечных, несомненно, шепнул Матвею пару слов от Сергея…
К Сергею же Мысловский заходит не столько ободрять, сколько ободряться.
В «Русской старине» в 1873 году появился следующий рассказ, записанный со слов Матвея:
«Отцу позволили посетить Сергея Ивановича в тюрьме. Старый дипломат сильно огорчился, увидев сына в забрызганном кровью мундире, с раздробленной головой.
„Я пришлю тебе, — сказал старик, — другое платье“, „Не нужно, — ответил заключенный, — я умру с пятнами крови, пролитой за отечество“».
Рассказ несколько патетичен. Мундир на Сергее был действительно тот, в котором его взяли, и пятна крови могли сохраниться, но голова за полгода, конечно, зажила.
Эту же историю похоже, но правдивее, грубее, точнее передает Софья Капнист, как мы знаем, довольно точная мемуаристка. У себя в Обуховке они, печалясь, ждут вестей. Беспокоятся не только за Матвея, Сергея; здесь же их сестра Елена, уже вошедшая в семью Капнистов, неподалеку, в Бакумовке, другая сестра — Анна. Все вести из столицы приходят от сестры Екатерины Бибиковой:
«Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями; получив повеление выехать за границу, он тогда же испросил позволение увидеть сыновей своих и проститься с ними.
С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале; Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно, он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его, с отчаянием сказал: „В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?“
Он со свойственной ему твердостью духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: „Mon p?re, cela me suffira!“ то есть, что „для жизни моей этого достаточно будет!“ Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился!»
Не кровь — но изношенное платье; с меня будет — вместо умру с пятнами крови, пролитой за отечество.
Смысл сцены не меняется, но высокие слова прямо не высказаны.
Дело было 13 мая 1826 года.
С приближением лета «Санкт-Петербургские ведомости» печатают все более длинные списки отправляющихся в Европу, и если не знать никаких дополнительных фактов, то может показаться, будто на воды или для заграничных развлечений отъезжает, к примеру, генерал от артиллерии Аракчеев (объявление в газете от 11 мая); но мы-то понимаем, что в повое царствование его фортуна кончилась, и ему вообще лучше держаться подальше при окончании процесса над декабристами, мечтавшими свести с этим генералом счеты, и не портить своим унылым видом предстоящую коронацию (куда не пригласить его нельзя, а приглашать нежелательно)…
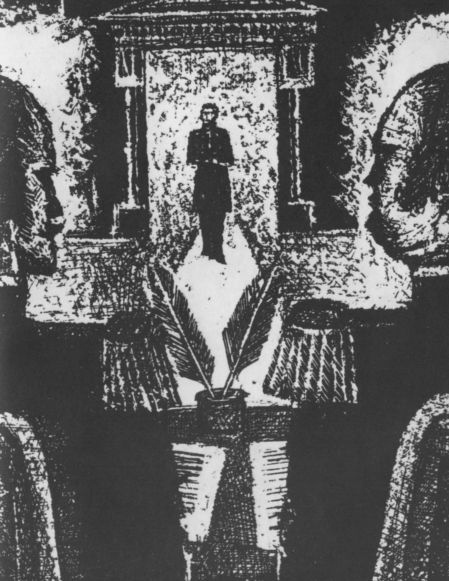 Через три дня в газете от 14 мая: «Отъезжает тайный советник, сенатор, действительный камергер и кавалер Муравьев-Апостол, с супругой Прасковьей Васильевной и малолетними детьми Евдокией, Елисаветой и Васильем; при них камердинер Карл Ион, саксонский подданный, и дворовые люди Иван Кононов и Евдокея Брызгова. Спрос на Исаакиевской площади в доме Кусовнинова».
Через три дня в газете от 14 мая: «Отъезжает тайный советник, сенатор, действительный камергер и кавалер Муравьев-Апостол, с супругой Прасковьей Васильевной и малолетними детьми Евдокией, Елисаветой и Васильем; при них камердинер Карл Ион, саксонский подданный, и дворовые люди Иван Кононов и Евдокея Брызгова. Спрос на Исаакиевской площади в доме Кусовнинова».
И еще дважды, как полагается, объявление повторено, чтобы кредиторы и прочие заинтересованные лица могли успеть в предъявлении Ивану Матвеевичу своих претензий.
Последнее объявление в газете от 21 мая. После этого сенатор мог садиться в карету или на корабль. В эти же дни «Санкт-Петербургские ведомости» упоминают Ивана Матвеевича и в другом разделе: «В книжных лавках Глазунова и Смирдина продается „Путешествие Муравьева-Апостола по Тавриде в 1820 году“, цена 12 рублей, цена с пересылкою — 13 рублей».
В эти дни в крепости уже почти не допрашивают — пишут обобщающие записки, готовят сводное донесение, размышляют о вынесении приговоров.
Отцу дано повеление уехать и в связи с этим разрешено свидание с сыновьями. Он слишком крупная персона, слишком замешаны его дети; ясно, что Сенат будет участвовать в решении дела — и как быть с сенатором Муравьевым-Апостолом? Мешает, опасен; сам по себе он — живой протест, даже если не протестует.
Увы, не знаем подробностей — как, кем было сделано предложение об отъезде (скорее всего, кто-то из высших персон передал царское пожелание); не ведаем, что говорил, думал Иван Матвеевич, так долго шедший рядом, близко — в согласии или спорах с детьми.
Иван Матвеевич исчезает.
«Дело Муравьева-Апостола Сергея, подполковника Черниговского полка. 328 листов, последние 32 — чистые».
71 документ. В начале — копия с формулярного списка о службе: чины, сражения, в которых участвовал, награды.
«В штрафах был ли, по суду, без суда, за что именно и когда?
— не бывал.
Холост или женат и имеет ли детей?
— холост.
К повышению достоин или зачем именно не аттестуется?
— За возмущение Черниговского нанка — недостоин.»
Документ № 71, как положено, «Записка о силе вины».
На нескольких листах — 31 вина подполковника Муравьева-Апостола.
«Обстоятельств, принадлежащих к ослаблению вины, кроме скорого и добровольного признания при следствии без улик, во всем деле о Сергее Муравьеве не оказывается».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
2. Чья вина?
2. Чья вина? И гибли корабли и шли ко дну Я с ними погружался в глубину, Их боль для сердца моего Была нужней, чем ваше торжество. Виктор Гюго Траурный поезд прибыл в Париж в разгар восстания. Коммуна взяла власть в свои руки. Революционеры и патриоты объединились,
14. Бокал вина
14. Бокал вина Немецкий художник Конрад еще меньше меня ростом. Когда я сказала ему, что изваяла из металла скульптуру в два с половиной метра высоты, он чуть не свалился с нар. Он готов удивляться и изумляться. Как ребенок. В Терезин он привез с собой наборы открыток с
ГОРЕ ИЛИ ВИНА?
ГОРЕ ИЛИ ВИНА? Быть свободной и быть одинокой,В этом равенстве —Равенства нет.Ах, зачем эта женщина строгаяТратит свой нерастраченный свет!Тратит весело и торопливо,Все равно — на кого и где.Ей так хочется быть счастливой,Что, наверное, быть беде…Независимая
"Вина, вина! Пусть жизнь горит в разгуле!.."
"Вина, вина! Пусть жизнь горит в разгуле!.." Вина, вина! Пусть жизнь горит в разгуле! Завыли скрипки. В их визгливом гуле Знакомый крик над пропастью ночной, Как старый ворон, вьется надо мной. Вина, вина! Пусть тонет мир в бокале! Я жду опять, чтоб скрипки зарыдали. Хотел бы
«Одна новинка; да всего одна…»
«Одна новинка; да всего одна…» Одна новинка; да всего одна разыскана за книжными рядами, смущается, обласканная вами, и отрицает то, что есть она, и жребий свой. Но книгами, вещами вещает нам желанная страна, их счастьем будничность окружена, они смягчают грани между
«Моя вина, моя война»
«Моя вина, моя война» Но пока мы наслаждались этим сравнительно аркадским благополучием, в других местах, даже не столь отдаленных, было куда хуже, чем даже нам в 70-е годы.Дон Базилио был прав: клевета — великая сила. Согласно общеупотребляемой клевете, которая заменяет
Чья вина?
Чья вина? Ему было лет тридцать. Большие голубые глаза, чистый лоб, рыжие борода и усы. Кроткое выражение лица. Первое, что я от него услышала:— Доктор, перед вами неизлечимо больной. Я собралась возразить, но он перебил меня:— Да, да. Это так. Я много читал по психиатрии. Мне
Чья же вина?
Чья же вина? Но не будем ханжами и зададим вопрос: а не были ли семейные конфликты связаны с физическим охлаждением уже стареющего мужчины к своей, хотя и несравненно более молодой (разница шестнадцать лет), но тоже далеко не юной подруге? Вчитаемся, например, в эту страницу
«МОЯ ВИНА, МОЯ ВОЙНА»
«МОЯ ВИНА, МОЯ ВОЙНА» Но пока мы наслаждались этим сравнительно аркадским благополучием, в других местах, даже не столь отдаленных, было куда хуже, чем даже нам в 70-е годы.Дон Базилио был прав: клевета — великая сила. Согласно общеупотребляемой клевете, которая заменяет
«МОЯ ВИНА, МОЯ ВОЙНА»
«МОЯ ВИНА, МОЯ ВОЙНА» Но пока мы наслаждались этим сравнительно аркадским благополучием, в других местах, даже не столь отдаленных, было куда хуже, чем даже нам в 70-е годы.Дон Базилио был прав: клевета – великая сила. Согласно общеупотребляемой клевете, которая заменяет
ВИНА
ВИНА Моим друзьям и товарищам, да и недоброжелателям и врагам, а также моим читателям известно, что я был незаконно репрессирован, был в лагерях в Сибири и на Колыме, затем полностью реабилитирован. Это известно из моих устных рассказов, но боже – из моих стихов.Эти стихи,
Вина Воды
Вина Воды Увидав его, после многолетнего перерыва, на московской филологической тусовке, я сразу понял, что это кто-то, кого я знаю, но, хотя изменился он сравнительно мало, лишь интенсивным усилием памяти (есть у меня такая техника) смог определить, кто же именно. Мы
Глава тридцать восьмая ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА
Глава тридцать восьмая ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА Войну с Японией в России ожидали, но начало ее — без официального объявления, ночной торпедной атакой японцев по военным кораблям, стоявшим на рейде Порт-Артура, — всё же застало командование Тихоокеанской эскадры русского флота
март 28-29 Тридцать два ответа на тридцать три вопроса
март 28-29 Тридцать два ответа на тридцать три вопроса Студентка театроведческого факультета ЛГИТМиКа прислала мне вопросник. Оставила на проходной театра, а потом исчезла. То ли ее из института отчислили, то ли потеряла надежду со мной встретиться. Она рассчитывала
Тысяча и одна церковь: от тридцать первой до сорок пятой
Тысяча и одна церковь: от тридцать первой до сорок пятой В последний раз Гертруда Белл посещала Бинбир Килисе в 1908 году, и церковь № 1 еще хранила следы перестройки, проводившейся в IX или X веке, что дало нам столько информации об истории Бараты, сколько мы вряд ли