«Мои воспоминания» Александра Бенуа
бетон и кабель — отчаянная проза. А черт его знает, проза это, или нет. Все это, во всяком случае, стиль, несомненнейший, цельный, гигантский стиль, как бы бесстильным наше время ни казалось» 60. Ответ Бенуа последовал очень быстро: «...с твоим восхвалением бетона и кабелей согласиться не могу. ...Когда видишь, как буржуа поганят красивейшие местности мира (здесь в Бретани) своими погаными виллами (с бетонными усовершенствованиями) и ломают драгоценнейшие и священнейшие скалы для того, чтобы строить отели и казино, то ни минуты нельзя оставаться в сомнении, что все на ложной дороге. Никому никакого дела до красоты нет...» ".
Эта инвектива против современной западной цивилизации легко вписывается в романтическую традицию русской художественной мысли, традицию, восходящую еще к первой половине XIX столетия и основанную в конечном счете на решительном неприятии буржуазного прогресса. Разумеется, и это стоит всячески подчеркнуть, Бенуа никогда и ни с какой точки зрения не рассматривал в одном ряду «поганые виллы», с одной стороны, и картины Сезанна, Ван Гога или Гогена — с другой: в своих статьях, особенно более позднего времени, он высказал немало уважительных слов о творчестве последних, хотя и до конца дней своих но разделял панегирического к ним отношения. Несомненно, однако, и то, что европеизм Бенуа, его «западничество» вступали здесь в сложный внутренний конфликт с его же понятием красоты, с его культурологической моделью, с его представлениями о целях и задачах современной культуры.
Заговорив об этой модели, мы сталкиваемся с другим, весьма распространенным в критическом обиходе начала века определением историко-культурной и творческой позиции Бенуа — эстетизм. Хотя мемуарист подробно не посвящает читателя в связанную с этим понятием крайне существенную плоскость идейно-художественной полемики вокруг «Мира искусства» и его лидера, она постоянно ощущается в книге — то в виде специально уточняющих автохарактеристик, то в качестве подоплеки некоторых описываемых событий. Более того, можно определенно сказать, что все те страницы воспоминаний, на которых автор излагает свои общие взгляды на искусство, внутренне соотнесены с этим ходовым обозначением «мирискуснической» платформы и вызваны желанием разъяснить позицию именно по этому поводу.
В «эстетизме» Александра Бенуа винили с самых разных сторон. Интересно заметить, что наиболее последовательную оппозицию он здесь встретил не вне, а внутри самого кружка, в лице Д. В. Философова, оспаривавшего многие суждения Бенуа со своих религиозно-философских позиций. Полемика между ними, казавшаяся поначалу «семейным» делом дружеского сообщества, вскоре приобрела публичный характер, выразившись в резких статьях, публиковавшихся на протяжении 1900-х го-
*° Грабарь Игорь. Письма. 1891—1917, с. 183—184. 41 Отдел рукописей ГТГ, ф. 106/2155, лл. 1 и 1 об.
616*Г. Ю. Стернин
дов. Она выявила весьма характерную сторону творческой истории «Мира искусства», идейной эволюции его членов и оставила след в художественной жизни России начала века. Этой разделительной черты, этой, крайне важной для понимания духовной атмосферы эпохи, сферы острых противоречий и борьбы мемуарист касается неоднократно — и в рассказах о своем отношении к «Религиозно-философскому обществу», и в критических портретных характеристиках Д. С. Мережковского и В. В. Розанова, и в ряде других мест книги.
Но «эстетизм» Бенуа и его друзей вызывал серьезные нарекания и с иных* позиций. Неодобрительно упоминал, например, о нем Александр Блок, имея в виду недостаточно глубокое, на его взгляд, воплощение «мирискусническим» творчеством драматических коллизий эпохи, недостаточное напряжение лирического чувства. Дело осложняется еще и тем, что на протяжении того сравнительно короткого времени, о котором идет речь в мемуарах, сам Бенуа резко менял свое отношение и к самому слову «эстетизм» и, что гораздо существеннее, к вкладываемому в него содержанию.
Каков же был действителъный смысл «мирискуснического» «эстетизма», если рассматривать его в контексте всей русской художественной культуры рубежа веков? В чем заключалась его историческая «правда» и в чем — социальная и художественная ограниченность? Конкретные задачи послесловия к «Моим воспоминаниям» не дают права ни слишком углубляться в эти очень сложные вопросы, ни полностью обойти их.
В уже упоминавшейся выше книге о «Мире искусства», написанной в 1924 г., Бенуа видел основание самой идеи «мирискуснического» движения в «известной гуманитарной утопии» и подчеркивал, что это была идея, «столь характерная для общественной психологии конца XIX в.»42. Оба эти утверждения крайне существенны для понимания того идеологического знамени, которое поднял Бенуа, возглавив борьбу петербургского кружка за обновление русской художественной культуры. Недаром и в своих мемуарах он уделяет такое большое место социально-психологическому портрету своих молодых сподвижников, людей, начинавших в 90-х годах свою самостоятельную деятельность.
Правда, и это мы тоже уже видели в одном из цитированных писем, художник прежде возражал против причисления его к «людям 1890-х годов» («как раз это вздор, ибо перед Аполлоном никаких 1890-х годов нет»). Но именно этот аргумент выразительнее многого другого выдавал в нем представителя художественной интеллигенции конца века. Он ясно характеризовал собою особый тип художественного сознания, искавшего путей возвысить искусство и всю духовную деятельность над «частными», текущими социальными проблемами. «Гуманитарная утопия» «Мира искусства» питалась глубокими настроениями эпохи, в ее сложных духовных устремлениях романтический талант Бенуа обретал стимулы и возможности для своего разностороннего проявления. И дело было здесь
Бенуа Александр. Возникновение «Мира искусства», с. 56*
«Мои воспоминания» Александра Венуа
617
совсем не только в тех художественных новациях, которые выявились в живописи и графике петербургской молодежи. Кстати сказать, поначалу они были более чем скромны. Гораздо показательнее для времени желание кружка реформировать всю художественную жизнь, сформулировать задачи искусства на уровне определенной идеологической системы (как позже выяснилось — «утопии»).
Здесь нет необходимости подробно характеризовать объективные исторические предпосылки упомянутых общественно-культурных процессов (разумеется, они не исчерпывали собою идейного содержания эпохи), происходящих в России в конце века. Отметим лишь, что в области общественной мысли это было время кризиса народнических идей, время, когда, по словам В. Г. Короленко, «у так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора» 43, время, когда по наблюдению того же писателя, «огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы» 44.
Петербургское «Общество самообразования», а затем редакция журнала «Мир искусства» были совсем не единственными в художественной среде того времени, кто пытался утвердить самостоятельное значение красоты и для кого проблемы искусства вновь оказались требующими пересмотра «сложными вопросами» (как известно, под таким названием в первых номерах «Мира искусства» была опубликована программная статья Дягилева, сбивчивая и непоследовательная, но вполне определенно направленная против демократической эстетики передвижничества45). В те же годы с призывом к «свободному искусству» и к красоте как к главной его цели выступил в своих известных статьях такой корифей русского реализма второй половины XIX в. как Репин. Декларативный смысл этих репинских заявлений, имевших большой резонанс в русской художественной жизни 90-х годов, делал их знаменательными прежде всего в качестве общего симптома тех кризисных явлений, которые были свойственны русскому искусству интересующей поры 46.
Стремление радикально пересмотреть вопрос о соотношении в искусстве красоты и добра, истины и красоты оказалось основным пафосом знаменитого трактата Льва Толстого «Что такое искусство?», появившегося в то же десятилетие. Хорошо известно, что, исследуя проблему, писатель приходил к прямо противоположным выводам и в устанавливаемой им иерархии духовных ценностей полностью подчинял красоту морали, утверждал «бесполезность», а стало быть и ненужность красоты В этом смысле Толстой явился прямым антагонистом многих деятелей ис-
43Короленко В. Г. Собр. соч.: в 10 т. М., Художественная литература, 1955, т. 8, с. 13.
44Там же, с. 14.
45Дягилев С. Сложные вопросы.— «Мир искусства», 1899, №№ 1-2 и 3-4.
46Подробнее см.: Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России XIX—XX веков. М.,
1970, с. 83 и след..`
618?• Ю- Стернин
кусства, и разносторонняя полемика с его сочинением занимает существенное место в русской художественной мысли конца века.
Однако констатировать лишь это совершенно очевидное различие — значит упустить очень важную сторону дела. Прежде всего желание Толстого допустить «только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии» 47 сближало его. на уровне принципов осознания творческой миссии, с теми, кто ратовал за вечные формы прекрасного, за вечную красоту универсального «эллинского» духа. Не менее важно и другое. Противопоставленная живой плоти художественных образов нравственность в системе толстовских идей теряла свою непосредственно эстетическую окраску. Но вместе с тем эта этическая проповедь обретала большой самостоятельный духовный потенциал, влияя на романтические представления эпохи о нравственно-преобразующих (в эстетическом кодексе символизма — «жизнетворческих») задачах искусства.
Бенуа в своих мемуарах не касается этой общей ситуации 90-х годов. Не пишет он и о некоторых частных ее эпизодах, имевших уже непосредственное отношение к ранней истории «Мира искусства», например, о попытках Дягилева—^правда, неудачных — использовать упомянутые выступления Репина для того, чтобы привлечь маститого художника па свою сторону и тем самым укрепить авторитет петербургского кружка48. И однако же сложные пути художественного самоопределения эпохи, в которую формировалась личность мемуариста, ощущаются непрерывно.
«Мережковские назвали меня эстетом. Но это неверно или верно лишь отчасти» 4Э. Это выразительное признание находится в одном из писем Бенуа, датированном июлем 1905 г. В известной — и достаточно серьезной — мере здесь сказывалось время: как раз в годы первой русской революции художник особенно остро переживает необходимость пересмотреть свое отношение к «эстетизму», к идее «свободного», «чистого» искусства и т. д. Но приведенная автохарактеристика имела, бесспорно, и общий смысл, распространяющийся на более раннюю позицию Бенуа. В «Моих воспоминаниях» мемуарист старается подробно обосновать ее, давая понять читателю, что для него — это вопрос не только личной репутации, но и человеческого и художественного смысла всей той «целой культуры», представителем которой он осознавал себя с юношеских лет.
Определяя свою жизненную и творческую миссию, Бенуа любил называть себя «служителем Аполлона», а само искусство уподоблять «улыбке божества». Такие определения можно встретить на страницах мемуаров, к ним же, как мы отчасти видели, критик прибегал не раз, изъясняя свою позицию в статьях и письмах ранних лет. При всей распространенности подобных метафор в литературном обиходе начала XX в., в них заключалось здесь определенное эстетическое кредо, и именно в таком
47Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 101.
48См., например: Дягилев С. Письмо по адресу И. Репина.— «Мир искусства», 1899,
№ 10.
*9 ЦГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 3, л. 56.
«Мои воспоминания» Александра Венца
619
своем качестве признания Бенуа воспринимались в художественной среде той поры. Отмечая полемическую заостренность этой программы против «направленства» позднего передвижничества, с одной стороны, и «теургических» притязаний символизма — с другой, современники обращали основное внимание на два ее аспекта: ретроспективизм и понимание красоты. Они имели при этом в виду не только слова «мирискусоического» лидера, но и все дела возглавляемого им направления.
«Ретроспективные мечтатели» — это не очень складное выражение, мимоходом высказанное по адресу петербургского кружка одним из его современников, вноследствии прочно вошло в историко-художествениую характеристику «мирискусников». Желание воплотить «ретроспективную мечту», мечту, обращенную в прошлое, видели, и не без основания, в самых различных сторонах творческой и общественной деятельности членов объединения — в их картинах и сценических интересах, в их му-зейно-знаточеских пристрастиях, в их восторя^енных публикациях Петербурга Растрелли и классицизма, в их выставочных предприятиях, имевших целью воскресить культуру и быт послепетровской России. Во всех этих делах внутренние побуждения Бенуа играли ведущую, если не главную роль.
Характеризуя это свойство своего художественного сознания, мемуарист замечает в книге: «У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. ...Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась «машина времени», но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки» (I, 181).
Однако сколь бы соблазнительным для себя ни представлял автор свое желание «застрять навеки» в одной из прошлых эпох — а к этой теме он возвращается в своих мемуарах не раз,— на деле другой соблазн или, лучше сказать, другая потребность постоянно корректировали логику поведения Бенуа, заставляли соотносить прошлое не только с настоящим, но и с будущим. С того момента, когда Бенуа стал осознавать себя деятелем, призванным открыть перед русским искусством новые перспективы (в книге очень хорошо показано, что это представление о своей жизненной миссии было свойственно ему еще с юношеских лет), его тяготение к прошлому, его «пассеизм» оказывались не столько способом уйти от реальных Проблем культуры, сколько средством вмешаться в них. Позиция эта была далека от безмятежного созерцания былой, ушедшей красоты. В ней постоянно ощущалась забота о текущих художественных делах, об их перспективах и сложностях.
Между прочим, если с этой стороны поглядеть на «Мои воспоминания» как на художественное произведение, то, возможно, они окажутся, как это ни парадоксально, самым «безмятежным» творением Бенуа. Именно здесь автор мог позволить себе (или смог заставить себя) целиком погрузиться в прошлое, ощутить его как полностью довлеющий себе мир,
620'T· ?O· Стернин
имеющий безотносительную ценность, именно здесь вектор времени авторской позиции направлен постоянно в одну и ту же сторону — назад. Но тогда, на рубеже веков, как только «мирискусническая» программа становилась пе только внутренним делом кружка, но и планом активной общественно-творческой деятельности, она оказывалась двойственной в своей основе. Влюбленные в художественное великолепие давних эпох, пытавшиеся воскресить его и прямо, путем пропаганды памятников искусства прошлого, и другим способом, заставляя оживать прошедшие века в своих театральных постановках, картинах, рисунках, «мирискусники» и Beriya, в первую очередь, вместе с тем ясно отдавали себе отчет, что предмет их поклонения как целостный тип культуры, как особый социально-эстетический феномен, уже целиком принадлежит истории. Никакой двойственности, конечно, могло бы и не быть, если бы дело касалось лишь желания извлечь некие нормативные уроки «красоты» из художественного опыта прошлого — именно этой целью задастся Бенуа несколько позже, на рубеже 1900-х и 1910-х годов, в пору своего сотрудничества в «Аполлоне», поддерживая развитие неоклассических тенденций в пластических искусртвах. Однако в годы, о которых идет речь в мемуарах, выдвигавшийся «мирискусниками» лозунг «возрождения» подразумевал решение именно общекультуриых проблем и как раз своей ориентацией на синтетический подход к задачам искусства они любили противопоставлять себя предшествующему поколению художников.
Все это весьма заметно сказывалось на общественном и творческом самосознании членов петербургского сообщества, самосознании, в котором удовлетворенное чувство причастности к новым художественным открытиям, к новым завоеваниям русской культуры рубежа XIX и XX столетий соседствовало с «ретроспективной мечтательностью», с сентиментальной грустью по ушедшим временам. В попытках взглянуть на это противоречие как на естественное порождение буржуазной цивилизации члены кружка иногда искали опоры своим лозунгам в эстетических утопиях прошлого века. В частности, популярным в их среде было имя Уильяма Морриса. Но это не решало существа дела, что стало особенно ясным в годы первой русской революции, еще более подчеркнувшей рубеж между прошлым и настоящим и, главное, с предельной зримостью выявившей глубокую связь между вопросами «культуры» и общими историческими судьбами страны 50.
Документом, необычайно выпукло выразившим эту психологическую ситуацию в художественной жизни революционных лет, оказалась, например, речь Дягилева, сказанная им в 1905 году по поводу знаменитой Таврической выставки русских портретов, устройству которой Бенуа уделяет так много внимания в мемуарах и которую действительно можно уверенно причислить к числу крупнейших общественно-культурных акций «мирискуснического» сообщества. Сразу же опубликованная под знаменательным заголовком — «В час итогов» («Весы», № 4), речь эта характерно сочетала в себе несколько театральное расставание с прошлым, с одной стороны, и трезвое понимание исторической неизбежности глубоких политических и социально-культурных перемен.
«Мои воспоминания» Александра Бенуа
621
Отмеченные коллизии прямо сказались на биографии петербургского кружка, переставшего в 1904 г. существовать в качестве самостоятельного объединения — возродившийся в 1910 г. «Мир искусства» не имел уже своей общей идеологической и творческой программы. В нашем случае важнее обратить внимание на другое. Вступая в художественную жизнь России с призывами к «свободному искусству», Бенуа, оказавшись вскоре в роли идеолога и главы крупного культурного движения, значительно углубил свою позицию. Его эстетизм — по крайней мере, в том своем виде, в каком он определялся общественно-культурными импульсами этого движения — не только питался «ретроспективной мечтой», но и вступал с нею в сложные, драматические отношения.
Вопрос об эстетизме Бенуа часто обсуждался в начале века, да и позже, и в более специальном смысле. Речь шла о самих принципах истори-ко-художественного и критического подхода Бенуа к оценке искусства, к понятию красоты. Многие страницы «Моих воспоминаний» — косвенный, а иногда и прямой отклик мемуариста именно на эту сторону полемики вокруг его деятельности критика и историка искусства.
Понятно, что поводы для подобных споров предоставлялись на каждом шагу. Суждения человека, регулярно выступавшего с критическими статьями, публиковавшего в печати крупные исследования, были все время открыты суду современников, тем более, что Бенуа не только никогда не маскировал свои аналитические принципы, но, наоборот, любил всячески заострять их, считая целенаправленную последовательность критической позиции ее основным достоинством. Никак не рассматривая себя созидателем или даже просто адептом какой-либо целостной эстетической системы, Бенуа вместе с тем охотно принимал вызов, который не раз бросали ему по поводу его взглядов на основополагающие категории искусства. Критик мог выступать в этом случае как выразитель коллективного «мирискуснического» кредо. Но не менее настойчиво он подчеркивал, что формулирует свои собственные убеждения, во многом отличные от художественного символа веры некоторых других членов кружка, а иногда (как в случае с Д. В. Философовым) и решительно ему противостоящие.
Обе эти позиции — «коллективная» и «личная» — нашли свое отражение в мемуарах. Первая из них больше всего дает себя знать в главах, где рассказывается о раннем периоде петербургского сообщества и где сама личность мемуариста прочно вписывается в идиллическую картину духовного братства нескольких «образованных юнцов», гутирующих семейные коллекции предметов старины или же завороженных зрелищем балетного спектакля. В последующих разделах «Моих воспоминаний» все более отчетливо выявляется личная позиция Бенуа, причем порою автор заявляет о ней в подчеркнуто открытой форме, явно разумея при этом весь полемический контекст рубежа веков. Вот одно из таких очень симптоматичных заявлений мемуариста: «В вопросе оценки художественного значения и достоинства М. В. Добужинского особенно ярко выразились те две противоположные точки зрения, которые руководили Дягилевым
622'T· ?0· Стернин
и мной. Для меня, как-никак, главным в искусстве всегда было (и до сих пор остается) то, что за неимением другого слова, приходится назвать избитым словом «поэзия» или еще более предосудительным в наши дни словом — «содержание». Я не менее другого падок на красоту красок, и меня может пленить в сильнейшей степени игра линий, сочетание колеров, блеск и виртуозность техники, но если эта красочность, эта игра форм и эта техника ничему более высокому или более глубокому (все слова, потерявшие прежнюю свою силу, но вот других пока не создано) не служат, то они не будят во мне тех чудесных ощущений, для которых по-моему и существует искусство. Здесь дело не в «сюжете», который может оставаться и чуждым, непонятным, неугадываемым, а здесь все дело в какой-то тайне, которая проникает до глубины нашего существа и возбуждает там ни с чем не сравнимые упования, надежды, мысли, эмоции и вообще то, что называется «движениями души». В моем представлении и в моем непоколебимом убеждении эта тайна и есть искусство» (II, 340-341).
Читателю, не очень посвященному в детали русской художественной жизни начала XX в., это авторское утверждение может показаться, вероятно, недостаточно конкретным, даже при всех многократных оговорках Бенуа о том, что, за неимением других слов, он вынужден пользоваться «избитыми» понятиями. Однако взятый в контексте журнально-газетной полемики той поры, приведенный отрывок очень точно обозначает ту, свойственную именно Бенуа критическую позицию, которая определяла его особое место в «мирискусническом» сообществе и которая, вместе с тем, постоянно притягивала к нему остальных членов кружка, делала его в их глазах признанным авторитетом.
Многое, конечно, определялось выдающимися профессиональными качествами Бенуа: его тончайшим художественным чутьем и огромным литературным даром. Многое, но не все. Речь здесь должна идти также о широте художественных взглядов критика, о совмещении в них на основе глубокого и, стоит еще раз подчеркнуть, «содержательного» подхода к искусству различных сторон романтического искусствопонимания.
Эта особенность художественного сознания, которую сам мемуарист не раз определял как особый род эклектизма, иногда воспринималась современниками как внутренняя противоречивость, как непоследовательность позиции Бенуа-критика, Бенуа-историка искусства. Бывало и другое, когда Бенуа, волею писавших о нем, сознательно или нет, превращался в весьма однозначную фигуру. Одни видели в нем чуть ли не последователя передвижнического реализма, другие, наоборот, считали его художественным деятелем, равнодушным к лучшим традициям русской духовной культуры и пытавшимся всячески отгородить искусство от переживаний и надежд эпохи.
«Мои воспоминания», кроме всего прочего, интересны и важны тем, что не только выбранными местами, где прямо говорится о художественных взглядах мемуариста, но и всем своим содержанием рисуют гораздо более многосторонний и сложный образ их автора.
«Мои воспоминания» Александра Венуа623
И в мемуарах, и в статьях, и в письмах Бенуа много раз писал о том. что ему глубоко свойствен культ красоты, и эти его признания были основою его репутации поклонника эстетизма и «чистого» искусства. Эта репутация полностью соответствовала действительности в той мере, в какой эти качества определяли полемическую позицию критика по отношению к эстетической платформе его предшественников. Но как только оппоненты Бенуа пытались расширительно толковать его стремление «служить Аполлону» и представить дело так, что красота заслоняет от него все иные духовные ценности, он самым решительным образом отвергал подобную постановку вопроса и не уставал напоминать о существующей для пего неразрывной связи между культом красоты и культом высшей истины. Приведенное выше рассуждение Бенуа о его взглядах на искусство — одно из многих его объяснений именно этой стороны дела.
* * *
Если рассматривать «Мои воспоминания» как литературный памятник и попытаться оценить их с точки зрения типологии мемуарного жанра, нетрудно увидеть существенное различие между первым и вторым томами (к последнему близки по своему характеру и «Воспоминания о балете»). Объединенные хронологической последовательностью излагаемых событий, обе эти части заметно отличаются друг от друга мерою внимания рассказчика к собственным «впечатлениям бытия», степенью наполненности текста жизненными реалиями.
Характерное свойство первого тома — поразительная бытовая плотность его повествовательной ткани. Бенуа создает здесь свой, особый мир, поэтическое обаяние которого неотъемлемо от множества его материальных примет. Пространства петербургских улиц и архитектурпых ансамблей, обжитые стены родительского дома, интерьеры загородных дач и дворцовых построек — вот четко обозначенные мемуаристом физические координаты этого мира, населенного в книге близкими «Шуреньке» людьми. Автор как'будто возвращается к любимому занятию своих юных лет — неторопливому разглядыванию старых альбомов с пожелтевшими гравюрами и дагерротипами. Только на этот раз он рассматривает и заставляет ожить в памяти семейные фотографии и открытки с видами Петербурга прошлого столетия м.
Второй том демонстрирует иную сторону литературного дарования автора — его мастерство летописца художественных событий, его замечательную способность средствами слова передать восторг человека перед красотой, перед творениями искусства. По композиционной основе, по своей внутренней задаче этот раздел «Моих воспоминаний» гораздо бли-
«Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга»,— отмечает Бенуа, имея в виду свои парижские годы (I, 15).
624 / Г. Ю, Стернин ¦
же, чем первый, к типу «профессиональных» мемуаров деятелей культуры, повествующих о «жизни в искусстве» 52.
Но за всем тем «Мои воспоминания» как монументальное литературное полотно обладают и неоспоримым единством. Главная причина тому — цельность поэтического таланта Бенуа и глубокая внутренняя последовательность того жизненного опыта, о котором идет речь в книге. В этом смысле и содержательные и литературно-стилевые особенности каждого из двух томов мемуаров — всего лишь ипостась общей человеческой позиции автора, его художнического зрения, его отношения к проблемам бытия, его взгляда на прожитое и пережитое.
С известной стороны, как уже выше говорилось, «Мои воспоминания» можно, пожалуй, считать наиболее «безмятежным» художественным творением Бенуа. По поводу первого тома мемуаров к сказанному можно добавить и другое: никогда раньше в творческой практике мемуариста его ретроспективные идеалы не опирались на столь конкретную материальную основу, нигде раньше — ни в живописи, ни в графике, ни в театральных постановках Бенуа — реконструкция прошлого не имела такого прочного и осязательного каркаса. Конечно, это было предопределено основной задачей книги, заключавшейся в том, чтобы правду «настроения» совместить с правдою реальных фактов детства и юности героя. Но любопытен и сам путь, по которому идет автор, реализуя эту свою цель.
Обращаясь к историческим эпохам в своем изобразительном творчестве, Бенуа-художник внимательно изучал образцы музейного искусства, постигал отношение к миру старых мастеров. Беиуа-мемуарист, воссоздавая окружающую среду и духовную атмосферу петербургской жизни прошлого столетия, тоже не остается безразличным к художественному опыту, заключенному в давних памятниках культуры. В данном случае его интересуют, и это вполне естественно, уроки мемуарной прозы.
Мы уже говорили о том, что, работая над текстом, автор все время помнил знаменитое автобиографическое сочинение Гете «Dichtung und Wahrheit». Характер намеков Бенуа на этот гетевский труд позволяет утверждать, что в нем он видел классический пример того сочетания «поэзии» и «правды», которое позволяет свободно и органично соединять «жизнеописательные» мотивы с прямым выражением художественного кредо мемуариста, с его поэтической системой видения мира.
Упоминает Бенуа в своей книге еще одно произведение мемуарной литературы — «Записки» А. Т. Болотова, пользовавшиеся большой популярностью у русского читателя со времени их первой публикации в
В этом разделе мемуаров (и особенно в «Воспоминаниях о балете») Бенуа явно ставил перед собой еще одну, частную, но важную для него задачу — внести некоторые коррективы в сложившееся позже, главным образом после «Русских сезонов» в Париже, представление о главенствующей роли С. П. Дягилева в осуществлении художественной программы петербуржцев. Не отрицая дягилевских заслуг перед русским искусством и никак не умаляя ценных свойств весьма одаренной натуры «Сережи», мемуарист вместе с тем не раз отмечает его попытки монополизировать коллективные достижения многих начинаний.
«Мои воспоминания» Александра Венуа
625
70-х годах прошлого столетия. Воспроизводящие жизнь и быт просвещенного русского помещика екатерининских времен, много сделавшего для развития агрономической науки в России, «Записки» эти тематически довольно далеко отстояли от семейной хроники петербургского артистического «клана» и в этом смысле стать источником вдохновения не могли. Их значение для творческой лаборатории Бенуа-писателя, Бенуа-мемуа-риста заключалось в другом. Традиции подобной автобиографической прозы прочитываются в «Моих воспоминаниях» прежде всего как определенный стилевой импульс, влиявший на интонационный строй повествования и, главное, на способ наполнения слова свободным от рефлексии рассказчика предметным содержанием. Этот художественный ресурс в соединении с остротою и цепкостью художнического глаза Бенуа придает его мемуарам совершенно особую стилевую окраску. С этой точки зрения «Мои воспоминания» предстают перед читателем как интересный опыт распространения некоторых принципов «мирискуснической» ретроспекции на область словесного творчества.
Если в первом томе мемуаров эта проекция дает себя знать в самой предметно-изобразительной функции слова, то во втором она сказывается больше в общих эстетических взглядах автора, в характере устанавливаемых им тройственных взаимоотношений между собою, искусством и действительностью. Талантливое профессиональное зрение Бенуа в полной мере сказывается и здесь на литературных особенностях памятника, на многоцветности, осязаемой пластичности его предметного мира, но теперь мемуарист чаще рассказывает и убеждает, чем показывает и рассуждает. Воссоздавая картину художественной жизни рубежа XIX и XX вв., Бенуа во втором томе пользуется иными .средствами реконструкции прошлого. На этих страницах он подчеркивает в литературном «статусе» мемуариста прежде всего позицию свидетеля и участника происходивших событий, именно таким непосредственным образом дистанцианируя расстояние между настоящим и прошедшим, между историей и временем создания книги.
?4*i?%i?%
В начале статьи уже отмечалось, что «Мои воспоминания» охватывают наиболее значительный период в жизни Александра Бенуа и всего того художественного движения, которое он возглавил. Если же иметь еще в виду публикуемые в Дополнениях «Воспоминания о балете», то можно без всяких оговорок утверждать, что читатель предлагаемых двух томов мемуарного наследия художника получает в руки литературный документ эпохи, дающий полное представление о всем самом важном, что было в творческой биографии автора как необычайно яркого выразителя глубоких художественных устремлений рубежа веков.
Разумеется, это никоим образом не значит, что все то, что осталось за пределами книги,— малосущественно. После тех событий, которыми кончается повествование, Бенуа прожил еще почти полвека и до последних дней своих продолжал размышлять, продолжал трудиться,
626
Г, Ю. Стернин
Так, начало 1910-х годов отмечено тесным сотрудничеством Бенуа с Московским Художественным театром — его участием в постановках пьес Мольера, Гольдони, «маленьких трагедий» Пушкина. Это сотрудничество оставило заметный след и в судьбах предреволюционной сценографии, и в истории русского театрального искусства.
На протяжении всего предреволюционного периода Бенуа оставался и деятельнейшим художественным критиком. Не ограничиваясь суждениями по поводу текущей выставочной жизни, он постоянно держал в своем поле зрения основные события театральной хроники Москвы и Петербурга, 4?cto и горячо вступался за архитектурные памятники прошлого.
Логика развития художественной жизни России в этот период ставила его порою в очень сложные взаимоотношения с представителями новых течений в искусстве. В Частых тогда острейших спорах Бенуа не всегда был прав в резком отрицании некоторых важных творческих исканий. Но гораздо дальше от истины были самые шумные деятели «левых» художественных кругов, пытавшиеся порой представить имя критика в качестве символа отживающих вкусов и пристрастий. Бенуа действительно оставались близкими идеалы его молодости, но его безупречный критический глаз, свойственная ему всегда творческая искренность, серьезная озабоченность судьбами русской культуры позволяли ему очень часто в запутанной, раздробленной картине предреволюционного искусства находить точную границу между подлинными художественными ценностями и модными поделками.
Не раз на протяжении своей жизни заявлявший о своей неприспособленности к практическим делам, Бенуа вместе с тем уже в годы первой русской революции задумывался о том пользе, которую он мог бы принести, занимаясь государственными проблемами искусства. И сразу же после свержения самодержавия в феврале 1917 г. художник включается в серьезную общественную деятельность. Вместе с А. М. Горьким он принимает одно время участие в работе «Особого совещания», проявляя постоянную заботу об охране памятников художественной культуры России, этого, как он выражался, «народного имущества». В эти же месяцы новые свойства обретают и газетные выступления Бенуа. В них он предстает не только художественным критиком, но и публицистом, не желающим сторониться социальной злобы дня. Многие его статьи той поры-прямой отклик на развернувшуюся тогда в стране острую политическую борьбу. «Приветствовал Октябрьский переворот еще до Октября»,— так позже определит А. В. Луначарский общественную позицию Бенуа в этот период 53.
Сразу же после победы Октябрьской революции Бенуа — весьма заметная фигура в художественной жизни Петрограда. В 1918 г. он становится заведующим картинной галереей Эрмитажа и на этом посту делает очень многое для превращения этого крупнейшего художественного со-
Литературное наследство, т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский, с. 260.
«Мои воспоминания» Александра Бенуа?27
брания, пополненного после Октября многими частными коллекциями, в государственный музей — богатейший источник культурного воспитания народа.
Не оставляет Бенуа в эти первые послереволюционные годы и свои творческие занятия. Он вновь тесно связывает себя с театром, с жизнью сцены, причем выступает подчас не только декоратором, но и режиссером новых постановок, отдавая отчет в большой общественной роли театрального искусства в духовной атмосфере новой действительности. Событием культурной жизни стало издание в 1923 г. пушкинского «Медного всадника» с известными иллюстрациями художника — результатом его многолетнего труда и одной из вершин его графического творчества.
Со второй половины 20-х годов Бенуа живет за границей. Его основным местом пребывания становится Париж. Как уже говорилось выше, ваграничные письма художника свидетельствуют о его постоянной и глубокой тоске по родине, о его неизменном (увы, так и не осуществленном) желании вновь оказаться дома, на берегах Невы, в родительском доме возле Никольского собора.
В этот поздний период своего творчества Бенуа продолжает много работать и в станковой живописи, и в книжной иллюстрации, и особенно в области театрально-декорационного искусства, являясь желанным художником для многих крупнейших сцен мира. Однако, насколько позволяют судить наши фрагментарные знания этого материала, в этих произведениях уже не было тех замечательных творческих открытий, того радостного вдохновения красотою, которыми были отмечены его лучшие создания прежних лет.
Продолжалась в «парижские» годы и литературная деятельность Бенуа. Как и когда-то у себя на родине, критик систематически выступал в печати с «художественными письмами», отзываясь на самые разнообразные явления западноевропейского культурного быта. Но, как совершенно справедливо подчеркивают публикаторы поздних высказываний художника, «сквозь все литературное наследие Бенуа 30-х годов (а также и более поздних работ) еще более настойчиво, неизменно и верно проходит дорогая для него тема — русская культура и ее деятели» 54. Именно эта тема становится сквозной и ведущей и для «Моих воспоминаний ».
Если даже считать некоторым преувеличением уже цитированные слова Бенуа о том, что «эта работа будет, пожалуй, единственной из всех моих работ достойной пережить меня и остаться, как представляющая некий общий и детальный интерес», к ним необходимо отнестись с полной серьезностью. В них — не только, безусловно, искренняя оценка мемуаристом своего капитального труда, но и итог его долгих размышлений над своим местом в русской художественной культуре, над всей своей духовной эволюцией.
54 «Александр Бенуа размышляет...», с. 19.
g28?· Ю- Стернин
* * *
Представляя «Мои воспоминания» Александра Бенуа советскому чи
тателю, необходимо в заключение с благодарностью вспомнить имя ныне
покойного Алексея Николаевича Савинова — видного искусствоведа, мно
го сделавшего для того, чтобы это издание увидело свет. А. Н. Савинов
был среди тех деятелей советской культуры, которые в середине 1950-х го
дов завязали дружескую переписку с автором мемуаров. Из писем, адре
сованных Бенуа, последний с полным основанием увидел, что его «не за
были на родине» (слова Бенуа из его ответного письма А. Н. Савинову
от 18 августа 1956 г.), и это еще более усилило его желание увидеть
свой труд изданным в Советском Союзе. Впоследствии, когда старшая
дочь Александра Бенуа Анна Александровна Черкесова, выполняя волю
отца, прислала рукопись в Ленинград, А. Н. Савинов в течение несколь
ких лет занимался подготовкой мемуаров к печати. Смерть помешала ему
довести эту работу до конца.?
«Мои воспоминания» появляются в свет в то время, когда интерес к русской художественной культуре конца XIX — начала XX вв. приобрел у нас устойчивый и глубокий характер. Среди явлений этой культуры, пользующихся сейчас пристальным вниманием, «Миру искусства» принадлежит одно из первых мест. Издаются книги и статьи, посвященные «мирискусническому» движению и его крупнейшим представителям. С большим успехом прошли персональные выставки произведений Александра Бенуа, М. В. Добужинского, К. А. Сомова. С этой точки зрения первая публикация полного текста «Моих воспоминаний» — не только важное, но и вполне закономерное событие нашей современной художественной жизни, естественный результат растущих потребностей познать наше национальное культурное наследие.
Выход в свет «Моих воспоминаний» не менее существен и в другом смысле. Отныне русская проза пополняется еще одним крупным литературным памятником, а в ряд с ведущими мастерами отечественной мемуаристики встает еще одно имя — имя Александра Бенуа.
Памяти моей дорогой
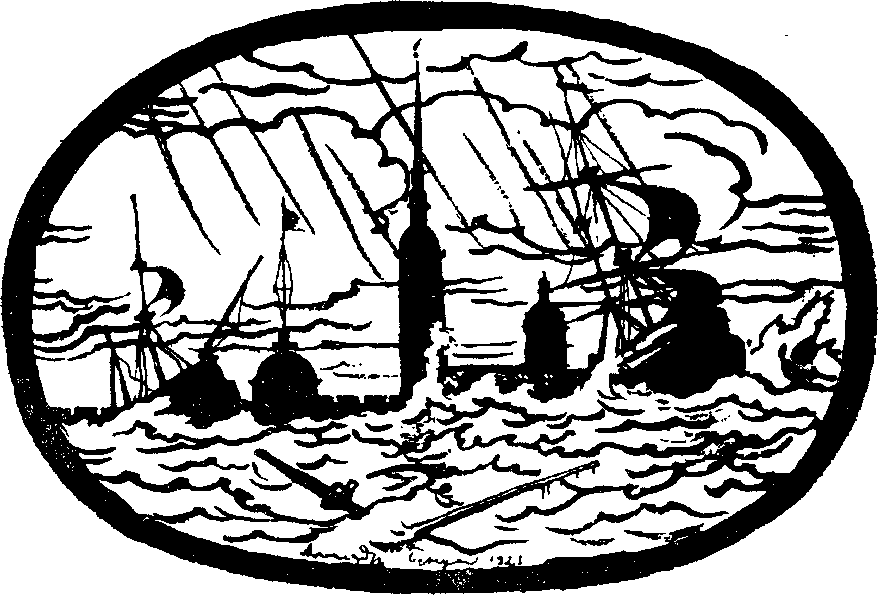
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1 МОЙ ГОРОД.
Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом *, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (столь между собой завраждовавших) родии — и Франция, и Неметчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты с большей или меньшей примесью чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается: я Россию как таковую, Россию в целом знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне, и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия.
Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется «patriotisme de clocher» *. Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу того чувства, которое, вероятно, жило в римлянах к своей urbs **, которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно русского человека к Москве, которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы, те действительно патриоты всей своей страны в целом: Deutschland ?ber Alles...*** А во мне скорее жил (да и теперь живет) такой императив — Petersburg ?ber Alles...****
Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же — из всех ошибок «старого» режима в России мне представляется наименее простительной его измена
Местным патриотизмом (франц.].
Город {лат.).
Германия превыше всего (нем.).
Петербург превыше всего (нем.).
12'I, I, 1. Мой город
Петербургу2. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эга выразилась, когда он дал свое со- * гласис на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую измену, за то, что измельчавшие потомки вздумали пренебречь «завещанием» Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унизительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. «Петроград» означало нечто, что во всяком случае было бы не угодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное поминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе чуждой Петру «славянщины», означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, югда как Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества 3 — это означает «второй» или «третий» Рим. Самая несуразность соединения сокращенного латинского sanctus * и слов германского звучания «Петер» и «Бург», как бы символизирует и подчеркивает европейскую, вернее, космополитическую природу Петербурга.
Все эти мысли, осознанные давным-давпо, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменование чудовищной международной, но главным образом европейской, распри (европейцы против европейцев — «своя своих не нозпаше»). Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет культ Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. «Открывал» я Петербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца.
О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением. Что за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне... И опять-таки я ощущал как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда, после сравнительно короткого лета, наступала «театрально эффектная» осень, а затем «оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы все же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю
Святой (лат.).
/, I, 1. Мой город13
мертвящую пору петербуржцы предавались с особым рвением забаве и веселью. На зимние месяцы приходился петербургский «сезон» — играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное. Такой представлялась мне петербургская зима и в детстве, и это несмотря на то, что зима неизменно влачила за собой всякие специфические детские болезни. Позже наступление ее означало еще и начало многострадального «учебного года»!
Когда я сижу у открытого настежь'окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 г. представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Попытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер в такую же июньскую пору, чем вообще был весной весь мой милый, милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург. Именно в мягкие июньские вечера, совпадающие с особенно ликующими молтентами моих личных переживаний, я стал сознавать п свою влюбленность в родной город, в самое его лицо и в его персону. Красив и поэтичен Петербург бывал в разные времена года, но действительно, весна была ему особенно к лицу. Ранней весной, когда скалывали по улицам п площадям кору заледенелого снега, когда между этими пластами по открывшейся мостовой неслись откуда-то веявшиеся блиставшие на солнце ручьи, когда синие тени с резкой отчетливостью вылепляли кубы домов и круглоту колонн, когда в освобожденные от двойных рам и открытые настежь окна вливался в затхлую квартиру «новый» воздух, когда лед на Неве набухал, становился серым и, наконец, вздымался, ломался и сдвигался с места, чтобы поплыть к взморью,— петербургская весна была уже изумительна в стихийной выразительности своего пробуждения. Не могло быть сомнения, что одно время года сменяло другое. Но когда, наконец, новый порядок бывал окончательно установлен, наступало ноистине благословенное время. Суровый в течение месяцев Петербург становился ласковым, пленительным, милым. Деревья в садах покрывались нежнейшей листвой, цвела дурманящая сирень и сладко-пряная черемуха, стройные громады дворцов отражались в свободно текущих водах. Тогда же начинались (в ожидании переезда па дачу) паломничества петербуржцев, соскучившихся по природе, на Острова, и начиналось гуляние нарядной толпы по гранитным панелям набережной — от Адмиралтейства до Летнего сада. Самый Летний сад заполнялся не одними няньками с детьми да старичками и старушками, совершавшими предписанную гигиеническую прогулку, но и парочками влюбленных.
Р1з всяких воспоминаний о петербургской весне мне особенпо запомнились какие-то «плавания» в тихпе белые ночи по шири нашей красавицы-реки. Совершались эти поездки то на суетливо попыхивавшем пароходике, то на бесшумно скользившем ялике, едва колыхавшем водную
14**I, I» -/. Мой город
гладь. А плыл я, бывало, таким образом пли с дальней Охты, с Куше-левки от сестры, или с Кресто-вского, или Елагина, где я только что гулял с невестой, или еще из Зоологического сада, куда было принято ездить поглядеть на спектакли в двух стоявших среди зверинца театрах. Воспоминания о вечерах, проведенных в «Зоологии», не принадлежат к самым поэтичным в моем прошлом. Слишком все тамошнее было доморощенно-провинциальным, слишком много распивалось пива, слишком жалкое впечатление производили безнадежно хиреющие звери в их тесных и дурно пахнущих клетках. Но с момента, когда, покинув ворота «Зоологии», я садился в ярко раскрашенную лодку перевозчика и когда после нескольких ударов весел ялик выезжал на тот простор, что расстилается между многоколонной Биржей, гранитными стенами крепости и роскошными массами дворцов, то всякие тривиальные впечатления сглаживались и начиналась та фантасмагория, которая по своему возвышенному благородству не имела ничего себе равного.
Белые ночи — сколько о них уже сказано и писано. Как ненавидели их те, кто не могли к ним привыкнуть, как страстно любили другие. Но нигде белые ночи так не властвовали над умами, не получали, я бы сказал, такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы. Я думаю, что сам Петр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России.
Весла равномерно и глухо хлопают по воде, едва журчит струя за кормой, и освещенный зарей гребен то наклоняется вперед, то отклонится назад, босые его ноги крепко уперлись в перекладину на дно лодки, через каждые три удара он оборачивается, чтобы проверить направлен ние, а иногда тряхнет головой, чтобы отбросить от глаз коему непокорных волос. Насторожившаяся тишина стоит вокруг, всякий разговор давно замолк. И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься точно полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвеща-ют в двух молитвенных напевах 4, что наступила полночь... Играли куранты «Коль славен наш господь» и сейчас же затем «Боже, царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно... Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое, и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.
Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прямо-таки потусторонний характер уже потому, что произносила его высокая башня со своим длинным-
/, 1, L Мой город
15
длинным золотым шпилей, который в сгущающемся мраке продолжал светиться, точно вынутый из ножен п устремленный к небу меч. На самом конце этого меча, совсем под небом, сверкала золотая точка. На таком расстоянии невозможно было определить, что эта фигура изображает. При поворотах она меняла свой облик: то казалось, что это ангел снизился, чтобы передохнуть, на самое острие колокольни, а то, что это парус какого-то плывшего в поднебесье сказочного корабля...
Увы, весенние и летние недели протекали быстро, и кончались белые ночи. Наглядно этот поворот от светлой поры к потемнению (а дальше к зимней тьме и стуже) выражался тогда, когда на улицах Петербурга снова зажигали фонари, что происходило около 20 июля (старого стиля). И сразу тогда чувствовалось, что скоро лету конец. Еще накануне я бродил в часы, близкие к полуночи, по серому, лишенному красок городу, а тут вдруг появлялся со своей лесенкой фонарщик, и один за другим фонарики вспыхивали своими газовыми язычками. Фантасмагория исчезала, все возвращалось к обыденности. Накануне даже городовые на углах казались в своих белых кителях какими-то бесплотными существами, а теперь весь порядок жизни, и заодно блюстители оного,— все восстанавливались в своей прозаичности. Да и расстояния как-то сокращались, .улица съеживалась. Вчера даже собственное обиталище казалось каким-то привиденческим, я в него входил не без некоторой опаски, и я не был бы удивлен, если бы из темных туманных углов парадной лестницы вдруг выступили бесплотные призраки, а теперь при свете зажженного газа ничего, кроме давно мне известного, меня уже не встречало. От всего этого становилось чуть скучно. Это возвращение к реальности ощущалось как некоторая деградация.
К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания. Но здесь я хотел бы набросать еще несколько картин «моего» города5, которые рисуют, так сказать, самую его «личность». Теперь, оглядываясь назад и лишенный всякой возможности туда вернуться, я любое изображение Петербурга представляю милым и любезным сердцу. Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее любимому, например, относилась Благовещенская церковь 6 с ее неудачной претензией на древнерусское зодчество, с ее золочеными пирамидальными главами, с ее гладкими стенами, выкрашенными в скучнейший бледно-коричневый цвет. Но теперь мне больно, что, как слышно, эту церковь снесли. Уже очень было мне привычно встречать ее на своем пути в гимназию и обратно, pi сколько сотен раз я со своей невестой обходили ее вокруг, совершая бесконечные паши вечерние прогулки... В двух шагах от того же Благовещения жили мои друзья: Нувель, Дягилев, Философов 7. Да и сам я со своей семьей впоследствии, в течение семи лет, жил в том же околотке — на Адмиралтейском канале.
В своем месте и в связи с тем культом Чайковского и в частности «Пиковой дамы», которому я предавался в начале 90-х годов, я еще кос-
16-/, h 1· Мой город
нусь разных петербургских настроений. Мне придется рассказать о Летнем саде, о ранней петербургской грозе, о Зимней Канавке, обо всем том, что тогда, благодаря музыке, стало еще сильнее «хватать за душу». Но вот музыку «Пиковой дамы» с ее чудодейственным «вызыванием теней» я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то я принял ее за нечто издавна жданное. Вообще во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность. Пожалуй, это идет от воды (по количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и Амстердамом), и музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако что там доискиваться и выяснять* У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией8, у этого «казарменного», «безличного», «ничего в себе национального» не имеющего города, есть своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки.
Остановлюсь здесь на тех петербургских пейзажах, которые были ближе к нашему дому9, некоторые из пих я мог даже изучать, не покидая родительской квартиры, в дни, когда болезнь приковывала меня к дому.
Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь 10. Она была одним из самых роскошных и самых внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное, складывалось опо из любования, почитания и из жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть «сам боженька», что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и с гневом. Нижняя часть Николы Морского была несравненно приветливее. В многоугольном плане его стен, в кудрявых капигелях, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями, в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно,— выражено нечто радостное, все приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале господа, к празднованию его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать и, вероятпо, от этого «интимного» знакомства с чудесным произведением XVIII в. родилось мое восторженное отношение к искусству барокко. Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я и узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора — Саввы Чевакинского. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, все же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Нпколе Морскому, как к нашей церкви,— и это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого наречен
/, I, 1, Мой городfj
собор, и что храмовой праздник Николы, 6 декабря, совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме,— звучал так: «Дом Бенуа, что у Николы Морского».
Однако церковь церковью, а светские соблазны соблазнами, и как раз два соблазнительнейших места находились тут же по соседству, всего в нескольких шагах от нашего дома. То были театры — два главных театра государства Российского: Большой и Мариинский. И к обоим-то семья наша имела весьма близкое отношение. Большой театр, когда-то построенный Томоном и, но сгоревший ъ 1836 г., был восстановлен «папой моей мамы», а второй и целиком построен тем же моим дедом в сотрудничестве с моим отцом **. Кстати, внутри Мариинского театра имелось убедительное доказательство его семейной к нам близости. В одном из писаных медальонов, которые были вставлены в своды фойе, вырисовывался профиль носатого господина с баками и в очень высоких воротничках — и это был мой прадедушка, когда-то знаменитый композитор Катарино Кавос.
В смысле внешней архитектуры я предпочитал Большой театр Ма-риинскому. Уж очень внушителен был его портик с толстенными ионическими колоннами, под который подъезжали кареты, высаживавшие публику у дверей в театр. Остальная грандиозная масса этого здания представлялась мне каким-то вместилищем таинственных чудес. Характеру чудесного способствовал ряд круглых окон, тянувшихся во всю длину крыши, и даже та уродливая толстая, несуразная железная труба с капюшоном поверх, которая как-то асимметрично сбоку возвышалась над зданием, обслуживая нужды вентиляции. У Мариинского театра вид был более скромный и менее внушительный, однако до того момента, когда его изуродовали посредством пристроек и надстроек, и он являл изящное и благородное целое. Система его плоских арок и пилястров и выдающийся над ними полукруг, соответствующий круглоте зрительного зала, производили на меня впечатление чего-то «римского)). Известной грандиозностью отличался театр со стороны Крюкова канала, в который упиралась его задняя стена. Отражаясь в летние сумерки в водах канала, силуэт его положительно напоминал какое-либо античное сооружение.
К ближайшему окружению нашего дома принадлежали еще два характерных для Петербурга здания — Литовский рынок и Литовский замок, находившиеся оба как раз непосредственно за Мариинским теат-
Про Мариинский театр можно даже сказать, что он был дважды построен моим дедом Альбертом Кавос. Сначала, в 40-х годах, был на этом месте сооружен по его проекту императорский театр-цирк, а когда это здание в 50-х годах сгорело, то на старой основе был построен Мариинский театр 12. При этоп вторичной постройке работами заведовал мой отец, так как дед был тяжело болен. Возможно, что именно ему принадлежит очаровательное убранство зрительного зала.
18-lt I, 1. Мой город
ром2*. Архитектурной красоты оба здания, обслуживавшие самые прозаические нужды, не были лишены. Рынок, построенный в конце XVIII в., представлял собою обширное целое, выходящее на четыре улицы одинаковыми фасадами, состоящими из массивных арок и ниш с этажом полукруглых окон над ними, а тюрьма, перестроенная на ампирный фасон из сооруженного при Екатерине «турецкого» семибашенного замка (также выходившего на четыре улицы), состояла из гладких голых стен, соединенных кургузыми необычайной толщины круглыми башнями. Окон в этом здании было до странности мало, а те окна, что были расположены по верхнему этажу башен, были круглой формы, что и давало впечатление каких-то выпученных в разные стороны глаз. Центральный фасад был украшен фронтоном в «греческом вкусе» со статуями двух держащих крест ангелов посреди. Это мрачное (несмотря на свою белую окраску) здание принадлежало к лучшему, что было построено в классическом стиле в Петербурге, а на меня, ребенка, Литовский замок производил одновременно как устрашающее, так и притягивающее впечатление. Ведь за этими стенами, за этими черными окнами с их железными решетками, я рисовал себе самых жутких разбойников, убийц и грабителей, и я знал, что из этой тюрьмы выезжали те «позорные колесницы», которые я видел медленно следующими мимо наших окон, с восседающими на них, связанными преступниками. Несчастных везли на Семеновский плац для выслушивания приговора ошельмования. Спешу добавить, что таких колесниц я видел не более трех, да и видел я их в возрасте четырех или пяти лет. Позже этот обычай был отменен.
Раз я вспомнил про то, что можно было видеть из окон нашей квартиры, то тут же я расскажу и про другие такие «уличные спектакли». Зрителем их я мог быть, оставаясь па весьма близком расстоянии от самого «зрелища» —ведь жили мы в бельэтаже («о премье» * — по французскому счету). Совершенно другого характера, нежели тот ужас, который меня охватывал при только что упомянутом проезде «позорных колесниц», было чувство, которое я испытывал, когда мимо наших окон шествовала погребальная процессия, что происходило чуть ли не каждый день и даже по нескольку раз в день, так как через Никольскую улицу лежал путь к расположенным по окраинам города кладбищам — Волкову и Митрофаньсвскому, Всякие похороны оказывали на меня какое-то странное действие, но одни были только «жутковатыми» — это в особенности когда простолюдины-староверы несли своего покойника на плечах в открытом гробу, а другие похороны в своей строгой церемониаль-ности производили впечатление возвышающее. Чем важнее был умерший, тем зрелище было торжественнее.
Мало-мальски заслуженный, знатный или зажиточный человек мог в те времена «рассчитывать^ на проводы до могилы с большой парадно-
Ничего специфически литовского ни в том, ни в другом здании не было и, признаюсь, я теперь забыл, по какой причине они это прозвище получили 13.
От «au premier» (франц.) —на первом этаже. По русскому счету —на втором. .
/, lt 1. Мой город
19`
стью. Православные отправлялись на последнее местопребывание на дрогах под балдахином из золотой парчи со страусовыми перьями по углам и золотой короной посреди. Парчовый покров почти скрывал самый гроб. Дроги же лютеран и католиков были также с балдахином, но они были черные и вообще «более европейского вида)). И тех и других везли ступавшие медленной поступью лошади в черных до земли попонах, а на боках попон красовались большие пестро раскрашенные гербы. Эта последняя особенность была уже вырождавшейся традицией, и от такой наемной геральдики вовсе не требовалось, чтобы она точно соответствовала фамильному гербу умершего. Их просто давал напрокат гробовщик, и можно было выбирать по своему вкусу гербы поэффектнее и попараднее.. Даже купца побогаче, хотя бы он вовсе к дворянству не принадлежал, везли лошади в попонах с такими гербами.
В особенно важных случаях погребальное шествие приобретало род. скорбного празднества. В столице жило немало особ высокого ранга, немало генералов, адмиралов, тайных и действительных статских советников, и на каждого сановника «сыпались царские милости» — в виде орденов, золотого оружия, медалей и других знаков отличия. Эти-то знаки при похоронах полагалось нести на бархатных, украшенных галунами подушках. Старшие мои братья относились к этому ритуалу с некоторой иронией, но на ребенка дефиле орденов производило глубокое впечатление. Кто-нибудь из больших тут же называл ордена: вот Георгий, вот Анна, вот Владимир, а вот и «сам» — Андрей Первозванныйи.
Напротив, цветов в те времена не было принято нести, и лишь два-три веночка с лентами лежали рядом с каской или треуголкой покойного на крышке гроба. Печальная торжественность шествия подчеркивалась тем, что всю вереницу носителей орденов, шествующее пешком духовенство и самую колесницу окаймляли с двух сторон — одетые во все черное господа в цилиндрах с развевающимся флером, несшие среди дня зажженные фонари. Эти «факельщики» на богатых похоронах были прилично одеты и шли чинно, строго соблюдая между собой расстояние, если же покойник был попроще (лошадей всего пара, да и дроги без балдахина), то в виде факельщиков плелись грязные оборванцы с лоскутами дрянного крепа на продавленных шляпах, и шли они кое-как,. враскачку, так как они успевали еще до начала похода «выпить лишнего».
Военного провожал шедший за гробом отряд полка, к которому он принадлежал, а если это был человек высоких военных чинов, то сопровождало его и несколько разных отрядов, не исключая конницы и громыхающей артиллерии. О, до чего мне раздирали душу те траурные марши, которые при этом играли на ходу военные оркестры, инструменты которых были завернуты в черный флер. Бывало, я еще издали услышу глухое громыхание барабанов, визг флейт и мычание труб и с ужасом бегу к себе в детскую, где зарываюсь в подушки, только бы не слышать этих звуков. Но любопытство брало верх, я прокрадывался обратно к окну и столбенел в каком-то «трагическом восторге» — глядя,,
20"Л h 1· Мой город
как мимо окон проплывает вся процессия, заключением коей были бесчисленные кареты, ряд которых подчас вытягивался на добрую четверть версты.
Полным контрастом этим «триумфам смерти» были военные триумфы— проходы войск под нашими окнами. Так как путь от казарм Измайловского и Семеновского полков, а также морского Гвардейского экипажа к центру города лежал через нашу Никольскую и далее через Морскую, то этих солдат мы видали каждый день, то большими, то маленькими отрядами, и уж обязательно проходил туда и обратно караул Зимнего дворца от одного или от другого из названных полков. Кроме того, через нашу же улицу выступала весной значительная часть петербургского гарнизона, уходившая в лагери под Красным Селом. Тут я мог вдоволь наглядеться всяких отборных и очень эффектных форм. Наконец, к майскому параду являлись в Петербург и гатчинские кирасиры, и казаки, и все-то они на чудесных лошадях шли шагом под звуки своих оркестров мимо наших окоп. В мае дозволялось мне уже выйти па балкон, и тогда положительно казалось, что я сам участвую в этом чудесном празднике. Казалось, что стоит руку протянуть, и уже дотронешься до расшитого полкового штандарта или сможешь погладить сияющие латы и шлемы, в зеркальной поверхности которых отражались дома и небо.
Надо сказать, что вид солдат в те времена был куда эффектнее позднейшего. Царствовал государь Александр II, сын знаменитого фрун-товика Николая I, и хотя кое-что в обмундировке было при нем упрощено, однако все же формы оставались роскошными — особенно в избранных гвардейских полках. Некоторые из пехотинцев сохраняли каски с ниспадающим густым белым султаном, у других были кепи, похожие на французские, также украшенные султаном. Грудь у большинства полков была покрыта красным сукном, что в сочетании с черно-зеленым цветом мундира, с золотыми пуговицами и с белыми (летом) штанами давало удивительно праздничное сочетание. Некоторые же привилегированные полки отличались особой декоративностью. До чего были эффектны белая пли красная с золотом парадная форма гусар, золотые и серебряные латы кирасир, кавалергардов и конногвардейцев, высокие меховые шапки с болтавшимся на спине красным языком кониогрена-деров, молодцевато набок одетые глянцевитые шапки улан и так далее.
Особенный восторг во мне вызывали оркестры — как те, что шествовали пешком, так особенно те, что, сидя на конях, играли свои знаменитые полковые марши (душу поднимавшие марши!). Великолепное зрелище представлял такой конный оркестр. Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры, прилаженные по сторонам седла. А как величественно прекрасен был гигант тамбурмажор, шествовавший перед полковым оркестром. Что только этот весь обшитый галунами человек не проделывал со своей окрученной галуном с кистями налкой. То он ее швырял и на ходу схватывал, то крутил на все лады,
1, ?, 1. Мой город
21
Упомяну я заодно и о тх>м апофеозе военного великолепия, которого свидетелем я бывал раза два или три в свои детские годы. Я говорю об упомянутых только что майских парадах, происходивших на широком Царицыном Лугу i5, окаймленном садами, дворцами и похожей на дворец казармой Павловского полка. Из-под колоннады этой казармы я в компании знакомой детворы и наслаждался зрелищем. Место парадов называлось лугом, но «луга» никакого не было, а была очень просторная площадь, посыпанная песком. На этой площади и происходил царский парад. Начало мая редко бывает в Петербурге теплым днем, и поэтому, будучи четырех- или пятилетним мальчиком, я немилосердно мерз, несмотря на свое бархатное пальтишко, суконную шапочку п шерстяной шарф. Однако сколько мама ни убеждала меня войти погреться в комнаты, я упорно оставался на своем месте, пожирая глазами происходившее передо мной. И как было не наслаждаться этим зрелищем, как можно было променять его на скучное сидение среди дам (еще, не дай бог, они стали бы тискать и целовать). Тысячи и тысячи моих любимых солдатиков продвигались стройными рядами во всех направлениях, все в ногу и все же без всякого видимого усилия, с удивительной быстротой повинуясь одним только выкрикам офицеров. Восторг, сопряженный с некоторой тревогой, возбуждал во мне проезд грохочущей артиллерии, но букетом всего спектакля являлась джигитовка кавказских воинов: черкесов, лезгинов, хевсуров. Иные из них в те времена были еще одеты точь-в-точь как средневековые рыцари — в серебряные кольчуги и в паицыри, и на головах у них были высокие серебряные шлемы. Джигиты неслись во весь опор, некоторые стоя на седле, стреляли вперед и назад, а подъезжая к палатке с особами императорской фамилии, они соскальзывали иод брюхо своих коней и с небывалой ловкостью схватывали брошенные им царицей или великими княгинями платки.
С особым восторгом относился я и к проходу того полка, у которого мы были в гостях,— павловцев. На головах у этих рослых парней были высокие медные кивера с красной спинкой, а мундиры их сверкали золотом, но самое замечательное было то, что все они были на подбор курносые — как того требовала традиция, восходившая еще ко временам державного учредителя этого полка, Павла I, отличавшегося, как известно, вздернутым до уродства носом. В жизни курносые люди мне только представлялись смешными, но в таком подборе они представлялись замечательно интересными. Вернувшись домой, я подходил к зеркалу, приподнимал пальцем свой нос кверху и радовался тому, что и сам становился похожим на павловца.
Вспоминая эти Марсовы потехи — как становится понятной муштро-вально-мундирная мания, коей были одержимы едва ли не все государи прошлого, но которая особенно «ставится в вину» пруссакам Фрпдриху, Вильгельму I и Фридриху II, а также нашим царям: Петру III, Павлу, Александру I и Николаю 1. Однако, хоть и кажется это смешно и хоть много бывало под этим мучительства, однако насколько же тогдашние
22~h h 2. Петергоф и Ораниенбаум
царские забавы в общем были менее жестоки и чудовищны, нежели все то дьявольское усовершенствование военного дела, до которого теперь дошло человечество — ив самых демократических странах.
Глава 2
ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА. ПЕТЕРГОФ И ОРАНИЕНБАУМ
В мой культ родного города были включены и его окрестности. Но одни я узнал на самой заре жизни, другие лишь впоследствии. К первым относятся Петергоф, Ораниенбаум и Павловск, ко вторым — Царское Село, Гатчина и прилегающая к Петербургу часть Финляндии.
Наиболее нежное и глубокое чувство я питаю к Петергофу. Быть может, известную роль тут сыграло то, что я с Петергофом познакомился в первое же лето своего существования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на дачу в Петергоф, переехали они туда и в 1870 г., еще когда мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы я стал впервые «осознавать» окружающее, да и в дальнейшем Петергоф не переставал быть «родным» местом для всей семьи Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе начался мой «роман жизни», в Петергофе же живали не раз и я с собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе что-то настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко меланхоличное, что почти все, кто знакомятся с ним, подпадают под его чары.
Петергоф принято сравнивать с Версалем. «Петергоф — русский Версаль», «Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля»,— эти фразы слышишь постоянно. Но если, действительно, Петр был в 1717 г. поражен резиденцией французского короля, если в память этого он н назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название — Монплезир — можно принять за свидетельство его «французских симпатий», если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции (архитектора Лсблона, живописца Пильмана и скульптора Пино), то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа,— фонтаны, отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении. ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее в них чувствуются влияния немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны, согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. В Петергофе все несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств и, несмотря на такую ску-
/, ?, 2. Петергоф и Ораниенбаум23
дость,— желание блеснуть <и поразить, что греха таить — Петергоф «провинциален» 1. Наконец и природа, несмотря на все старания (особенно самого Петра) победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась,— природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. Временами непосредственная близость к морю делает и то, что существование в Петергофе становится мучительным. Дожди, туманы, пронизывающая сырость — все это характерные явления для всей петербургской округи, по в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той «отчетливости в отделке», какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции.
И все же Петергоф «сказочное место». Посетивший меня летом 1900 г. Райпер Мария Рильке2, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом: «Das ist ja das Schloss der Winterk?nigin!» * PI при этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы. И действительно, в тот ясный летний вечер все казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба; мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, ниже струи не перестававших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом «Самсона» посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои,— все это вместе создавало картину, полную сказочной красоты и щемящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, цветов,
Этот вид с моста — классический Петергоф, это тот вид, который отмечается крестиком в путеводителях. Однако к нему скорее можно привыкнуть, нежели ко всем тем более интимным или менее знаменитым красотам, которые открываются в Петергофе на каждом шагу. Так, меня с самого раннего детства особенно волновали два купольных здания, стоявшие на концах большого дворца, один одноглавый, носивший название «Корпус под гербом», другой, служивший церковью и сверкавший своими пятью куполами, роскошно убранными густо позолоченными орнаментами. Перед первым на разводной площадке я не раз видел смотры войск, и тогда казалось, что как-то особенно гордо парит в небе, расправляя и вздымая своп крылья, гигантский золотой геральдический орел, венчающий купол этого павильона. Что же касается до придворной церкви, то нигде, даже перед нашим роскошным Никольским собором, церковные процессии не казались мне более умилительными, нежели там, когда в солнечное июньское утро крестный ход выходил из
* Это же замок Снежной королевы (нем.).
24-J» h %· Петергоф и Ораниенбаум
церкви, спускаясь по наружной лестнице в сад, где на одном из ближайших бассейнов строился помост — «Иордань» для водосвятия. Как чудесно отражались в воде ликующее ясное небо и золотые купола, какими праздничными представлялись священнослужители в роскошных ризах, несшие хоругви ливрейные лакеи и случайно подошедшая посторонняя публика — особенно дамы в своих светлых платьях. Это были скорее интимные церемонии; двор еще не переезжал на летнее пребывание. Из особенно важных особ на них никто не присутствовал, потому и народу было не так уже много и можно было, пробравшись к самому краю бассейна, любоваться всем вдоволь.
По сколько еще очаровательного было в Петергофе. Не отдавая себе в чем-либо отчета, я уже ребенком все это впитывал в себя, гуляя за ручку с папой или сидя в коляске, сопровождая своих родных на «музыку». Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представлялось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим и «обедневшим». Flo и тогда душа всех этих мест заговаривала с моей душой — и не только потому это происходило, что вспоминались трогательные подробности, детские игры или первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу действительно свойственна особенная и единственная пленительность. В самом петергофском воздухе есть нечто нежное и печальное, в этой атмосфере все кажется легким и ласковым. В Петергофе образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая I приобретают в окружении петергофской атмосферы оттенок «милой уютности». Один превращается в голландского средней руки помещика, радушпого хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких курьезов. Другой рисуется романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо.
Я не стану здесь более подробно описывать Петергоф, ибо в дальнейшем я неоднократно буду возвращаться к нему. Здесь скажу только еще, что как раз в Петергофе имеется ряд строений, созданных моим отцом, и эти постройки служат к немалому его украшению: грандиозные, имеющие вид целого города, придворные конюшни; два элегантных, связанных мостиком дворца для придворных дам, составляющие гармоничное и роскошное продолжение Большого петергофского дворца; наконец.— первое, что видишь, прибывая в Петергоф,— вокзал «Нового» Петергофа 3 с его готическими залами и своей узорчатой башней. Факт, что все эти здания были произведениями папы, что, кроме того, он в годы моего раннего детства имел по службе какое-то касательство вообще ко всем петергофским постройкам, объезжал их, давал распоряжения относительно их ремонта, что всюду его встречали как «любимого начальника», что многие придворные служащие были обязаны ему своим местом — это все способствовало тому, что я Петергоф мог считать своим родным местом. И к этому необходимо прибавить, что мой отец помнил
I, /, 2. Петергоф и Ораниенбаум25
Петергоф еще в годы, когда Россией правил Александр I, когда на «Петергофский праздник» (в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны) съезжалось пол-Петербурга. Наконец, многие члены нашей семьи родились в Петергофе, а два моих дяди и три моих брата всегда в нем проводили свой летний отдых. Пожалуй, сам царь пе обладал таким ощущением собственности в отношении Петергофа, каким обладал я. Для меня Петергоф был одним громадным поместьем, во всех своих частях абсолютно для меня доступным и близким. Не входила только в эту мою усадьбу интимная резиденция императорской фамилии, огороженная со всех сторон,— Александрия 4. Туда я в детстве не был вхож, и тем более казалась соблазнительной жизнь за этой нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в «казенные», желтую и белую краски. За ней и за воротами в ней, охраняемыми пешими часовыми и казаками на конях, жили царь с царицей и царские дети.
* * *
От Петергофа до Ораниенбаума всего десять километров, и соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно моря, так как весь берег застроился дачами, во времена же моего детства в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственной его величества дачи, герцога Лейхтенбергского и графа Мордвинова, там оно открывалось во всю ширь, а на горизонте, с приближением к Ораниенбауму, все яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким; среди поросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины или же высились одинокие крепкостволые сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви.
В самый Ораниенбаум, городок убогий и глухо провинциальный, въезжали через «триумфальные», классического стиля ворота, затем тянулась улица с очень невзрачными домами, но дальше то же шоссе перерезало сад ораниенбаумского дворца — как раз у того моста, откуда начинается канал, ведущий среди пустынных земель и болот к морю. Тут Кронштадт виден был совершенно отчетливо, ибо расстояния до него всего шесть километров.
В Ораниенбауме никто из наших родных в моем детстве не живал, но это не препятствовало тому, что у меня сложилось к нему какое-то «родственное» чувство и что он оказывал на меня большую притягательную силу. Вероятно, поэтому первое же лето нашей самостоятельной жизни мы с женой пожелали провести именно под Ораниенбаумом, да и впоследствии мы два раза жили в самом этом чарующем месте.
В детстве меня ожидали разные специальные приманки в Ораниенбауме. Почему-то там я получал шишки с превкусными орешками, похожими на те итальянские пииьоли, которые у нас ставились на стол на больших обедах, там же откуда-то доставались крошечные райские, или
26'h If 2. Петергоф и Ораниенбаум
китайские яблочки, которые не отличались большой сладостью, но которыми я все же объедался, веря, что они действительно — из рая. Более же всего меня пленил самый дворец5, широкой дугой раскинувшийся на холме с двумя грузными павильонами па концах. Этот дворец был сооружен еще в царствование Петра Великого, но не самим царем, а его «выведенным из грязи в князи» любимцем Меишиковым, герцогом Ин-германландским. Большая герцогская корона, положенная на алую подушку, и венчала бельведер среднего корпуса дворца. Эта корона, годная по своим размерам разве только для какого-нибудь сказочного великана, производила на мое детское воображение огромное впечатление. Но еще большее и доходящее до ужаса впечатление производили на меня помянутые пузатые павильоны (один из них называется Японским, другой служил придворной церковью), с выкрашенными одинаково в зеленую краску широко расплывшимися куполами, заканчивающимися причудливыми «фонарями». Когда на повороте дороги один из этих куполов вынырял из масс деревьев, то, бог знает почему, мною овладевал род паники, и я даже старался не глядеть в эту сторону.
Другие достопримечательности Ораниенбаума меня в детстве не касались, зато трепет мой усиливался, когда, миновав дворец, мы выезжали в густые еловые леса, расположенные на много верст вокруг Ораниенбаума и пребывавшие тогда в совершенной дикости. О, как дивно в них пахло, особенпо под вечер, нагревшейся за день хвоей. Какая поэзия леса была в них «отчетливо выражена». Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Но я боялся углубляться в неведомую чащу, благоразумнее было оставаться около мамы; мне казалось, что стоило бы мне удалиться на двадцать шагов, как меня схватил бы притаившийся за деревом волк или я увидел бы вдали медведя. Несколько раз даже казалось, что я и впрямь впжу чернобурого мишку, тогда как то были только подпятые корни поваленных ветром деревьев. Вблизи такая поднявшаяся на сажень или на две обросшая мхом корчага казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней, и, как змеи, свисали тонкие отростки. Зато какое милое, безмятежное наслаждение доставляло мне собирание (точнее, съедание на месте) ягод, мириадами красневших, черневших и синевших всюду под ногами. Их было так много, что, не двигаясь с места, можно было наесться до отвала, стоило только нагибаться и класть ягоду за ягодой в рот, а мне в то время и нагибаться-то особенно не приходилось. Дивное удовольствие я испытывал, запихав за щеку десять-пятнадцать разных душистых ягод земляники, черники и голубицы и устраивая у себя во рту из них превкусную кашку — маседуан.
/, I, 3. Царское Село и Павловск
27
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК