Глава III
Глава III
1
Зимой двадцать второго года
От Брянского на Подвески
Трясет по всем Тверским-Ямским
На санках вымершей породы,
На архаичных до пародий,
Семейство Роговых. А снег
Слепит и кружит. И Володе
Криницы снятся в полусне,
И тополей пирамидальных
Готический собор в дыму
За этой далью, дальней-дальней,
Приснится в юности ему.
2
Что вклинивалось самым главным
В прощальной суеты поток,
Едва ль Надежда Николавна
Сама припомнила потом.
Но опостылели подруги,
И комнаты, и весь мирок,
И все мороки всей округи
До обморока. До морок.
И что ни говори — за двадцать.
Ну, скажем, двадцать пять. Хотя
И муж и сын, но разобраться —
Живешь при маме, как дитя.
Поэтому, когда Сережа
Сказал, что едем, что Москва,
Была тоска, конечно; все же
Была не главною тоска.
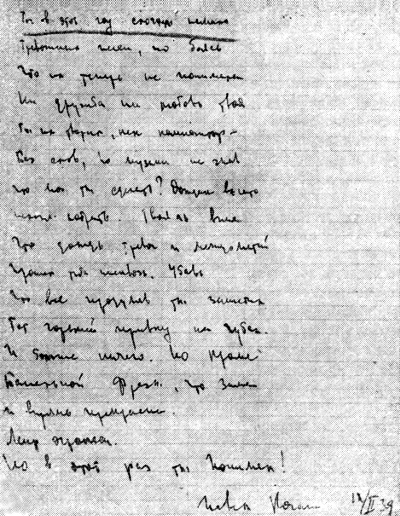
3
Сергей Владимирович Рогов,
Что я могу о вас сказать:
Столетье кружится дорога,
Блюстителей вводя в азарт.
Но где-то за «Зеленой лампой»,
За первой чашей круговой,
За декабристами — «Сатрапы!
Еще посмотрим кто кого!».
За петрашевцами, Фурье ли,
Иль просто нежность затая, —
«Ну где нам думать о карьере,
Россия, родина моя!»
Вы где-то за попыткой робкой
Идти в народ. Вы арестант.
Крамольник в каменной коробке,
В навеки проклятых Крестах.
И где-то там за далью дальней,
Где вправду быть вы не могли,
По всей Владимирке кандальной
Начала ваши залегли.
Да лютой стужею сибирской
Снегами замело следы,
И мальчик в городе Симбирске
Над книгой за полночь сидит.
Лет на сто залегла дорога,
Блюстителей вводя в азарт,
Сергей Владимирович Рогов,
Что я могу о вас сказать?
Как едет мальчик худощавый,
Пальтишко на билет продав,
Учиться в Питер. Пахнет щами
И шпиками по городам.
Решетчатые тени сыска
В гороховом пальто, одна
Над всей империей Российской
Столыпинская тишина.
А за московскою, за старой
По переулкам ни души.
До полночи гремят гитары,
Гектограф за полночь шуршит.
И пробивалася сквозь плесень
И расходилась по кругам
Гектографированной прессы
Конспиративная пурга.
4
Вы не были героем, Рогов,
И вы чуждалися газет,
Листовок, сходок, монологов
И слишком пламенных друзей.
Вы думали, что этот колосс
Не свалит ни одна волна.
Он задушил не только голос,
Он душу вытрясет сполна.
Но, родина моя, ведь надо,
Ведь надо что-то делать? Жди!
Возьми за шиворот и на дом
Два тыщелетья приведи.
Давай уроки лоботрясам.
В куртенке бегай в холода.
Недоедай. Зубами лязгай.
Отчаивайся. Голодай.
Но не сдавай. Сиди над книгой
До дворников. До ломоты.
Не ради теплоты и выгод,
Но ради благ и теплоты,
Чтоб через сотни лет жила бы
Россия лучше и прямей.
Затем, что Пестель и Желябов
До ужаса простой пример.
5
Но трусом не были. И где-то
Сосало все же, что скрывать,
Ругаясь, прятали газеты
И оставляли ночевать
В той комнатенке на четвертом,
На койке с прозвищем «шакал».
Каких-то юношей в потертых,
В блатонадежных пиджаках.
И жили, так сказать, помалу
(Ну гаудеамус на па?)
И числились хорошим малым,
Без кругозора, но своим.
6
Так жили вы. Тащились зимы,
Летели весны. По утрам
Вас мучили неотразимой
Тоской мальчишеской ветра.
Потом война. В воде окопной,
В грязи, в отбросах и гною,
Поштучно, рознично и скопом
Кровавый ростбиф подают.
Он вшами сдобрен. Горем перчен.
Он вдовьею слезой полит.
Им молодость отцов, как смерчем,
Как черной оспой, опалит.
Лабазники рычали «Славу»
Не в тон, и все же в унисон.
Восторженных оваций лава.
Облавы. Лавку на засов —
И «бей скубентов!». И над всею
Империей тупой мотив.
И прет чубатая Расея,
Россию вовсе замутив.
7
Ну что же к вашей чести, Рогов,
Вы не вломилися в «порыв».
Звенят кандальные дороги —
Товарищей ведут в Нарым.
И в памяти висит как запон,
Все прочее отгородив,
Махорки арестантский запах
И резкий окрик: «Проходи!»
И где-то здесь, сквозь разговоры
Пробившись, как сквозь сор лопух,
То качество, найдя опору,
Пробьет количеств скорлупу.
Здесь начинался тонкий оттиск,
Тот странный контур, тот наряд,
Тех предпоследних донкихотов
Особый, русский вариант.
8
Я не могу без нежной злобы
Припомнить ваши дни подряд.
В степи седой да гололобой
Ночь отбивался продотряд.
Вы шли мандатом и раздором,
Кричали по ночам сычи.
На всех шляхах, на всех просторах
«Максим» республике учил.
И что с того, что были «спецом»
И «беспартийная душа».
Вам выпало с тревогой спеться,
Высоким воздухом дышать.
Но в партию вы не вступили,
Затем что думали и тут,
Что после боя трусы или
Прохвосты в армию идут.
Так вы остались вечным «замом»,
И как вас мучило порой
Тоской ущербною, той самой
Тоской, похожей на порок.
Наивный выход из разлада:
Чтоб ни уюта, ни утех,
Чтоб ни покоя, ни оклада,
Когда партмаксимум у тех.
9
Итак, зимой двадцать второго
Трясет извозчик легковой
Седой, заснеженной Москвой
К еще не обжитому крову
Семейство Роговых. По брови
Укутанный в худой азям,
Уходит ветер. Он озяб.
Снега крутят до самых кровель[1].
Итак, зимой двадцать второго
Вы едете с семьей в Москву,
Привычность города родного
Менять на новую тоску.
10
Поскольку вы считались самым
Своим средь чуждых наотрез,
Вас посылали важным замом
В столицу. В центр. В новый трест.
И, зная вас, вам предложили
В Москву поехать и купить
себе квартиру, дабы жили,
Как спецам полагалось жить.
И вы купили. На Миусской
(Чтоб быть народу не внаклад)
Достаточно сырой и узкий,
Достаточно невзрачный склад.
И, приведя его в порядок
И в относительный уют,
Вы приготовились к параду
И спешно вызвали семью.
11
«Да деньги ж не мои — народа!» —
«О, боже, право, тонкий ход.
И как я вышла за урода?
Ханжа, святоша, Дон-Кихот!»
12
Мир первый раз смещен. Володя
Заснет сегодня в темноте.
Среди рогож, среди полотен,
Болотом пахнущих и тем,
Чего он не видал ни разу.
А мама плачет. По углам
Шуршит в тазах и лезет в вазу
И чуть потрескивает мгла.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная