ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПИР НА ПЕПЛЕ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ПИР НА ПЕПЛЕ
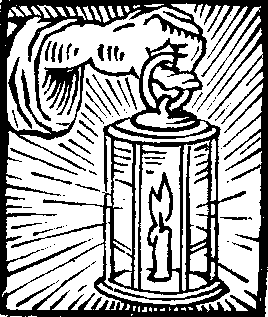
Шпионы Уолсингема доносили со всех сторон, что против королевы опять готовится заговор. Прежний план совершить вторжение на Британские острова вновь нашел сторонников среди католических князей. Но теперь речь шла не о высадке в Шотландии. Герцог Гиз собирался перебросить из Фландрии прямо на английский берег несколько тысяч отборных солдат. В другом месте должны были высадиться немецкие наемники и англичане-эмигранты. Филипп II выделил крупные суммы, чтобы снарядить войско для операций в Ирландии. Но основной удар Елизавете предполагалось нанести внутри страны: ее подданные-католики восстанут против еретички и вернут Англию в лоно истинной веры.
Уолсингем не дремал. Его люди без излишнего шума арестовывали подозрительных. Вдохновительницей этих заговоров, мнимых и действительных, обычно считали Марию Стюарт. За французским посольством велась неусыпная слежка. Было известно, что Мовиссьер помогает пленнице поддерживать тайную переписку с ее сторонниками. На посла нередко взваливали вину за интриги, к которым он не был причастен.
Мовиссьер давно предупреждал Генриха III, что как бы ни складывались отношения с Елизаветой, пренебрегать шотландскими делами нельзя. Упрочение древнего альянса Франции с Шотландией было той уздой, которая позволяла хоть в какой-то степени сдерживать непомерные домогательства англичан. Но король остался глух к этим советам. Елизавета, чтобы выгадать время, водила его за нос, принимала ухаживания герцога Анжу и обсуждала возможность их брака, а сама старалась под шумок прибрать Шотландию к рукам. Когда, наконец, Генрих III понял, что французское влияние в этой стране может совершенно ослабнуть, то велел Мовиссьеру предпринять энергичные шаги, добиваться освобождения Марии Стюарт и предложить свое посредничество в попытке примирить пленницу с сыном. Если будет необходимо, пусть посол лично отправится в Шотландию.
Аудиенция на этот раз была весьма бурной. Елизавета и слышать ничего не хотела о помощи Мовиссьеру в миссии, возложенной на него королем. Она обвиняла Марию в тяжких преступлениях и с гневом Говорила о ее бесконечных интригах. Королева напустилась на Мовиссьера: не слишком ли ретиво участвует он во всех этих аферах и не злоупотребляет ли свободой, ему предоставленной?
Резкий тон Елизаветы возмутил Мовиссьера. Он не замедлил ответить, что своим поведением никогда не походил на английских послов: те, подстрекая гугенотов, действовали во Франции не как дипломаты, а как враги. Его же усилия направлены на то, чтобы поддерживать мир. Он меньше всего хочет военного столкновения и поэтому вынужден на многое закрывать глаза.
«Я знаю, — дерзко добавил Мовиссьер, — что ваше величество не прочь половить рыбку в мутной воде!» Елизавета сдержалась. Вернувшись к основному предмету беседы, посол повторил, что необходимо начать переговоры и освободить Марию Стюарт из ее долгого заточения. Королева уже полностью владела собой. Она перевела разговор на другую тему. Отпуская Мовиссьера, все же обещала поразмыслить над предложением о его поездке в Шотландию.
Несколько дней спустя в Лондоне разразился величайший скандал. Один из схваченных по подозрению в заговоре сделал важные разоблачения. Когда его пытали в четвертый раз, он не выдержал и признался, что был осведомлен о планах иноземного вторжения. Его посвятили в это герцог Гий и дон Бернардино Мендоса, испанский посол.
Посла вызвали в королевский совет. Хорошо же он пользуется своими правами дипломата — подбивает людей на мятежи и готовит свержение законной власти! Ему приказали в две недели покинуть страну. Мендоса категорически отрицал свое участие в заговоре. Перед обвинителями он не остался в долгу: на него возводят напраслину, а сами только и делают, что строят козни против монарха Испании!
Члены совета повскакали со своих мест. Пусть он тотчас же подобру-поздорову убирается из Англии и не ждет, чтобы королева его покарала!
— Ни королева, ни кто-либо на свете, — с жаром воскликнул Мендоса, — не имеет права меня обвинять! И пусть никто из вас не позволит себе заходить слишком далеко, коль нет у него в руках шпаги. Ваша королева покарает меня? Меня? На такую угрозу я могу отвечать лишь усмешкой. Я буду счастлив отсюда уехать, как только получу паспорта.
Раз я не угодил вашей королеве, — зловеще закончил Мендоса, — как посланник мира, то я сделаю так, что она найдет, во мне посла войны!
Однажды Флорио и Гвинн, придя к Бруно, сказали, что их прислал королевский шталмейстер. Он горит желанием побеседовать с Ноланцем, очень интересуется его новой философией, желает постичь выдвигаемые им парадоксы, Коперниковы и все прочие. Бруно резко ответил, что хотя и обязан многим Копернику, но смотрит на мир не его глазами и не глазами Птолемея, а своими собственными.
Фулк Гривелл не думал отступать от своего намерения. При встрече с Бруно он повторил, что охотно бы услышал из его уст доводы в защиту мысли о движении Земли. Сэр Фулк, избалованный успехами при дворе, не привык, чтобы ему отказывали. Бруно ответил с подкупающей прямотой: не зная его способностей* он не собирается приводить какие-либо доводы и не хочет уподобляться человеку, который убеждает статую или беседует с мертвецами. Прежде чем излагать взгляды относительно вращения Земли, он желал бы выслушать аргументы, подкрепляющие противоположное мнение, и оценить по достоинству способности своего собеседника. Несостоятельность Птолемеевой теории он докажет, исходя из тех принципов, которыми будут ее обосновывать.
Гривелл был в восторге от такого ответа и заявил, что принимает предложение. Через неделю, в первый день великого поста, он соберет в своем доме многих джентльменов и ученых. Надо надеяться, синьор Бруно получит достаточно материала, чтобы обнаружить всю силу своей аргументаций.
Джордано не хотел приумножать горький свой опыт и откровенно сказал Гривеллу: он принимает приглашение, но просит устроить так, чтобы ему не пришлось выступать перед малосведущими или грубыми субъектами.
Сэр Фулк поспешил рассеять его сомнения и уверил, что запасется наилучшими оппонентами, людьми высокой учености и безупречного воспитания.
Наступил первый день великого поста, который католики зовут днем пепла или днем поминовения, — 14 февраля 1584 года. Бруно напрасно ждал вестей от Гривелла. Прошло время обеда, но никто так и не явился. Джордано решил, что Фулк, занятый другими делами, забыл об их разговоре или почему-то не смог исполнить задуманного. Бруно отправился проведать друзей итальянцев. Вернулся он в сумерках. У дверей встретил Флорио и Гвинна. Они сбились с ног, разыскивая его.
— Идемте же скорее, вас ждут!
Они направились к Темзе в надежде сократить путь и отыскать лодку, которая доставила бы их прямо ко дворцу, где находились апартаменты, занимаемые Фулком Гривеллом. Выйдя на набережную, спустились к причалу и очень долго звали лодочника. Наконец издали откликнулись двое. Медленно, словно их ждала виселица, подплыли к берегу. После бесконечных препирательств из-за платы один дал руку Ноланцу, другой помог остальным.
Ветхая ладья застонала под грузом. О, лишь бы она не стала ладьей Харона! Бруно все время смеялся и шутил. Стариков лодочников он называл перевозчиками из Тартара, уверял, что лодка, конечно, обломок, оставшийся после всемирного потопа.
Погода стояла премерзкая. Поздний февральский вечер на реке, холодный и ветреный. Лодка скрипела. Чем заглушить эту унылую музыку? Флорио затянул песню, сложенную на стихи Ариосто. Бруно ее подхватил.
Размашистые движения гребцов могли обмануть только простака. Весла едва касались воды, и лодка плыла с поразительной медлительностью. Около Темпля перевозчики вдруг пристали к берегу. Бруно спросил, каковы их намерения. Они хотят немного отдышаться? Он должен был ждать, пока Флорио переведет их ответ. Лодочники сказали, что дальше не поедут: здесь их стоянка. Все уговоры были напрасны. С ними пришлось расплатиться и даже поблагодарить, чтобы не нарваться на неприятность.
Бруно и его спутники двинулись дальше и сразу же угодили в лужу. Не успели из нее выбраться, как попали в худшее болото. Свернуть некуда: по обе стороны высилась каменная ограда. Переулок не освещался, фонарей у них с собой не было. Им не оставалось ничего иного, как идти наугад. Поминутно скользя и оступаясь, они шли вперед, пока не выбрались на улицу. К своему изумлению, они обнаружили, что находятся почти там же, откуда начали поиски лодки. Французское посольство было рядом.

Мигель Сервет.

Жан Кальвин.
Все, казалось, настойчиво советовало отказаться от дальнейшего путешествия: и неудача с лодочниками, и поздний час, и туман, и близость дома. Но ведь их ждут! Бруно верен своему слову. Он обещал прийти. Разумеется, люди, которые при таких обстоятельствах не догадались прислать за гостями лошадь или лодку, и в случае их неприхода на них же взвалят вину. Они припишут Ноланцу неведомо что. Но разве только в этом дело? Он жаждет послушать ученых мужей, которых Фулк Гривелл вызвался собрать у себя для беседы. Надо идти.
С великим трудом добрались они, наконец, до дворца. Толпившиеся в прихожей слуги встретили их без всякой почтительности. Не кивнув даже головой, с видом одолжения показали, как подняться наверх. Конечно, какие тут почести: явился чужеземец в весьма заурядном наряде. У него не увидишь на груди знаков отличия, скорей уж заметишь, что недостает пуговицы.
Гости сидели за столами. После небольшой заминки разместились и вновь пришедшие. В ученых людях, как и обещал Фулк, недостатка не было. Разодетые в бархат, в длинных мантиях, они воплощали достоинство и гордыню. Кто эти доктора? Медики и философы? Из Оксфорда? Неужели в Лондоне не нашлось знатоков философии? Но оксфордские доктора были весьма внушительны, и Бруно едва сдержал усмешку. Важнейшие персоны!
У того, кто сидел слева от Джордано, шея была украшена двумя золотыми цепями и орденом, другой, восседавший наискосок, походил на богатейшего ювелира. Пальцы его были унизаны перстнями и кольцами. Словно он приехал на ярмарку торговать драгоценностями.
Гости продолжали о чем-то беседовать. Потом доктор с перстнями, приосанившись, огляделся вокруг и со снисходительной улыбкой спросил по-латыни Ноланца, разумеет ли синьор, о чем идет речь. Джордано ответил, что не понимает английского. Разговор, пояснил оксфордец, касается следующего: Коперник, по их мнению, вовсе и не держался мысли, что Земля движется. Это неприемлемо и невозможно. Он приписал движение Земле, а не восьмому небу, лишь для того, чтобы удобней производить астрономические расчеты.
Так вот как английские доктора толкуют Коперника! Знакомая песенка! Они действительно вертели в руках его книгу, запомнили год и место издания и набрались премудрости из дурацкого предисловия какого-то самонадеянного осла, который хотел, чтобы подобные ему четвероногие нашли и здесь латук себе по вкусу. Невежда, накропавший предисловие, извратил основную идею Коперника!
Диспут начинается совсем не так, как предполагал Бруно, когда уславливался с Фулком: приверженцы Птолемеевой системы не приводит доводов в защиту своих взглядов, а твердят, что сам Коперник не верил в движение Земли. Коперник, с пылом возражает Бруно, не только был убежден во вращении Земли вокруг Солнца, но и всеми силами доказывал это.
Джордано воздает должное Копернику и другим великим ученым, говорившим о движении Земли. Но он, Бруно, рассматривая вселенную, исходит из собственных принципов, которые опираются не на авторитеты, а на живое чувство и разум.
Кое-кто из слушателей — насмешливо переглядывается. С какой горячностью Ноланец излагает свои взгляды! Да он и впрямь неистощим на парадоксы. Ему мало, что он заставляет Землю вращаться вокруг Солнца, он еще допускает, будто на земной шар можно взглянуть со стороны!
С увлечением развивает он свою диковинную мысль. Какой покажется Земля человеку, если он будет смотреть на нее из какой-нибудь точки мирового пространства? Чем больше будет он удаляться от Земли, тем шире сможет охватить ее своим взглядом, а уйдя на определенное расстояние, увидит, что Земля — шар.
— Мы увидим Землю, — восклицает Джордано, — с такими же подробностями, с какими видим Луну, ее светлые и темные части!
— Однако увеличивающееся расстояние, — продолжает Бруно, — будет все больше мешать нам различать детали. Луна по мере удаления от нее потеряет привычный нам облик. Пятна ее будут становиться все меньше и меньше, и, наконец, Луна покажется нам маленьким светящимся телом. А совсем издалека и наша Земля будет казаться нам звездой, одной из бесчисленных звезд бескрайнего неба.
О чем бы ни рассуждал Ноланец, он как-то так поворачивает любую тему, что она становится странной. Он говорит об освещенности Луны и вдруг задает вопрос: как бы мы воспринимали лунный свет, находясь на Луне? И тут же высказывает предположение, что свет, отражаемый Землей, может быть сильнее лунного, хотя люди и не замечают этого. Но его видят те, бросает он вскользь, кто находится на Луне.
Те, кто находится на Луне! Но и этого Ноланцу мало. Он уверяет, что существуют и другие небесные тела, подобные нашей Земле, и что их неисчислимое множество. Поразительные речи! Для большинства присутствующих даже Коперниково учение представляется хитроумной выдумкой. Но если оно, по рассказам, облегчает исчисления, то пусть им и занимаются досужие математики. Ноланец думает иначе. Он во что бы то ни стало хочет убедить людей считать Землю одной из планет, вращающихся вокруг Солнца, хочет заставить человека мысленно побывать в бесконечном — бесконечном! — эфирном пространстве и взглянуть оттуда на земной шар. Кто он, этот итальянец, с его быстрой речью, выразительными жестами и необыкновенно живым и умным лицом? Кто он? Безудержный выдумщик, нашедший у Коперника пищу для своих немыслимых фантазий? Зряшный хулитель общепринятых мнений? Корыстный насмешник, который нарочно дурачит честную компанию, чтобы потешиться над нею в своей новой комедии?
Совершенно невероятные вещи он излагает с такой убежденностью, что вызывает противоречивые чувства. Ему нельзя отказать в известной логике. Поразительно его умение доказывать недоказуемое. Трудно следить за потоком выдвигаемых им аргументов. Он сведущ в различных науках — не понятый ни на родине, ни на чужбине пророк, которого оценят через столетия? Или бродячий софист, ловко жонглирующий идеями?
Когда Бруно кончил, воцарилось молчание. Украшенный перстнями доктор не сразу нашелся что ответить. Несколько помедлив, он заявил, что мысль о движении Земли неправдоподобна. Земля, как известно, центр вселенной, неподвижная и постоянная основа всякого движения.
Центр вселенной! И это довод! Бруно снова ринулся в спор. Где такой центр? Коперник, например, считает Солнце центром. Так думают и многие другие ученые, убежденные в ограниченности вселенной. Здесь корень всех расхождений. Он, Ноланец, полагает вселенную бесконечной, а раз она бесконечна, то нет и тела, которому было бы абсолютно необходимо пребывать в центре. Небесному телу лишь свойственно находиться в неких отношениях с другими телами. Сколько придумали лекарств и припарок, чтобы заставить природу идти в услужение к маэстро Аристотелю! Но напрасны усилия тех, кто, измышляя различные уловки, тщится доказать, будто всякое перемещение небесных тел есть правильное, без малейших отклонений, движение по идеальному кругу. Только леность мысли и старые привычки заставляют людей отрицать явления природы, которые кажутся необычными. Нельзя на мысль о движении Земли отвечать одним только возгласом, что это-де невозможно и неприемлемо. Пусть ему приведут аргументы, подтверждающие, что вселенная имеет предел, что звезд в мировом пространстве ограниченное число, что Земля центр вселенной и что она совершенно неподвижна!
Противник оторопел, но он хочет скрыть свою беспомощность. Бруно упоминал, что существуют бесчисленные миры, подобные нашему. Ловкий диспутант находит выход. Тягостное молчание он прерывает, потоком вопросов. Каковы, по мнению Ноланца, другие небесные шары? Каковы их свойства? Из какого вещества они состоят? Почему…
Спасительный выход. Засыпать другого вопросами и самому ничего не доказывать. С помощью «как» и «почему» любой осел может участвовать в диспуте! Джордано понимает его уловку, но ограничивается тем, что просит держаться главной темы. Ему ведь так и не показали, каким разумным основаниям противна мысль о движении Земли. Относительно же вопросов, коими его засыпали, он охотно выскажет свои соображения, хотя о многом может говорить лишь предварительно. Он думает, что одни небесные тела излучают свет, а другие его только отражают. Огненные шары похожи на Солнце, а шары, светящиеся отраженным светом, — земли, которые отличаются от нашей лишь размерами.
В природе, объясняет Бруно, не существует ни сфер, к которым будто бы пригвождены светила, ни двигателей, вращающих сферы. Небесные тела, как огромные живые существа, дают жизнь и питание всем вещам, которые получают от них материю и им же возвращают ее. Они движутся не по воле какого-то внешнего двигателя, а находятся в самодвижении.
Джордано приходится отвечать и на обычный довод, высказываемый в опровержение мысли о движении Земли. Если бы, мол, Земля вращалась, то тучи всегда бы стремительно неслись к западу. Он подчеркивает, что воздух, окружающий Землю, есть часть Земли, и, поэтому говоря о ее вращении, надо понимать весь организм в целом.
Противник не прерывает Бруно, но всем своим видом показывает, что тот городит несусветные вещи, он насмешливо прищуривает глаза, презрительно ухмыляется, надменно поднимает брови. На вопрос, почему он смеется, отвечает, что россказни о существовании других земель заимствованы у Лукиана.
Опять эта завидная ученость! Бруно говорит о серьезных вещах, пытается по-новому осмыслить все мироздание, а буквоед, живущий одними цитатами, не зная, как возражать, отпускает оскорбительные шуточки. Когда Лукиан зубоскалил над философами, учившими о множественности миров, он лишь разделял общее невежество.
— В честном споре, — желчно бросает Бруно, — не подобает издеваться над тем, чего не понимаешь. Как я не смеюсь над вашими фантазиями, так и вы не должны смеяться над моими мнениями. Если я дискутирую с вами вежливо и с уважением, то и вы должны отвечать мне тем же!
Напрасные призывы. Второй оксфордец ведет себя еще более нагло. Поправив бархатный берет и подкрутив усы, он поднимается из-за стола. Принимает воинственную позу, словно собирается драться на шпагах, левой рукой подпирает бок, а правой делает выпад. Жест и слова полны презрения:
— Так это вы и есть пресловутый учитель философов?
Бруно сразу же его обрывает. Даже если бы он был им, то разве отсюда следует, что Земля неподвижный центр мира? Они ведь собрались здесь не для того, чтобы обмениваться колкостями. Времени потрачено много, но он еще не слышал, чтобы кто-нибудь опроверг его взгляды. Или его противники пришли на диспут не во всеоружии аргументов, а лишь с запасом убогих острот?
Присутствующие стали просить оксфордца перейти к существу спора. Подумавши, тот с важностью изрек:
— Если Земля движется, то почему Марс кажется то больше, то меньше?
Бруно ответил, что главная причина этого в движении Земли и Марса по собственным орбитам. Они то приближаются друг к другу, то отдаляются.
Второй из докторов решил прибегнуть к той же тактике, что и первый. Он намерен был засыпать Бруно бесконечными вопросами: смотришь, и найдется какой-нибудь, на который тот не ответит. Действительно, надо иметь много терпения, чтобы не встать и не уйти. Но разве дело в этих докторах? Разве среди слушающих нет людей, ради которых стоит остаться? Джордано еще раз попытался ввести спор в правильное русло. Он ведь пришел сюда не для того, чтобы читать лекции об общеизвестных истинах или вступать в тяжбу с математиками о точности тех или иных расчетов. Речь идет об основных принципах строения вселенной. Можно всю ночь рассуждать о «блужданиях» планет и не продвинуться ни на шаг в главном вопросе. Зачем понапрасну тратить силы? Пусть его противники оперируют любыми расчетами и наблюдениями, но пусть они выдвинут серьезные возражения против защищаемых Ноланцем идей.
Оксфордцы переговариваются между собой, спрашивают о чем-то других. Из-за чего происходит задержка? Оказывается, они не знают, какие, собственно, положения намерен защищать Ноланец! Что они, издеваются над ним? Он уже столько объяснял. Если у них нет доводов, то это их собственная вина. Он им дал достаточно материала. Ну, а если они уверяют, что не поняли, в чем суть его несогласия с вульгарной философией, то он так и быть повторит еще раз.
И Бруно снова говорит о бесконечности вселенной, о неисчислимом множестве небесных тел, таких же огненных светил, как Солнце, или таких же холодных, как Земля, Луна, Венера; повторяет, что одни тела движутся вокруг других без всякого внешнего двигателя, а лишь в силу присущего им жизненного начала, объясняет суточное и годичное движение Земли. Он говорит терпеливо и обстоятельно, хотя один из докторов все время ему мешает возгласами: «К делу! К делу!»
Бруно заканчивает. Его противник мог бы еще кричать, если бы он не по существу отвечал на вопросы, но он ведь высказывал свои собственные положения. Это и есть суть дела. Пусть-ка теперь его нетерпеливый оппонент, усмехаясь, бросает Бруно, сам выскажет что-нибудь относящееся к делу!
Доктор с виду очень воинствен, он здорово орет, когда перебивает другого, но сейчас он в замешательстве. Его очередь выступать, он должен опровергнуть Ноланца, должен сам и впрямь высказаться о существе дела. Джордано улыбается: пожалуйста, все ждут… Ведь оппонент, вероятно, не может надеяться, что его шумные возгласы будут приняты за аргументы, а зычный голос в сочетании с золотой цепью полностью удовлетворит собрание?
Оксфордец, который только что так упрямо перебивал Бруно, выходит из себя. Он вскакивает с места, словно хочет закончить спор кулачной расправой, и обрушивает на Джордано поток злых и язвительных слов. Ноланец стремится быть основателем какой-то новой философии? Он, видите ли, не уступает в величии ни Птолемею, ни другим прославленным астрономам и философам. Не тешит ли он себя пустой мечтой и не тратит ли понапрасну время? Только одно делает Ноланец наверняка: он плывет в Антициру!
Даже здесь этот доктор не в силах удержаться, чтобы не блеснуть книжной ученостью. Другой сказал бы, что Ноланец попросту спятил, а он обязательно должен щегольнуть Эразмовой поговоркой. «Плыть в Антициру» означает лишиться рассудка. Это его, Бруно, называют безумцем! Он хочет, чтобы его поняли, с редким долготерпением растолковывает свои мысли, ждет серьезных возражений, а его снова прерывают насмешливыми возгласами, а затем вообще называют безумцем! Если на диспуте в Оксфорде он сохранял учтивость и спустил университетскому корифею оскорбительные наскоки, то это совсем не значит, что он всегда будет в вежливых выражениях отвечать на грубость. Он так разделает этого надутого педанта, что тот надолго откажется от своих плоских острот и не захочет состязаться с Ноланцем в сочности выражений. Ведь этому ослу вместо золотой цепи следует накинуть на шею петлю и в память о сегодняшнем вечере отсчитать сорок палочных ударов! Бруно осыпал противника градом насмешек. Ему здесь больше нечего делать. Хорош же ученый диспут, где бранью отвечают на его аргументы! Вставая из-за стола, Бруно попрекнул и хозяина: неужели тот не мог запастись лучшими оппонентами!
Все поднялись. Раньше, когда над Джордано смеялись и дурацкими репликами мешали ему говорить, большинство гостей одобрительно улыбалось. А теперь, когда Бруно ответил грубостью на грубость, они начали возмущаться и обвинять Ноланца в нетерпимости. Конечно же, он виноват! Он не носит докторского берета, он иностранец, он защищает какие-то сомнительные парадоксы! Джордано взял себя в руки. Пусть и на этот раз он победит вежливостью тех, кто жаждет одолеть его с помощью брани. Примирительно говорит оппоненту, что понимает его: он сам мальчишкой, будучи новичком в философии, разделял подобные заблуждения.
Заблуждения! Оксфордцы горячатся. На их стороне не только Аристотель и Птолемей, но и другие ученейшие философы. Вечный довод защитников вульгарной философии! Многое, что делается под знаменем Аристотеля, не имеет к нему отношения. Бруно, как и Телезио, всю жизнь ведет почетнейшую войну со взглядами Стагирита, но он всегда помнит, что самые ревностные перипатетики часто совершенно не знают сильных сторон Аристотеля, и не понимают толком даже заглавия его книг. Они разделяют лишь его ошибки.
Да и в самом деле, неужели оксфордцы не выскажутся по существу? Преисполненный августейшего величия доктор с орденом вопрошает:
— Где находится апогей Солнца?
Почему его об этом спрашивают? Опять та же манера: не приводить фактов, а только с важным видом спрашивать и спрашивать! Так легко производить впечатление на простаков. Джордано пародирует его вопросы. Их можно задавать без конца. Бывает ли противостояние над колокольней святого Павла? Сколько таинств церкви? Почему бы Ноланцу не знать, сколько звезд четвертой величины?
Его словно нарочно не желают понимать. Весь вечер Бруно доказывал, что не Солнце движется вокруг Земли, — наоборот, Земля вокруг Солнца. А ему твердят: где высшая точка подъема Солнца? Это все равно, что человеку, убежденному в неподвижности Земли и движении Солнца, задавать вопрос, где апогей Земли!
Ведь даже новичок, только еще начинающий постигать искусство аргументации, знает, что вопросы надо ставить, исходя не из собственных предпосылок, а из положений, выдвинутых противником.
Ему не возражают. Как бы убедительно он ни говорил, оксфордцы всем своим поведением показывают, что не придают веса его речкам. Вот и сейчас они о чем-то совещаются. Бруно сидит тут же, за одним столом с ними. Они прекрасно знают, что гость не понимает по-английски, и нарочно, оставив латынь, говорят между собой на своем языке. И подобные люди еще гордятся хорошим воспитанием! Но что это? Слуга принес чернильницу и бумагу. Один из докторов чертит окружности, рисует планеты, делает поясняющие надписи: «Солнце», «Восьмая подвижная сфера», «Птолемей». Он продолжает чертить и хочет изобразить на бумаге схему Коперника. Почему он так старается?
— Молчите, — обрывают Бруно, — и учитесь доктринам Птолемея и Коперника.
Ноланец вспылил. Выводят буквы и берутся обучать грамоте того, кто знает ее лучше их! Люди, которые видят в теории Коперника только отвлеченную гипотезу, удобную для упрощения расчетов и не имеющую под собой реальных оснований, желают по-своему толковать Коперниковы идеи. Да Коперник дал бы скорее перерезать себе горло, чем согласился с подобными комментаторами! Разглядывать в книге Коперника рисунок — это еще не значит понимать его учение.
Спор снова становится острым. Раздаются взаимные попреки, резкости, насмешки. Оксфордцы лезут в сочинение Коперника, читают отдельные фразы и опять, не обращая внимания на Бруно, что-то обсуждают по-английски. Потом они поднимаются, важно раскланиваются со всеми присутствующими — со всеми, кроме Ноланца! — и идут к дверям.
Это ли не публичное оскорбление? Джордано находит в себе силы обуздать гнев. Он обращается к одному из знакомых, просит нагнать почтеннейших докторов и передать им от его имени привет.
Испытывая неловкость из-за неучтивой выходки оксфордцев, несколько человек хотят успокоить Бруно. Пусть он не волнуется из-за этих дерзких невежд и будет снисходителен к Англии, которая овдовела во многих науках и особенно в философии. Ему не легче от этих утешений. Слепые ослы, выдавая себя за зрячих, лезут в философию и тащат туда вместо фонарей мочевые пузыри!
Джентльмены, прощаясь с Ноланцем, расходятся. Внизу Бруно ждет новое унижение. На дворе глубокая ночь. Слуги с факелами встречают своих господ. Одним подают лошадей, другие идут пешком в окружении целой свиты.
Сэр Фулк не находит нужным позаботиться о своем беспокойном госте и дать ему провожатого. Его, видимо, совсем не тревожит мысль, как Джордано, плутая в потемках, будет разыскивать Мясницкий ряд в бесконечном лабиринте лондонских улиц.
Он тут же, не откладывая, взялся за перо. Терпение его истощилось! Он десять месяцев живет в Англии, пытается, как только может, будить спящие души, а ему вместо благодарности лишь норовят размозжить голову! Все время он держал себя в руках и не раз, когда его так и подмывало хлестнуть обидчика бичом сарказма, ограничивался вполне вежливыми фразами. Даже на диспуте в Оксфорде он не дал воли своему гневу и на грубости свиньи Андерхилла отвечал излишне корректно. А ведь он сразу предупреждал оксфордцев, что никому не позволит безнаказанно поносить его учение. Он слишком долго терпел. Не за славой приехал Ноланец в Англию. С большей бы радостью он учился, чем учил. Никому не навязывал своих мыслей, никого не призывал принимать на веру его теорий. Он хотел только одного: чтобы люди, отказавшись от предубеждений, взглянули на мир открытыми глазами. Многое он высказывал предположительно, в виде догадок, которые казались ему вероятней существующих ошибочных мнений. Обоснованные возражения ему куда дороже пустой похвалы. Может быть, он упустил из виду какие-нибудь важные доводы и в его взглядах есть изъян?
Месяц за месяцем искал он ученых, которые пожелали бы серьезно разобраться в сути его воззрений. Да, у него есть теперь несколько друзей, убежденных в истинности ноланской философии. Но как их мало по сравнению с тьмой недоброжелателей! Всякий спесивый неуч, рассчитывая на безнаказанность, позволяет себе потешаться над его взглядами и унижать любимую им мать философию! Больше этого он не будет сносить. Он отобьет у педантов охоту зубоскалить и заставит их на собственной шкуре почувствовать, что Ноланец отвечает ударом на удар и платит за каждый смешок отменной издевкой.
Достанется и Фулку! Он ведь его предупреждал, что соглашается участвовать в диспуте только при условии, если будут приглашены настоящие ученые. А как тот поступил? Фулк прекрасно знал о конфликте в Оксфорде и тем не менее противопоставил ему именно оксфордских докторов. Хорош, нечего сказать, хозяин, который не держит обещаний, зовет на пир мысли не сведущих людей, а набитых чванством кукол, и позволяет им в своем доме грубо обходиться с гостем!
Сейчас Бруно не собирается в строгой последовательности излагать свои взгляды на мир. Он просто под свежим впечатлением поведает читателям о том, что в день пепла происходило в апартаментах Фулка Гривелла. Это будет, разумеется, не трактат и не послание. Он напишет диалоги, в которых один из собеседников будет рассказывать трем другим о недавнем диспуте. Ноланец не станет писать сейчас по-латыни, он оставит ее оксфордским педантам: в Лондоне достаточно много людей, знающих итальянский. Да и что больше под стать его цели, если не хлесткий язык «Подсвечника»?
Пир мысли? Ужин в день пепла? «Пир пепла»! Название имело явный привкус кощунства, но это не смущало Бруно. Он готовит не благочестивую проповедь! Диалоги начинались стремительно, точно разыгрывались на подмостках:
«— Хорошо говорят по-латыни?
— Ученые?
— Довольно компетентные. Благовоспитанные, вежливые, культурные?
— В известной степени.
— Доктора?
— Да, сударь. Да, господи, да, матерь божия. Да, да. Я думаю, что они из Оксфордского университета.
— Квалифицированные?
— Ну как же нет? Избранные люди, в длинных мантиях, облаченные в бархат. У одного — две блестящие золотые цепи вокруг шеи, у другого — боже ты мой! — драгоценная рука с дюжиной колец на двух пальцах, которые ослепляют глаза и душу, если любуешься ими. Похож на богатейшего ювелира.
— Высказывают познания и в греческом языке?
— И к тому же еще и в пиве».
Бруно не особенно стеснялся в выражениях, когда набрасывал портреты своих противников, этих экзаменаторов ноланской полноценности. Он дал им вымышленные имена: доктора с цепью назвал Торквато, а того, что сверкал перстнями, — Нундинием. Но чтобы не было сомнений, кого он имеет в виду, Бруно точно указал, где за столом кто сидел.
Джордано не боялся отступлений. Страницы, словно заимствованные из злой комедии, сменялись геометрическими схемами, математическими доводами, примерами из физики. Целый водопад образов, стихов, цитат, шуток, двусмысленных намеков. Осмотрительностью Бруно не отличался и в сердцах хватал через край. Иногда казалось, будто он нарочно хочет восстановить против себя возможно большее число людей. В «Пире на пепле» он не только разделался с оксфордскими педантами, но и откровеннр выложил все, что думал о неприветливых лондонцах. Мимоходом прошелся и по адресу своих пронырливых земляков, незаслуженно почитаемых англичанами.
Он писал о философии и теологии, о роли Коперника, о вреде предубежденности в науке, о бесплодии скептиков, оценивал заслуги древних астрономов и настойчиво повторял: вселенная безгранична и существуют другие обитаемые миры!
Пятый, заключительный диалог Бруно написал специально для того, чтобы диспут «не окончился бесплодно». Здесь почти не было сатирических отступлений. Джордано развивал свои основные мыс-, ли о вселенной. Люди не избавятся от множества заблуждений, пока будут верить, что Земля в отличие от других небесных тел занимает какое-то особое положение, что она центр всего мироздания. Мысль о пригвожденных к небосводу звездах, которые будто бы движутся только с движением восьмой сферы, ошибочна. Сферы неподвижных звезд не существует. Звезды, называемые «фиксированными», расположены на неодинаковом расстоянии от Земли. Они находятся очень далеко от наблюдателя, и поэтому кажется, будто они неподвижны. Но они вращаются вокруг своих центров и подчинены законам взаимодействия, которые мы наблюдаем в окружающей нас природе. Будущее покажет правильность этой основной посылки. Среди далеких звезд, возможно, есть множество еще более великих светил, чем Солнце. Их орбиты значительно больше, чем орбиты наших планет, но движения этих звезд не видны. Джордано, однако, убежден, что они со временем будут обнаружены. Он верит в грядущие успехи астрономии:
«Если у некоторых из звезд произойдет разница в приближении, то о ней можно узнать только благодаря самым длительным наблюдениям, которые не начаты и не продолжаются, так как в такие движения никто не верил, не исследовал их и не предполагал, а мы знаем, что в начале исследования лежит знание и познание того, что вещь есть, или что она возможна и нужна, и что из нее извлечется польза».
Бруно писал, что в основе движения лежат вечные изменения материи, указывал на относительность представлений о тяжести и легкости. Он убежден, что и лик Земли постоянно меняется: там, где было море, возникает суша. Его рассуждения пересыпаны множеством интересных подробностей.
У Ноланца зоркий глаз, он помнит и море, отступающее от стен Нолы, и камни на полях Прованса.
Все, о чем бы он ни говорил, служило одной цели: схоластическому мышлению и варварским нравам должен быть положен конец, люди должны увидеть зарю нового мировоззрения. Его не страшили упреки в смешении стилей, в обилии затронутых тем, в резкости. Ведь его призвание — будить дремлющие души!
Заканчивая «Пир на пепле», Джордано снова вспомнил, как неучтиво обошелся с ним Фулк Гривелл. И кому не дал он провожатого? Ноланцу!
Бруно писал о тьме незнакомых лондонских улиц, а перед глазами вдруг зловещим видением обернулась мысль о родине: десятки монахов с факелами в руках ведут еретика на сожжение…
С едкой напыщенностью заклинал Бруно благороднейших джентльменов проявлять больше заботы о госте. Странная фраза вышла из-под его пера:
«Когда же Ноланцу случится темной ночью возвращаться домой, то если вы не захотите дать ему сопровождение с пятьюдесятью или со ста факелами, в которых не будет недостатка, шагай он даже среди бела дня, коль придется ему умирать в католической римской земле, — дайте по крайней мере провожатого с одним факелом; если и это покажется вам лишним, то одолжите ему фонарь с сальной свечкой…»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава девятая
Глава девятая Выговор от директора Лэнгли Печальный некролог В кабинете начальника Советского отдела Оперативного Директората ЦРУ в Лэнгли двое мужчин — хозяин кабинета Джеймс Вулрич и Питер Николс, его заместитель. После крайне неприятной информации Джона Каллохена
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ А так хотелось толкнуть дверь с настоящей дверной ручкой, коснуться ладонью старинной серебряной мезузы на косяке и прижать ладонь к губам, как в детстве, когда папа еще не завел общую тетрадь для конспектов по «Краткому курсу истории ВКП(б)», а был, как его
Глава девятая
Глава девятая Сталин в Петрограде — временный руководитель партии. Конфликты во Временном правительстве. Петр Пальчинский и Александр Керенский. Развал государства: петровская Россия против простонародной РусиСталина известие о революции застало в Ачинске (180
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Все сотрудники санчасти меня очень хорошо встретили, включая и красивую начальницу, все были рады моему приезду и всячески старались рассеять мое мрачное настроение, истинную причину которого, конечно, никто не знал. Пока меня не было, дело со
Глава девятая Кин
Глава девятая Кин Рой Кин был игроком необычной энергии, мужества и темперамента, он обладал врожденным пониманием игры и ее принципов. В раздевалке ему не было равных, он был самым влиятельным в ней человеком. Это позволяло мне перекладывать на него большую часть
Глава девятая
Глава девятая (координаты 30—92, 17 июля 1942 г.)IПотом, когда случится то, что случилось, и когда, в силу этого, все доводы, продиктовавшие комбригу его решение, получат иной вес и иную цену, приказ идти на Тумбу станет представляться не только беспечностью или излишней
Глава девятая
Глава девятая Вскоре после нашего возвращения в Англию родился мой второй сын. Некоторое время мы жили с родителями жены на Честер-роу, откуда я ходил на работу пешком, а затем переехали в меблированную квартиру в большом старом доме в Бикли. В центре наших повседневных
Глава девятая
Глава девятая Плывет под крылом родная земля. Чем дальше ни юг, тем ярче зеленеют луга и поля, рощи и леса. Отсюда, с высоты, следов войны почти не видно, а ведь прокатилась она огненным валом здесь дважды — сначала к востоку, потом к западу. Мысли мои обгоняют Ли-2, рвутся
Глава девятая
Глава девятая Большой и безобразный роллинговский тур 1972 года начался 3 июня. Можно понять, почему такому чувствительному человеку как Кит, требуются препараты, но меня эти вещи не радовали совсем. Я возлагал надежды на что-то лучшее. Идеализм тура 1969-го года закончился
Глава девятая
Глава девятая В желанном нам строе не должно быть такой силы, которая бы заставляла людей насильно, под конвоем шествовать в христианский или иной рай! Ип. Мышкин По пути в лагерьВ предрассветном февральском сумраке наш эшелон, лязгая на сцепках, не спеша втягивался в
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Праздность была ей невыносима.Когда первого сентября начался сезон, все встало на свое место.В театр она ходила пешком.До здания, где играл Артистический кружок, можно было добраться всего за каких-нибудь десять минут. Она спускалась по Большой Дмитровке,
Глава девятая
Глава девятая Уехал Блок 5-го июля вечером. Следующее письмо получено в Шахматове уже из Вержболова.Через Берлин, Кельн, Париж Ал. Ал. отправился в Бретань, в купальное местечко Abervrach, где ожидала его жена.Из Берлина открытка: «Мама, я уже в Берлине, пью кофей. Спал скверно,
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 1Киров был в совершенно несвойственном ему удрученно-тревожном настроении, когда на исходе 1925 года открылся XIV съезд партии. Сергей Миронович писал Марии Львовне:«Из газет ты узнаешь, что на съезде у нас идет отчаянная драка, такая, какой никогда не было.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Первого мая он увидел другого Ленина.Положение па фронтах улучшилось, Колчака погнали от Волги, Юденича не пустили в Питер. На Восточном фронте нашими войсками взят Бугуруслан, продвинулись в районе Чистополя, идут успешные бои под Оренбургом и Уральском.