ГЛАВА ДЕСЯТАЯ БУРЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
БУРЯ
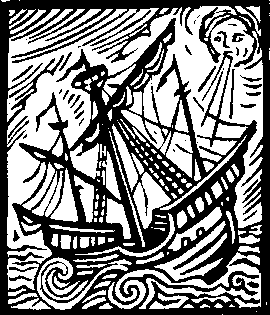
Для пиратов настали чудесные времена. Прежде корсар кончал свою жизнь обычно на рее или закатанный в парус погибал в пучине. Ждать почестей ему не приходилось. Теперь морской разбой превращался в доблестное дело. Ловкие пираты знали, кого грабить и кого брать в долю. Корсары негласно становились орудием большой политики. Борьба за преобладание на морях велась и их руками. Елизавета быстро сообразила, какие выгоды можно извлечь, поддерживая пиратов. Она не гнушалась никакими доходами, получала тайком часть прибыли от работорговли и немалую долю добычи, захваченной на испанских кораблях. Невзирая на предупреждения осторожных советников, она одобряла налеты на колонии испанцев в Новом Свете. В ней говорила не только алчность, но и политический расчет: дерзкие нападения пиратов подрывали могущество Испании. На безбрежных морских просторах шла необъявленная война. Англичане перехватывали галеоны, на которых Филиппу II везли из заморских владений серебро и золото. В отместку испанцы пускали ко дну английские торговые корабли. Энергичные представления негодующего испанского посланника королева выслушивала с хорошо разыгранным удивлением. Разве она, всей душой стремящаяся к миру, может быть в ответе за злодейства каких-то корсаров?
О Френсисе Дрейке говорили повсюду. Никто еще из английских мореходов не совершал таких подвигов, как этот жестокий работорговец и удачливый пират. Он проник через Магелланов пролив в Тихий океан и стал нападать там на испанские города. Тяжелые испытания не остановили Дрейка. Из четырех кораблей он потерял три, но продолжал отбивать у испанцев золото и грабил поселения. Он хотел возвратиться на родину необычным путем: «проходом» у северной оконечности Америки, который будто бы недавно обнаружили. Прохода этого Дрейк не нашел, но открыл новые земли и провозгласил их владениями Елизаветы. Опасаясь испанцев, он не рискнул плыть обратно, решил пересечь Тихий и Индийский океаны и обогнуть Африку.
Почти три года длилось его плавание. Он вернулся в Плимут овеянный славой — первый человек, который после Магеллана совершил кругосветное путешествие. Его восторженно встречали английские моряки. Посол Испании настаивал, чтобы наглых корсаров строго покарали и вернули награбленное. Видеть в Дрейке дерзкого корсара или героя, преумножающего владения королевы? Елизавета оказала Дрейку милостивый прием, прогуливалась с ним по саду, внимательно слушала, восхищалась драгоценностями. Его корабль велела привести в устье Темзы и устроить праздник. Соблаговолила прибыть и сама. Здесь же, на палубе, посвятила Дрейка в рыцари.
Испанскому послу пришлось довольствоваться ответом, что привезенные Дрейком сокровища временно переданы в казну. Спор закончится полюбовно, как только Филипп II возместит англичанам, ограбленным его подданными, весь ущерб.
Елизавета открыто благоволила к Дрейку.
Не оценить услуг этого опытнейшего капитана, когда столько говорят о колониях? Обостряющееся соперничество между Англией и Испанией заставляло пристальней приглядываться к Новому Свету. Не пора ли и англичанам утвердиться в сказочно богатых странах?
Еще до кругосветного плавания Дрейка Англию взбудоражили необыкновенные открытия Мартина Фробишера. Неудачные попытки найти путь в Китай вдоль берегов Сибири побудили искать проход в Тихий океан на севере Америки. Фробишер уверял, что нашел такой проход: десятки миль плыл он проливом, имея по одну сторону американскую землю, а по другую — Азиатский материк. Туземцы были похожи на татар. Китай где-то рядом! На берегу Фробишер в изобилии обнаружил черный камень с желтыми прожилками. Золото!
Его рассказы взволновали королеву. Она помогла снарядить новую экспедицию. В далекий путь вместе с моряками отправлялись и рудокопы. Трюм самого большого корабля было предписано наполнить драгоценным камнем и тут же плыть обратно. Фробишер имел другую задачу — он должен был попытаться достичь Китая. План этот остался неосуществленным. Вернувшись на родину, Фробишер доложил, что льды забили проход и он не выполнил приказа, зато все три его судна до отказа нагружены золотой рудой. Комиссия, назначенная королевой, подтвердила — в черном камне есть золото!
В Англии на Фробишера возлагали много надежд. Отрезвление пришло не сразу. Тщательные проверки показали, что в «золотой руде» золота не содержится. Да и «Азиатский материк» скорее походил на остров. У скептиков хватало поводов для сомнений. Может быть, и Фробишеров «проход» вовсе не проход? Неудача обескуражила только маловеров. Если северо-западный путь в Китай не найден, то будет найден!
Бруно приехал в Англию, когда уже улеглась лихорадка, вызванная Фробишером, и отшумели восторги, расточаемые по адресу Дрейка. Но тем громче раздавались другие голоса. Разве золотая руда — единственный залог богатства? Надо осваивать новые земли, торговать мехами, развивать рыболовство — начинать колонизацию необъятных просторов Северной Америки!
Эти призывы не миновали ушей Мовиссьера. После экспедиций Жака Картье Канада и прилегающие острова были объявлены французскими владениями. Попытка Хемфри Гилберта оставить колонистов на Ньюфаундленде, хотя и безуспешная, встревожила Париж. Генрих III выразил протест. Почему в его землях хозяйничают незваные пришельцы? В его землях? Да английские капитаны побывали здесь задолго до французов!
Среди людей, с которыми встречался Бруно, не один Мовиссьер интересовался Новым Светом. Это была излюбленная тема разговоров Филиппа Сиднея. В свое время он помогал финансировать Фробишера. Америка в глазах Сиднея была не столько золотым дном, сколько ареной для рыцарских подвигов. Он приветствовал нападения на испанские колонии.
Флорио тоже не остался в стороне от этих увлечений. Еще в Оксфорде, когда Хаклюйт решил издавать серию знаменитых путешествий, Флорио перевел для него рассказ о плавании Картье. Не ограничившись ролью переводчика, он написал введение, где доказывал, что англичане по праву первооткрывателей должны заселять североамериканские территории. Созданные там колонии наверняка помогут отыскать и путь в Азию. Сидней одобрил начинание Хаклюйта и работу Флорио.
Почти с такой же горячностью, как в портовых кабаках, о Новом Свете спорили в аристократических гостиных, в книжных лавках, в посольствах. Какие еще земли найдут отважные капитаны? В апреле 1584 года в Северную Америку ушли корабли, снаряженные Уолтером Роли, фаворитом королевы.
Бруно прислушивался к сообщениям о Новом Свете. Но энтузиазма по поводу успехов колонизации он не проявлял. Велико ли благо, если хитроумные англичане или иные алчные авантюристы обоснуются на неведомых прежде землях? Только пороками одного народа наделят и остальные!
Открытие Америки поставило перед учением церкви серьезные затруднения. Как смотреть на туземцев? Происходят ли они тоже от Адама? Тогда как могли они оказаться по ту сторону океана? Или они только внешне похожи на людей, а на самом деле не составляют части рода человеческого, чьи грехи были искуплены жертвой Христа?
У туземцев, по слухам, обнаружены летописи, рассказывающие о событиях, которые происходили задолго до того дня, когда господь, как высчитали церковники, создал весь этот мир. Да ведь такая хронология наносит авторитету библии еще один сокрушительный удар!
К подобным вестям из Нового Света Ноланец был далеко не безразличен.
Выход из печати «Пира на пепле» вызвал целую бурю. Брань и оскорбления сыпались со всех сторон. Возмущались все недруги Коперниковой теории, мракобесы и ретрограды, служители церкви и приверженцы Аристотеля. Какой-то заезжий философ позволяет себе опровергать взгляды, которых держались поколения ученых! К хору негодующих голосов присоединились и те, кто не очень-то интересовался астрономией. Враги хорошо понимали, как проще всего окружить Бруно стеною ненависти: его саркастические замечания о грубости лондонцев надо представить как развязную хулу на все английское общество. Сделать это было не особенно трудно. В «Пире на пепле» доставалось не одним Нундинию и Торквато. Вспоминая оксфордский диспут, Джордано писал: «Таковы плоды Англии: ищите сколько хотите, вы найдете здесь только докторов грамматики в наше время, когда в этом счастливом отечестве царствует созвездие упрямейшего педантического невежества и самомнения, смешанного с деревенской невоспитанностью, которые заставили бы отступить и многотерпеливого Иова».
Он, не стесняясь, высказывал суждения, метившие очень высоко. Вокруг трона крутились фавориты и временщики. Королева по собственной прихоти возвышала проходимцев и авантюристов. Да, Бруно чрезмерно, в духе времени, восхвалял Елизавету, но много ли оставалось от напыщенных фраз, когда в этой же книге были и такие слова: «Обыкновенно не возвышают достойных и добродетельных людей, ибо государю кажется, что эти люди не будут иметь повода так благодарить его, как получивший возвышение низкий человек или плут, принадлежащий к подонкам общества. Кроме того, благоразумно дают понять, что счастье, слепому величию которого мы столь обязаны, выше, чем добродетель. Если иной раз возвышают благородного или почтенного человека, то не часто позволяют ему удержаться на посту. Ему предпочитают менее достойного, для того чтобы доказать, насколько власть выше заслуг и что заслуги ценятся только тогда, когда они дозволены и допущены властью».
Благо бы он потешался лишь над лондонской толпой или над оксфордскими педантами, но он и дворян выставляет в весьма неприглядном свете! Возмущались не одни англичане, даже среди земляков появились у Бруно враги: Саесетти и Убальдини, эти «две поддельные флорентийские реликвии», мечтали отомстить за насмешку. Люди, которых так или иначе задела его книга, подняли невероятный шум. Ноланец клевещет на Англию! Болезненно самолюбивый и обидчивый Фулк Гривелл не простил Бруно «Пира на пепле».
На голову Бруно обрушился поток оскорблений. Воистину нужно обладать героическим духом, чтобы выстоять против этой бури, не опустить рук, не впасть в отчаяние. Враги, не брезгуя средствами, принялись травить Ноланца.
Ему нельзя было выходить на улицу. Отсиживаясь в посольстве, тихонько переждать, пока уляжется буря? Воспользоваться вынужденным уединением, чтобы набраться благоразумия? Плохо же они знают Ноланца! Он изменил бы себе, если бы сложил оружие. Бруно готовил к печати «О причине, начале и едином». Рукопись была почти завершена, когда разразился скандал из-за «Пира на пепле». Мовиссьер еще раз показал себя с наилучшей стороны. Он делал все, чтобы защитить Бруно. И Джордано не без оснований сравнивал его со спасительным утесом, о который разбиваются волны бушующей стихии. Книгу «О причине, начале и едином» — самое дорогое, что было у Бруно, самое, по его убеждению, драгоценное для будущего мира — он, как и «Пир на пепле», с чувством искренней благодарности посвятил Мовисеьеру. К четырем написанным диалогам Джордано решил добавить еще один — ответ недоброжелателям и клеветникам.
Совы не терпят солнца, узники, привыкшие к тюремному мраку, выйдя на яркий свет, прикрывают глаза, люди, изощренные в вульгарной философии, не выносят блеска новых учений! Так разве в этом вина Ноланца? Вокруг вопят, что он клеветник и оскорбитель. А ведь он только отвечает ударом на удар. Слишком решительно? Пусть другим неповадно будет впредь делать философию предметом насмешек, Даже резкие слова высказаны им не ради мести, а ради врачевания. Он хочет, чтобы люди разглядели собственные пороки, а ему кричат в ответ: он, мол, не смеет вмешиваться в дела чужой страны. Как будто лекаря-иностранца, если он пытается употреблять целительные средства, неизвестные местным эскулапам, следует тут же прибить! Даже если его не признают за врача, от этого больные не станут здоровыми.
При всей своей вспыльчивости он не стал бы писать «Пир на пепле» из чувства оскорбленного самолюбия. Как будто в нем дело! Унизить пытались науку, любимую им мать философию! Сейчас всякий праздный краснобай, преисполнившись важности из-за выставленных напоказ книжек или длиннющей бороды, причисляет себя к философам. В глазах народа слово «философ» стало означать «плут», «тунеядец», «шарлатан», «скоморох». По вине таких самозванцев философия и терпит ущерб.
О нем говорят, что он слишком близко принимает к сердцу пренебрежительное отношение к науке? Люди находят естественным, если кто-нибудь стережет драгоценности или ревниво оберегает свою красотку. Да, для него, Бруно, дороже всего на свете философия. У него есть что защищать — он обязан быть и воинственным и зорким.
«Другие философы не открыли столько, не должны столько охранять и столько защищать. И они легко могут пренебрегать такой философией, которая ничего не стоит, или другой, которая стоит мало, или той, которой они не знают. Но тот, кто нашел скрытое сокровище истины, пораженный красотой этого божественного лика, не менее ревниво заботится, чтобы она не подверглась искажению, пренебрежению и осквернению, чем кто-нибудь другой, питающий низкую страсть к золоту, рубину и бриллианту или к тленной женской красе».
Враги его нарочно выдают упреки отдельным лицам за оскорбление всей страны. Он осудил бы себя на тысячу отречений, если бы тот или иной порок приписал целому государству. Возмущаться дурными обычаями — значит ненавидеть страну? Разве кто вправе усомниться в любви к родине тех поэтов, которые воспевают благословеннейшую Италию как мать добродетелей и одновременно зовут ее наставницей пороков?
Люди разумные, конечно, поняли его правильно. Один из персонажей диалогов, англичанин, сожалеет, что Бруно столкнулся со столь недостойными лицами, и уверяет, что все благородные умы приветствуют «Пир на пепле». Он идет еще дальше и говорит, что не подумает защищать тех, кто был предметом сатиры. Подобные люди позорят страну: «Из числа их я не исключаю значительной части ученых и священников, из коих некоторые при помощи докторской степени сделались вельможами. Их целью было приобретение той жалкой авторитетности, которую они сначала не осмеливались показывать, но затем по своей наглости стали дерзко и открыто проявлять, рассчитывая таким образом увеличить свою репутацию ученого и священника. И не удивительно, что вы видите многих и многих обладающих докторской степенью и священническим саном, кто более близок к стаду, скотному двору и конюшне, чем настоящие конюхи, козопасы и земледельцы».
Бруно с похвалой отзывался об ученых, которыми в старину славился Оксфорд. Несмотря на их варварский язык, они были по духу куда ближе древним философам, чем теперешние мудрецы с их Цицероновым красноречием. Утонченность ума всегда предпочтительней утонченности выражений. Есть, конечно, в Оксфорде достойнейшие ученые, но не они задают тон. По числу докторов оксфордцы действительно обогнали многих. Наука — наилучший путь, чтобы сделать дух человека героическим. Наука, а не почетные дипломы, не знаки отличия, не пустая риторика.
И в этих диалогах Бруно вывел педанта, одного из строгих цензоров философии, из тех, кто, написав изящное послание или выкроив красивый оборот, мнит себя Цицероном, а, промычав проповедь, титулует себя Демосфеном. О эти педанты, живущие небесной жизнью, закопавшись в свои лексиконы! Есть ли что-нибудь на свете важнее их занятий?
«Когда педант спесиво сходит со своей кафедры как человек, распоряжавшийся небесами, управлявший сенатами, командовавший войсками, переделывавший миры, то становится ясно, что если бы только не несправедливость времени, то он так же орудовал бы делами, как орудует мнениями. О времена, о нравы! Сколь редки те, кто понимает природу причастий, наречий, спряжений!»
В Шотландии Елизавету постигла новая неудача. Оплаченные ею мятежники потерпели поражение. В результате столь дорогой для казны затеи власть Якова только упрочилась. В своих донесениях двору Мовиссьер настойчиво советовал использовать затруднения англичан и немедленно оказать поддержку шотландскому королю. Ситуация, в которой очутилась Елизавета, была не из легких. Но тем энергичней повела она дело. Даже в Мадрид направила посла, чтобы разрядить напряжение, связанное с высылкой Мендосы, и попытаться начать переговоры, а Генриха III она и вовсе усыпила своими льстивыми письмами. Французам следовало проявить твердость, добиться освобождения Марии, помочь ее сыну. Из Парижа, однако, пришли инструкции, обескуражившие Мовиссьера. Выспренние слова прикрывали бездеятельность и малодушие. Король-де желает жить в добром согласии со всеми соседями и особенно с Елизаветой. Посла ставили в известность, что английские дипломаты больше не подстрекают гугенотов. Как это нужно понять? Не хлопотать впредь о вызволении пленницы?
Тревогам Мовиссьера не было конца. Яков сам обратился к Франции за помощью, предлагал возобновить старый союз и настоятельно просил денег — он должен иметь хоть какие-то средства, чтобы противодействовать английскому золоту! К этому предложению Генрих отнесся с крайним легкомыслием — распутство обходилось очень дорого! — шотландскому королю не прислал ни гроша, отделался обещаниями. Раздосадованный Яков стал внимательней слушать агентов Елизаветы. Недальновидность короля повергла Мовиссьера в уныние. Он годами, не жалея сил, старался, чтобы в Шотландии взяли верх люди, дружественные французам. И упустить такой случай!
Внезапная смерть герцога Ану и убийство в Нидерландах Вильгельма Оранского доставили Елизавете немало забот. Она опасалась усиления испанцев и поэтому еще усерднее обхаживала Генриха III. Королева, казалось, не знала, чем ему угодить, объявила, что пошлет во Францию Филиппа Сиднея, который вручит его величеству орден Подвязки. В эти дни Елизавета была подчеркнуто внимательна к Мовиссьеру, уверяла, что скоро позволит ему поехать в Шотландию и все уладить. Старый посол достаточно хорошо знал Елизавету. Она не скупилась на обещания, но никогда не торопилась их выполнять. От нее труднее было вытянуть самую малость золота, чем любое торжественное заверение. Искусством выигрывать время она владела в совершенстве. Пока Генрих III услаждал свой слух ее любезными письмами, она рассылала тайных эмиссаров. Как все-таки прибрать Шотландию к рукам? Ей предлагали одно из трех решений: привлечь на свою сторону Якова, примириться с Марией или снова подбить недовольных шотландцев на мятеж. Одно из трех? Заговорщиков Елизавета соблазняла властью, полунищего Якова — деньгами, узнице сулила свободу.
Провести Мовиссьера Елизавете так и не удалось. Он по-прежнему считал, что интересы его страны требуют возобновления франко-шотландского альянса. Позиция короля была ему известна. Но политик в Мовиссьере победил придворного. Не страшась монаршей опалы, он продолжал отстаивать свое мнение.
Приемы во дворце отличались пышностью и великолепием. Елизавета страсть как любила производить впечатление драгоценными нарядами, торжественностью церемониала, своими учеными речами. Образованная королева беседует с иноземными послами на их родном языке!
Мовиссьер брал Бруно с собою во дворец. Тот был о Елизавете высокого мнения. Когда другие страны страдали От жестоких распрей, на берегах Темзы было спокойно. После волнений, свидетелем которых Бруно был на родине и во Франции, Англия представлялась ему страною мира и порядка. И он вне всякой меры восхвалял Елизавету.
По-настоящему английской жизни Бруно не знал. Он находился здесь давно, но, ушедший с головой в напряженную работу над своими книгами, языка не изучил, посольство покидал не особенно часто, общался с ограниченным кругом лиц, многое знал только со слов Мовиссьера и Флорио. Наблюдательность ему не изменила, он смеялся над аристократами и злословил по адресу ничтожных, но влиятельных выскочек. Однако и к «толпе» Бруно относился с явной неприязнью. Его злили «бездельники» на улицах, «деревенские лодыри, забросившие пашни», и грубияны, поносящие иностранцев. Он увидел только варварство и невоспитанность там, где была трагедия.
Народ бедствовал. Предприниматели, устроив крупные мануфактуры с сотнями наемных рабочих, обрекли ремесленников на разорение. Лендлорды, прельстившись высокими ценами на шерсть, взялись вовсю хозяйствовать. Крестьян сгоняли с земли. Господа захватывали общинные угодья и превращали их в пастбища для овец. Толпы нищих ходили по дорогам. «Овцы, — с горечью говаривали в Англии, — пожирают людей!» Королевские указы немилосердно преследовали «бродяг».
Из различных стран в Англию прибывали эмигранты. Среди них было много искусных мастеров, их охотно использовали в мануфактурах. Кое-кому было выгодно, чтобы именно в чужестранцах видели корень всех зол. Их-де засилье и привело к тому, что бедный люд вконец обнищал!
Тревожные вести о планах папы и Филиппа II совершить вторжение на английскую землю еще больше раздували эту неприязнь. Все паписты, разумеется, заодно! Хотя Бруно и называл французское посольство надежным убежищем, таким оно было далеко не всегда. Летом, несмотря на жару, нельзя было открывать окон. Среди жителей Мясницкого ряда ненависть к чужестранцам иногда проявлялась весьма своеобразно: один из соседей, построив дом, нарочно так проложил стоки для нечистот, что Мовиссьеру и его домочадцам страшная вонь отравляла жизнь.
Когда с чьей-то легкой руки поползли слухи, будто приверженцам Марии Стюарт, замышляющим убийство королевы, помогают французы, перед посольством стали появляться возбужденные люди. Они забрасывали стены грязью и выкрикивали оскорбления. А однажды в полночь толпа вооруженных мечами и самострелами людей окружила посольство. Они принялись швырять камни и стрелять из арбалетов по окнам. Высадив двери, вломились в дом, ранили двух слуг, выбили глаз мальчику, который воспитывался у Мовиссьера, переломали мебель. Больная жена посла чуть не умерла со страха.
На следующее утро Мовиссьер направил Флорио к Уолсингему с резким протестом. Франции нанесено неслыханное оскорбление. Людям из посольства опасно выходить на улицу, им угрожают побоями и смертью. Если виновных тотчас же не накажут, он будет вынужден покинуть Англию.
Уолсингем приказал заточить в тюрьму нескольких смутьянов. Посвящать Бруно во все подробности ночного нападения Мовиссьер не счел нужным. Один из главных зачинщиков, служитель королевских конюшен, находился под началом Фулка Гривелла.
«Если бы я, — писал Бруно, — владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад или чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания, немногие наблюдали бы за мной, редко кто упрекал бы меня, и я легко мог бы угодить всем. Но я измеряю поле природы, стараюсь пасти души, мечтаю обработать ум и исследую навыки интеллекта — вот почему кто на меня смотрит, тот угрожает мне, кто наблюдает за мной — нападает на меня, кто догоняет — кусает меня, кто меня хватает — пожирает меня, и это не один или немногие, но многие и почти все».
Начальные строки вступительного письма, которым Бруно посвящал Мовиссьеру свою работу «О бесконечности, вселенной и мирах», были проникнуты чувством горечи. В Англии, как и в других странах, благородные побуждения Ноланца лишь создавали ему врагов. Чем настойчивее он отстаивал свои взгляды, тем резче на него нападали. Выход в свет диалогов «О причине, начале и едином» вовсе не способствовал тому, чтобы улеглась буря, вызванная «Пиром на пепле». Они только подлили масла в огонь. Ноланец продолжает упрямо защищать свои идеи! В погоне за славой софист-искуситель, опрокидывая здравые мысли, распространяет заблуждения. Он стремится отвратить людей от истинной веры и основать собственную секту поклонников ноланской философии. Его писания, плоды беспокойного ума — злейшее орудие разврата!
Враждебное отношение лишь закаляло его упорство. Ноланец знал, что того, кто в этом мире кровавых суеверий проповедует религию разума ждут не лавры, а скорее казнь. Обращаясь к Мовиссьеру, писал, что любовь к истине помогает преодолевать любые трудности: в узах он свободен, доволен в муках, богат в нужде. Поэтому он не сворачивает с трудного пути и не отступает перед неприятелем.
Новые диалоги были посвящены важнейшим разделам ноланской философии, учению о бесконечности вселенной и множественности миров. Раньше, уславливаясь с Фулком Гривеллом о диспуте, который был описан в «Пире на пепле», Джордано обещал разбить оппонентов, исходя из их собственных принципов. Аргументацию перипатетиков он находил неубедительной и брался показать, что, рассуждая о вселенной, Аристотель защищал принципы, противные принципам природы.
Оспаривая мысль о бесконечности вселенной, обычно прибегали к тем же аргументам, которыми прежде Аристотель пытался опровергнуть своих предшественников. Бруно не ограничился одним Стагиритом — он разобрал и отринул многие доводы его последователей.
Бруно подверг коренному пересмотру одну из основ философии Аристотеля, его учение о движении. «Все движущееся необходимо бывает движимо чем-то, — говорил Стагирит. — Ведь если оно не имеет начала движения в себе самом, ясно, что оно движимо другим». Аристотель отрицал возможность «самодвижения». Это заставило его уверовать в существование «перводвигателя», бога, который находится вне вселенной и движет ею.
Коперник нанес Аристотелю сокрушительный удар. В основе его теории лежала мысль о «самодвижении»: «Если предполагать вращение Земли, надо непременно признать, что это движение естественное, а не насильственное». Необходимость в перводвигателе отпадала.
Бруно сделал следующий шаг. Раз Земля, ничем извне не поддерживаемая и ничем не толкаемая, несется в пространстве лишь благодаря своему внутреннему жизненному началу, то мысль эта должна быть распространена и на другие небесные тела. Фиксированные звезды только из-за огромности расстояний кажутся нам неподвижными: среди них находятся бесчисленные солнца, вокруг которых вращаются земли. То, что люди их не видят, совершенно не означает, что их не существует. Бруно убежден, что будущие исследования обязательно подтвердят его точку зрения. Вероятно, вокруг Солнца движутся и другие планеты, которых мы не знаем [10].
Джордано не соглашается с противопоставлением неба земле как совершенного несовершенному, как нетленного — тленному. Здесь лазейка для россказней о греховной земле и райских небесах. Нет, Земля это только одна из бесчисленных звезд, находящихся в беспредельных просторах вселенной!
Люди давно заметили, что все на земле меняется, а на небе испокон веков видно одно и то же движение, один и тот же круговорот. Чем объяснить это поразительное постоянство? Аристотель создал учение о «пятой сущности». Эта «пятая сущность», «эфир», в противоположность четырем разложимым сущностям — земле, воде, воздуху и огню, из которых состоит все в подлунном мире, неизменна и нетленна. Вечным характером небесной материи и объясняется видимое движение неба, вечное, постоянное, всегда одинаковое.
Веру в «пятую сущность», веру, разделяемую чуть ли не всем светом, Бруно называет постыдной. Недаром она пришлась по вкусу многим христианским богословам. Эта «квинтэссенция» несовместима с учением о единстве вселенной. В нее можно было еще верить, когда Землю считали неподвижным центром мира. Но если Земля наряду с другими планетами вращается вокруг Солнца, если орбита ее так же неизменна, как и орбиты других планет, которые представлялись образцами вечного движения, и если кажущееся мировое движение объясняется не вращением сферы фиксированных звезд, а движением самой Земли, то рушится основа всех рассуждений о «пятой сущности».
Из «небесной материи», по мнению Аристотеля, состоят планеты и звезды. Бруно оспаривает это. Если Земля движется так же, как и планеты, раз нет принципиального различия между ними, то нет и оснований утверждать, что небесные тела состоят из какой-то иной материи. Материя вселенной едина.
«Эфир» — это не «пятая сущность». Бруно пишет, о бесконечном эфирном пространстве, в котором находятся неисчислимые миры. Они состоят из тех же основных элементов, что и Земля. Особенности же их зависят от того* что в них преобладает. Если преобладает огонь, то это Солнце, если же преобладает вода, то это. Земля, Луна и иные подобные им тела, которые светятся отраженным светом.
Бруно, как и Николай Кузанский, был убежден, что Луна и другие небесные тела обитаемы. Их жителям тоже кажется, что именно их мир — неподвижный центр вселенной, вокруг которого вращается все. Но раз и другие миры населены, то почему не общаются их жители? Боги поступили бы очень плохо, если бы лишили обитателей различных миров возможности поддерживать сношения. Не доказывает ли это, что иных миров вообще не существует? Бруно отвергает такое возражение. Надобности в общении с иными мирами он не видит. Ноланец настроен пессимистично. Он слишком хорошо знает, во что обошлась человечеству страсть колонизировать новые земли: «Опыт показывает нам, что для обитателей этого мира оказалось лучше всего то, что природа разделила народы морями и горами; когда же благодаря человеческому искусству были установлены сношения, это оказалось скорее злом, чем благом, так как из-за этого пороки приумножились гораздо сильнее, чем добродетели».
Аристотель утверждал, что бесконечного движения не существует. «Вполне возможно, — писал Бруно, — что всякое движение конечно (говоря о настоящем движении, но не в абсолютном и простом смысле слова, о движении всех частей и в целом), но что миров бесконечное множество, причем каждый из этих бесчисленных миров конечен и имеет конечную область, каждый из них имеет определенные пределы как для своего движения, так и для движения своих частей».
Однако Джордано тут же указывал, что если говорить о движении в абсолютном смысле слова, то оно бесконечно, — бесконечное движение в бесконечной вселенной. Залог вечных превращений материи в вечном движении атомов. «Атомы имеют бесконечное движение, занимая последовательно различные места в различное время, притекая к одному месту и вытекая из другого, присоединяясь к тому или другому составу, образуя различные конфигурации в безмерном пространстве вселенной, и таким образом совершают бесконечное местное движение, пробегают бесконечное пространство и претерпевают бесконечные изменения».
В Англии у Бруно были не одни противники. Его мысли увлекли ряд оксфордских и лондонских ученых. Среди людей, которые соглашались с Ноланцем, были как сторонники Коперниковой теории, так и ее недавние враги. Случалось, человек, убежденный в незыблемости прежних представлений о мире, начинал под влиянием Бруно склоняться к новым идеям. Возражения Бруно «князю перипатетиков» приносили свои плоды. Кое-кто из пылких приверженцев Аристотеля, к ужасу своему убеждаясь в шаткости его положений, принимался доискиваться истины. Это и значило пробуждать дремлющие души!

Мишель де Мовиссьер.

Джованни Флорио.

Фулк Гривелл.
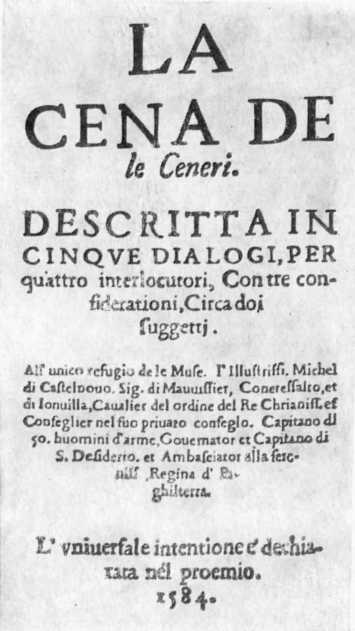
Титульный лист первого издания «Пира на пепле».
В последнем из пяти диалогов «О бесконечности, вселенной и мирах» Бруно вывел на сцену еще одного собеседника — Альбертино. Искушенный во всех тонкостях Стагирита, он вначале и слышать ничего не хочет о множественности миров. Только, мол, безумец может городить подобную ерунду! Горячность делу не поможет. Альбертино непростительно, как иным невеждам, следовать без оглядки за проповедниками вульгарной философии. Он, умный и знающий, обязан делать различие между тем, что основано на вере, и тем, что установлено на основе истинных принципов!
«Кто хочет правильно рассуждать, должен уметь освободиться от привычки принимать все на веру, должен считать равно возможными противоположные мнения и отказаться от предубеждений…»
Постепенно доводы Филотея — под этим именем в диалогах выступает сам Бруно — покоряют Альбертино. Книга заканчивается красноречивым признанием: «Впредь, Филотей, ни глас толпы, ни возмущение черни, ни ропот глупцов, ни презрение сатрапов, ни глупость сумасшедших, ни безумие безрассудных, ни доносы лжецов, ни. жалобы злобствующих, ни клеветы завистников не опорочат передо мной твой благородный лик и не заставят меня избе-гать твоего общества. Будь настойчив, мой Филотей, будь настойчив, не падай духом, не отступай, даже если великий и суровый сенат тупого невежества разнообразными кознями и уловками будет тебе угрожать и попытается погубить твое божественное начинание и высокий труд. Будь уверен, что в конце концов все увидят то, что теперь вижу я.
«Пир на пепле», столь нашумевшая книжка, раскупалась вовсю. Издатель согласился печатать еще тираж. Гонения не сделали Бруно благоразумным.
Перед тем как снова отдать печатнику свои диалоги, он перечел их е пером в руке. Внес ряд малозначительных поправок, даже резкости, породившие наибольшее возмущение, оставил в прежнем виде.
Недавно скончался Читолини. Старик так и не встал после перенесенных побоев. Тяжелый перелом руки свел его в могилу. Описанная в «Пире» сценка, где фигурировал Читолини, приобретала иное звучание. Теперь и мрачные шутки были совсем неуместны. Так ли поминают изгнанника, умершего на чужбине? Джордано не хотел вычеркивать эту сцену, столь характерную для необузданных лондонских нравов. Он сохранил ее целиком. Только убрал имя Читолини, а сломанную руку, чтобы избежать ассоциаций с истинным происшествием, заменил сломанной ногой.
Над страничкой, описывающей бродяг и бездомных, Бруно задумался. Отчаявшиеся люди день за днем проводят в напрасном ожидании работы. Он их встречал повсюду. В Лондоне под колоннами Биржи или у дверей собора, в Париже их сколько угодно у входа во дворец, в Венеции — на Риальто, в Неаполе они сидят на ступенях церкви святого Павла, в Риме толкутся на Кампо ди Фьори. Кампо ди Фьори! Разве этим славится страшная» площадь с нежным названием «Поле цветов»? Здесь происходят зловещие церемонии. Как бы ярко ни светило солнце, в руках у монахов факелы. Тягуче звучат погребальные молитвы. Здесь жгут еретиков.
…Если придется Ноланцу умирать в католической римской земле, то шагай он и среди бела дня, в сопровождающих факельщиках не будет недостатка…
Из перечисления мест, где собираются бродяги и безработные, Бруно вычеркнул Кампо ди Фьори.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава пятая. Буря и натиск ноября 1926 года
Глава пятая. Буря и натиск ноября 1926 года Глава пятая, где страница за страницей исследуется первая часть «Тихого Дона», появившаяся из-под пера Михаила Шолохова, начиная с 8 ноября 1926 года, о чем свидетельствуют пометки на полях рукописи. Устанавливается, благодаря этому,
Глава 35 Буря перед бурей
Глава 35 Буря перед бурей Апрель 1997Трудно поверить, но спустя девять месяцев после того, как моя яхта пошла ко дну, я медленно, но верно продолжал жить как жил. В своем стремлении разрушить свою жизнь мне удалось придумать хитроумный способ — и довольно логичный, нужно
Глава 35 Буря перед бурей
Глава 35 Буря перед бурей Апрель 1997 Трудно поверить, но спустя девять месяцев после того, как моя яхта пошла ко дну, я медленно, но верно продолжал жить как жил. В своем стремлении разрушить свою жизнь мне удалось придумать хитроумный способ – и довольно
ГЛАВА 51. БУРЯ В ОТУЗАХ
ГЛАВА 51. БУРЯ В ОТУЗАХ Поздним летом 1914 года, перед самым объявлением войны, я жила в береговых Отузах. Дачи Отуз были ниже, на берегу. Дни стояли жаркие, мирные. На склоне тихого золотого дня, уложивши сына, я с няней собиралась ужинать. С дачи Сибора таяли длинные звуки
Глава третья.Буря и свет
Глава третья.Буря и свет Вижу я, милый, что ты не худой человек, не ничтожный, Если тебе, молодому такому, сопутствуют боги. «Одиссея», III. 375 Едва вступив на корабль, Шлиман спросил капитана, в чем состоят его обязанности каютного юнги. Но капитан только махнул рукой. Или,
Глава III Буря Белинского
Глава III Буря Белинского «Самая восхитительная минута…»После десяти месяцев напряженной работы повесть была готова.«Раз утром, — вспоминал Григорович, живший в то время с Федором Михайловичем на одной квартире, — Достоевский зовет меня в свою комнату; перед ним, на
Глава 13. БУРЯ В ПРОЛИВЕ
Глава 13. БУРЯ В ПРОЛИВЕ
Глава VI Буря! Скоро грянет буря!
Глава VI Буря! Скоро грянет буря! Известно, что, когда долго ждешь чего-либо, самые томительные, самые тягучие часы и минуты — последние.И другое. В битве все очерчено ясно: там — враг, здесь — свои, единомышленники. Цель определена давно, силы накоплены, нужен только сигнал.
Глава 72. «Буря», написанная к свадьбе принцессы Елизаветы
Глава 72. «Буря», написанная к свадьбе принцессы Елизаветы Совсем не то видим мы в произведении, для которого Шекспир в последний раз напрягает свои духовные силы, в фантастической и роскошной сказке «Буря». Здесь все сосредоточено и замкнуто, все до такой степени
Глава 22 БУРЯ И НАТИСК
Глава 22 БУРЯ И НАТИСК Когда начиналась битва, трудно было решить, где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных трупа. В. Шульгин. Три столицы Николай Гумилёв возвратился в Петроград из Лондона в конце апреля 1918 года. 13 мая он уже участвовал в
Глава 16 БУРЯ
Глава 16 БУРЯ 29 октября 1957 года, во время дебатов в Кнессете, невысокий темноволосый молодой человек, стоявший на балконе для зрителей, бросает что-то в направлении стола, вокруг которого сидят члены правительства. Этот предмет, оказавшийся гранатой, падает рядом со стулом
Глава 10. БУРЯ ЕЩЕ ЗА ОКНОМ
Глава 10. БУРЯ ЕЩЕ ЗА ОКНОМ Хочется еще немного побыть дома, вспомнить, каким он был. В большой комнате у нас была столовая, и там стоял круглый стол. На диване около него я спала. Над столом висела лампа, вместо абажура тогда были модными шали с бахромой, и у нас висела такая
Глава 13 Буря и её последствия
Глава 13 Буря и её последствия На самом деле всё произошло гораздо быстрее, чем я вам рассказываю. Казначей Королевского фузилерного полка Генри Диксон I Прибывший 11 ноября в Балаклаву к новому месту службы в 46-м полку офицер обнаружил, что армия «погружена во мрак». Вновь
Глава 9 БУРЯ ЕЩЕ ЗА ОКНОМ
Глава 9 БУРЯ ЕЩЕ ЗА ОКНОМ Хочется еще немного побыть дома, вспомнить, каким он был. В большой комнате у нас была столовая, и там стоял круглый стол. На диване около него я спала. Над столом висела лампа, вместо абажура тогда были модными шали с бахромой, и у нас висела такая
Глава 7. Буря в чашке чая
Глава 7. Буря в чашке чая После первого появления на публике Леди Гага часто задумывалась о природе славы. В конце концов она решила провести своеобразный эксперимент, призванный доказать всю абсурдность славы как таковой. Думала она об этом и в апреле 2009 года, когда, к