ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ СИНЬОР МОЧЕНИГО ЖАЖДЕТ СЕКРЕТОВ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
СИНЬОР МОЧЕНИГО ЖАЖДЕТ СЕКРЕТОВ
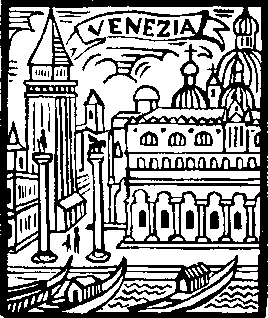
Осенью 1591 года Бруно приехал в Венецию. Дом своего будущего ученика он нашел без затруднений. Его род принадлежал к старинной венецианской знати, и, хотя Мочениго владели четырьмя внушительными зданиями, любой гондольер мог показать на Большом канале старый палаццо, где жил синьор Джованни, младший сын светлейшего Марко Антонио.
С радостью встретил Мочениго гостя: он счастлив, что тот, наконец, приехал! Он говорил горячо и много, признавался, что жаждет побыстрей постичь все тайны Джордановых книг. Самоуверенный и порывистый, он хотел произвести на Бруно наилучшее впечатление. Но в речах его и повадках что-то настораживало. Бруно вежливо отклонил предложение Мочениго сразу поселиться в его доме, сказал, что снимет себе комнату. Лекции же начнутся, как только синьор Джованни изъявит желание.
Мочениго оказался трудным учеником. Он думал с наскока овладеть Луллиевым искусством и был разочарован, когда понял, что это требует большого труда и длительных упражнений. Он никак не мог взять в толк, что сперва должен прослушать основы ноланской философии, а потом пускаться в споры. Начинал с апломбом говорить о вещах, в которых ничего не смыслил. Бруно часто приходилось его осаживать.
Иероним остался в Падуе. Падуанский университет был одним из самых знаменитых в Европе. Иероним мечтал продолжить там свое образование.
Бруно предупредил Мочениго, что собирается некоторое время провести в Падуе. Тот высказал свое недовольство. Но Бруно удалось его уверить, что их занятия не пострадают. Он будет достаточно часто приезжать в Венецию.
С Иеронимом, как всегда, работалось очень хорошо. Внимательный, понимающий, трудолюбивый; он не заставлял дважды повторять ту же фразу и поспевал за Ноланцем, как бы быстро тот ни диктовал.
Иероним переписывал начисто обширный трактат, законченный еще в Германии, — «Светильник тридцати статуй». Мир познаваемого был поделен на тридцать разделов. Основная идея каждого раздела была воплощена в аллегорической фигуре, «статуе». В этой работе Бруно видел определенный итог своих занятий логикой и Луллиевым искусством.
В Падуе Бруно нашел учеников, которым стал частным порядком читать лекции. Здесь было много иностранных студентов, особенно немцев. Они, чувствовали себя тут вольготно, блюли свои традиции, основывали собственные библиотеки, братства взаимопомощи, кассы. В католической Падуе открыто держались они своих протестантских убеждений. С каждым годом наплыв немцев становился все больше. Церковники забили тревогу. Если так будет продолжаться, еретики-лютеране заполонят весь город и истинная вера потерпит непоправимый ущерб. Но правительство Венецианской республики одернуло слишком ярых ревнителей веры. Студенты-чужестранцы расплачиваются золотом, а если их поприжать, то в первую голову пострадает казна и Падуя захиреет.
Среди немцев были люди, которые еще в Германии слышали о Ноланце. С удивлением узнали они, «то Джордано в Падуе. Он не побоялся вернуться в Италию!
Джордано, как обещал, часто ездил в Венецию. Мочениго всячески выказывал ему свое благоволение, делал подарки, предлагал деньги, звал поселиться в его доме. Он был упрям и никак не хотел понять, почему Бруно должен сочинять свои труды непременно в Падуе. Здесь тоже, слава богу, можно нанять целую толпу писцов! Редкие книги? В Венеции книжные лавки на каждом шагу. Пора синьору Бруно прекратить эти скитания. Ведь его приглашали сюда не для того, чтобы он большую часть времени проводил в Падуе.
Вокруг святого престола бушевали страсти. Долго усидеть на нем никому последнее время не удавалось. То ли папская тиара была слишком тяжела для немощных стариков, которым хитрые кардиналы отдавали предпочтение, то ли их лекари слишком решительно вмешивались в политику, но пап приходилось избирать часто. Когда Бруно приехал во Франкфурт, был еще жив Сикст V. Его преемник, Урбан VII, носил тиару только две недели. Григорий XIV был папой меньше года, Иннокентий IX — два месяца.
После его смерти конклав превратился в место ожесточенных схваток. Отцы кардиналы не постеснялись пуститься врукопашную. Противники оказались несколько помятыми, но святое дело восторжествовало. Сильнейшая партия одержала победу. 30 января 1592 года римским первосвященником стал Ипполито Альдобрандини, назвавшийся Климентом VIII.
Занятия Иеронима в Падуанском университете прервались самым неожиданным образом. Внезапно скончался его дядя, и дела, связанные с вступлением в наследство, требовали возвращения на родину. Беслер уехал. Курс, который Джордано читал немецким студентам, подошел к концу. Мочениго настойчиво звал его обратно. В Падуе Бруно провел осень и часть зимы. В начале 1592 года он окончательно перебрался в Венецию.
На этот раз он уступил уговорам Мочениго и поселился в его доме. Похвастаться успехами в науках синьор Джованни не мог. Отвлеченные идеи интересовали его мало. Конечна вселенная или бесконечна — не все ли равно? Что от этого изменится в «подлунном мире»? Единственно, что его поражало— это та свобода, с которой Ноланец излагал свои взгляды: словно для него не существовало ни библии, ни учений церкви! Вселенная беспредельна, миры неисчислимы? Мочениго не разбирался ни в астрономии, ни в философии, но упрямо ссылался на писание — мир создан богом, один-единственный мир.
— Так что же, — спрашивал Бруно, — мессер Джованни не верит во всемогущество господне? Разве всесильный бог в состоянии создать лишь один-единственный мир? Господь, как сказано, хочет все, что может, а может он все, может творить бесконечно, следовательно, и может, и хочет, и творит. Вот он постоянно и создает неисчислимые миры. Да и чем ему еще заниматься? Если бы мира не существовало, то и бог был бы ничем. Поэтому господь только и делает, что создает новые Миры! Один за другим — и так бесконечно!
Синьор Джованни очумело тряс головой. Иногда ему казалось, что Ноланец нарочно излагает вещи, которых он не может понять. Он просит разъяснений. Бруно дает ему одну из своих книг. Мочениго читает страницу за страницей. Мифологические имена, странные аллегории. При чем тут вообще все эти звери? Что значит заглавие «Песнь Цирцеи»? Почему здесь так много говорится об обезьянах и свинье? Мочениго думал найти совсем иное. Книгу в красной обложке он разочарованно возвращает учителю.
Неужели он ничего не понял? — удивляется Бруно. Он намеренно придал книге такое освещение. Читать ее надо очень внимательно. Пусть-ка Мочениго вникнет в смысл наипочтительнейших эпитетов, которыми награждена свинья, и ему станет ясно, что речь идет о римском первосвященнике. Он, Бруно, преследовал цель представить в сатирических образах всю церковную иерархию, от свиньи-папы до обезьян-монахов.
— Вы дурно поступили, — вздохнул Мочениго, — сделав свои книги столь темными.
Бруно от души расхохотался.
Лекций о христианских догмах он не читал, специально не заводил разговора о религии, но, беседуя на различные темы, постоянно как бы невзначай бросал ту или иную крамольную мысль. Делал это легко, мимоходом, часто со смехом и шуткой. Но в речах его всегда сквозила убежденность. Разве он совершенно чужд христианской вере? На его опасные суждения Мочениго смотрел сквозь пальцы. Ясно, что человек, сведущий в запретных науках, не образцовый христианин. Но неужели, он и внешне не блюдет христианских обрядов? Он опять не был в церкви? Мочениго пристал к нему с расспросами. Почему он пропускает обедню?
— Обедню! Обедню! — воскликнул Бруно. — Какое мне дело до ваших служб? Моя обедня — в искусстве любви!
Он не строил из себя аскета, признавался, что любит женщин. Грех? Если кто и совершает великий грех, так это сама церковь, которая объявляет греховным то, что прекрасно служит природе.
Джордано настроен был весело. Вовсе не за грех считает он близость с женщиной. Да, он очень любит женщин, хотя ему далеко еще до Соломона!
Слова Бруно произвели на Мочениго сильное впечатление. Ноланец вспоминает Соломона! Подумать только! А ведь он не царь иудейский с его властью и несметными сокровищами — нищий учитель философии.
Скрытностью Ноланец не отличался, часто пускался в откровенность, много рассказывал о прошлом, о пребывании в Париже и Лондоне. Хвалил
Елизавету, вспоминал жизнь в Германии, Когда речь шла о сторонниках реформации, не щадил ни Лютера, ни Кальвина. Мочениго удивлялся:
— Разве вы не кальвинист? Так какой же вы веры?
— Я враг всякой веры!
И он, смеясь, рассказал о гадании по книге Ариосто. Как строфа, выдавшая по жребию точно соответствовала его натуре! Очень просто говорил Бруно о вещах, о коих другим и думать-то было страшно. Он не выносит ш одной религии. Верить в то, что противоречит разуму и не существует в природе? Воплощение слова, непорочное зачатие, девственность богоматери! Есть ли большая глупость, чем думать, будто хлеб во время причастия превращается в тело господне? А может ли быть большее кощунство, чем то, которое совершают католики, когда поедают плоть господа и, упиваются его кровью?!
… То и дело позволял он себе выпады против Христа. Однажды, когда Мочениго шел в церковь, Джордано заговорил о чудотворцах. Ему известно, с помощью какого искусства Христос являл чудеса. Он был магом и обманщиком. В том, что он предсказал собственную смерть, нет ничего удивительного. Он слишком долго совращал народ, чтобы избежать расплаты за свои злодейства. Ему не надо было быть провидцем — он знал, что его наверняка повесят!
Синьор Мочениго терпеливо сносил все кощунственные суждения Ноланца. Он давно понял, что его учитель завзятый еретик. Но ведь он жаждал от него не наставлений в благочестии.
Бруно готов был говорить с ним на любые темы, но заниматься оккультной философией упрямо отказывался. А сам часами сидел над таинственными рукописями! Мочениго был убежден, что Ноланец хитрит. В отсутствие Бруно прокрадывался к нему в комнату, рылся в бумагах, жадно читал. Вот переписанная Иеронимом Беслером копия запрещенного сочинения «О печатях Гермеса». Наверное, это и есть сокровенная книжица заклинаний! Мочениго мало что понял. Его неприязнь к Бруно росла. Тот знает секреты, как повелевать сверхъестественными силами, но упорно не хочет их открыть. Ведь неспроста похвалялся он своими способностями. Недавно он был очень доволен: «О мессер Джованни, когда я закончу некоторые свои исследования, мир признает меня!»
Что он имел в виду? Другой раз он сказал, что торопится завершить и выпустить в свет свои сочинения, чтобы добиться влияния. Когда настанет время, люди пойдут за ним.
Мочениго верил в его могущество. Ноланец создаст секту, которая будет называться «Новая философия»? Хитрит! Никакой философией, новой ли, старой ли, влияния не добьешься и мир за собой не поведешь. Конечно, не с помощью рассуждений о множественности миров станет он предводителем и приберет к рукам чужие богатства. Раз он строит такие планы, значит надеется в скором времени благодаря магическому искусству господствовать над вещами и над людьми.
Однажды Мочениго не выдержал. Пора браться за главное, а Бруно обращается с ним как с бездарным школяром и принуждает заниматься логикой и мнемоникой.
Джордано резко его оборвал. Он делает то, что находит нужным. Мочениго захотел обучаться у него «искусству изобретения». Или он писал о чем-либо другом, когда звал его в Венецию? Если он недоволен преподаванием, то это легко изменить. Пусть он поищет себе других наставников.
Мочениго испугался. Нет, нет, он совсем такого не хочет! От упреков перешел к просьбам, льстил, угодливо улыбался, бог весть чего не сулил. Но почему бы учителю не поделиться частью своих секретов с человеком, на преданность и благодарность которого он может вполне рассчитывать? Мочениго уже тридцать четыре года. Ему не терпится постичь тайны сверхъестественного. Ведь каждому, кто знает Ноланца, ясно, что он проник в самую сокровенную природу вещей, что в его руках ключ к великому могуществу!
Но Джордано не поддается ни на страстные призывы Мочениго, ни на лесть. Существуют знания, которые легко обратить во вред людям. Поэтому обладать ими должны только те, кто нравственно чист несправедлив, кто дает себе отчет во всех допустимых и недопустимых последствиях применения таких знаний. Некоторые науки, как меч, благотворны в руках достойного человека и опасны в руках бесчестного.
О нравственном облике своего покровителя Ноланец невысокого мнения. Учить его он будет только тому, чему обязался.
Он, выходит, останется в дураках! Как добиться от Бруно желаемого? Синьор Джованни полон сомнений. А тут еще духовник со своими советами. Тот давно уже приглядывался к Ноланцу, говорил с женой Мочениго, расспрашивал слуг. Он знает обо всем, что творится в доме. Как вел себя Бруно, когда мальчишка-слуга чем-то его рассердил? Он изрыгал чудовищные проклятия и показывал кукиш. Кому? Небу! Долго еще будут пригревать здесь этого богохульника? Исповедник настойчиво советует своему духовному сыну донести на Ноланца Святой службе.
Неужели он, Мочениго, попал впросак? С головой залез в опасную затею без всяких гарантий успеха! Выбросил на ветер деньги да еще и рискует навлечь на себя подозрения в укрывательстве еретика? Может быть, Ноланец вообще ни с кем не делится своими секретами? Как он показал себя в Германии?
Чотто собирался на ярмарку во Франкфурт. Мочениго обратился к нему с просьбой. Он его очень обяжет, если хорошенько разузнает, что думают о Бруно немцы.
С нетерпением ждал он возвращения Чотто. Как только тот приехал, пошел к нему в лавку. Рассказ книготорговца его расстроил. И в Германии нашлись люди, которые ждали от Бруно большего, чем он давал. Они обманулись в своих надеждах! Думали овладеть важными секретами, а получили одну философию. Какая ему, Мочениго, корысть с того, что во Франкфурте все хвалят таланты Ноланца!
Хорошо духовнику советовать: выдай, мол, еретика Святой службе! Но разве может он позволить себе такую роскошь, когда столько потратил на Бруно. Засадить в тюрьму нечестивца он всегда успеет, но тогда плакали его денежки! Нет, он прежде испытает все средства. Так легко он от своего не отступит. Если не уговорами, то силой, но он заставит Ноланца открыть ему секреты!
Он не подавал и виду, что затаил в сердце злой умысел, подкупал Бруно знаками внимания, удвоил любезность, был щедр на обещания. Бруно не замечал притворства. Занятия с Мочениго отнимали у него мало времени, большую часть дня он сидел над своими рукописями, а когда уставал, то бродил по городу и наведывался в книжные лавки.
Однажды Чотто передал ему приглашение: Андреа Морозини, знатный вельможа, видный ученый, историк и политик, просил его прийти. Образованнейшие люди Венеции сходились у Морозини. Собрания, где обсуждали разнообразные научные и литературные темы, прослыли на всю Италию. Чотто согласился сопровождать Бруно. Их встретили очень хорошо. С тех пор Джордано часто по вечерам направлялся в приход святого Луки, в красивый дом на Большом канале.
Они с Мочениго не избегали бесед и о политике. Бруно хвалил Венецианскую республику, но выражал недоумение, как это она при всей своей мудрости позволяет монашеским орденам сохранять в своих руках такие огромные богатства. Ныне в монахи идут одни ослы. Поэтому разрешать им пользоваться такими богатствами непростительный грех. Надо сделать так, как во Франции, где доходами монастырей пользуются дворяне, а монахи сидят на похлебке. Пора прекратить их дурацкие диспуты.
Ноланец сурово порицал политику церкви… Она не держится тех установлений, которые сама провозгласила. Апостолы обращали язычников в христианство проповедью и примером добродетельной жизни. А теперь действуют не любовью, а насилием. Кругом царит невежество, нет ни одной сколько-нибудь стоящей религии. Кальвинистская вера еще хуже, чем католическая. Но и католичество нуждается в коренном исправлении. Мир погряз в величайшей порче. Так дальше продолжаться не может, скоро настанут решительные перемены.
Бруно возлагал большие надежды на Генриха Наваррского. Хотя тот не мог похвастаться особыми успехами, Джордано тем не менее высказывал уверенность, что Генрих в недалеком будущем одолеет врагов, умиротворит и объединит Францию. Эта победа окажет огромное влияние и на другие страны. Католичеству будет нанесен сокрушительный удар. Папство будет вынуждено и в Италии Отказаться от религиозного террора. Ноланец вернется тогда на родину, сможет жить и говорить свободно!
Как проявит себя недавно избранный папа? Повсюду велись разговоры о том, что на пороге — значительные перемены к лучшему. И в старом палаццо Мочениго, и в кружке Морозини, и в книжных лавках Джордано постоянно слышал: Ипполито Альдобрандини неспроста принял имя Климента — «милостивого».
Его понтификат будет отличаться мягкостью? Но ведь и противник Альдобрандини, кардинал Сан-северина, чуть было не выбранный папой, тоже хотел назваться Климентом. А насчет милостей, которые бы он, один из столпов Святой службы, уготовил пастве, сомневаться не приходилось.
Слухи о покровительстве нового папы ученым становились все настойчивее. Климент намерен собрать вокруг себя прославленных философов и писателей! Он так любит талантливых людей, что готов даже смотреть сквозь пальцы на некоторое вольномыслие.
Благодатная тема для острословов! Но вдруг по всей Италии разнеслась поразительная новость. Климент зовет к себе Франческо Патрици! Какие доказательства еще нужны маловерам и скептикам? Приехав в Венецию, Патрици подтвердил, что папа приглашает его в Рим читать лекции. Философ, за которым давно упрочилась недобрая слава, всенародно обласкан его святейшеством! Папа в самом деле очень ценит одаренных людей.
Этому настроению поддался и Бруно. Он позволял себе весьма резко отзываться о работах Патрици, но лучше других видел, насколько его идеи расходятся с учением церкви. Он-то ведь знает, что Патрици философ и ни во что не верует! Бруно даже поспорил с Мочениго. Тот с обычным апломбом утверждал, что Патрици добрый католик. Для Мочениго это простительно: он ничего не смыслит в философии.
История с Патрици открывала неожиданные перспективы. Климент настолько подвержен новым веяниям, что благоволит к Патрици! Может быть, и ему, Бруно, позволительно рассчитывать на благосклонность Климента? От одной мысли о возвращении на родину неистово колотилось сердце. Ведь все, что он делал, он делал лишь из любви к истине. Если папа действительно человек широких взглядов, то он должен подходить к ученым с иной меркой, чем ослы из Святой службы. Будущее представлялось Бруно в радужном свете. Ему не приходило в голову, что его загонят обратно в монастырь. С кельей он распрощался навсегда. Вымаливать милостей он не будет. Для него неприемлем обычный способ заслужить прощение. Да, он всей душой стремится на родину, но он явится туда не как беглый монах и покаявшийся отступник, а как философ, за которым признано право жить и рассуждать свободно. Он напишет книгу и представит ее папе. Если Климент таков, как о нем теперь многие говорят, он не преминет воздать ему должное и окажет покровительство. Разве не порука тому пример Патрици!
Гнилая зима пришла к концу. Над зеленоватыми лагунами сверкало весеннее солнце. Весна — пора надежд. Розовых надежд. Призрачных надежд.
Джордано посещает книжные лавки, бывает у Чотто, заглядывает к Бертано. Здесь делятся новостями, говорят о литературе, о политических памфлетах и стихах, о научных открытиях и модных фарсах. Джордано любит эти беседы у полок с фолиантами. Правда, они частенько выливаются в ожесточенный спор. Хуже всего, когда речь касается религии. В пылу диспута Бруно даже перед незнакомыми людьми высказывает мысли, весьма небезразличные для Святой службы.
Однажды в лавке несколько священников рассуждают об еретиках. Все осужденные церковью учения созданы глупцами! Арий, Савелий и прочие ересиархи — круглые невежды. Чего только не городили они о троице и ипостасях! Священники мнят себя искусными богословами и пренебрежительно отзываются об Арии. Джордано ввязывается в спор. Чтобы осуждать Ария, надо по крайней мере знать, в чем состоит его учение. Ему приписывают вещи, которых он никогда не утверждал. Не из невежества отрицал Арий единосущность троицы.
Бруно разошелся. Его не Останавливают ни возмущенные реплики противников, ни предостерегающие жесты книготорговца. Негодующие рясники покидают лавку. Так рассуждать может только враг святой веры! Он усомнился в воплощении господнем и догмате о троице!
Хозяин не на шутку встревожен. Разве синьор забыл, что и в Венеции не дремлет Святая служба?
На капитул доминиканского ордена в Венецию со всех сторон съезжались монахи. Среди прибывших находилась и большая группа доминиканцев из Неаполитанского королевства. Джордано встретил много знакомых. С некоторыми он вместе учился, бродил по Неаполю, когда удавалось вырваться из монастыря, проказничал, надувал настоятеля. Товарищи не могли похвалиться везеньем. Один едва выпутался из затеянного инквизицией дела, другой отбыл пять лет на галерах, поплатившись за буйный нрав и любовные похождения. Особенно приятно было Джордано увидеть одного из своих учителей — Доменико да Ночера. Бруно жадно расспрашивал о том, что творится в родных местах, говорил о своей тоске по Неаполю, мечтал снова повидать Везувий, поехать в Нолу. Так ли уж несбыточны его замыслы? Даже теперь, когда с новым папой связывают столько надежд? Теперь, когда Климент приближает к себе ученых и покровительствует Патрици?
То, что ему рассказывают, заставляет его насторожиться. Еще неизвестно, как обернется для Патрици это приглашение в Рим. По крайней мере в Неаполитанском королевстве никаких действительных улучшений не замечено. Сейчас много шумят о Патрици и превозносят мудрость Климента. А ведь совсем недавно в Риме с их именитым земляком обошлись куда как сурово. Самому Джамбаттисте делла Порта под страхом отлучения от церкви и штрафа в пятьсот дукатов было запрещено публиковать свои книги. Кое-что прояснится на нынешнем капитуле. Генерал ордена, энергичный и осторожный, превосходно знает истинные настроения папы. Он всегда держит нос по ветру. На капитуле будут обсуждаться задачи, стоящие перед орденом. По тому, как сформулируют основные направления его политики, станет ясно, что на пороге времена послаблений или эра строгости.
На троицу, 17 мая, открывая заседания капитула, генерал ордена фра Ипполито Мария Беккариа, полный сил пятидесятилетний интриган и честолюбец, бывший верховный комиссарий инквизиции, произнес многозначительную речь. Он не пошел по проторенной дорожке своих предшественников и не сделал главного упора на разгул еретиков-протестантов, хозяйничающих в доброй половине Европы, не стал живописать ущерба, который католическая церковь терпела от гугенотских чудовищ. Его основная забота, сказал Беккариа, — плачевное состояние доминиканского ордена. Их орден издавна был надежнейшей опорой римского первосвященника в борьбе с врагами веры. Братья проповедники имеют неоценимые заслуги. Раньше ими гордилась церковь, их благочестием, воинственным духом, ученостью, строгостью нравов. А теперь орден изнемогает от страшнейших недугов — в кровавых язвах все его тело.
— Что еще остается, — со зловещим пафосом воскликнул Беккариа, — как не прибегнуть тотчас же к целительным средствам? А это те же средства, что и у опытного хирурга, который лечит тяжелейшие раны и спасает умирающих от верной смерти, — он пускает в ход железо и огонь!
Железо и огонь! В ученых кругах болтают о мягкости нового папы, а доминиканцы на своем сборище провозглашают необходимость крайних средств. Побольше кандалов и узилищ, побольше тюремных решеток, побольше секир и удавок, побольше костров! И он, Бруно, всегда столь отчетливо видевший звериный оскал римского волка, на какое-то время поддался чуждым ему настроениям и готов был поверить, что сможет, не отрекаясь от самого себя, вернуться на родину и жить свободно! Какая непростительная глупость! Нет, не видать ему больше Неаполя. А если случится быть в Риме, то не йо доброй воле.
Перед глазами снова, как в Лондоне, когда он писал «Пир на пепле», вдруг запылал костер на Кампо ди Фьори, а в ушах зазвучали странные слова о десятках факельщиков, которые будут сопровождать Ноланца, шагай он даже среди бела дня, коль придется ему умирать в католической римской земле…
Нет, он не хочет дышать одним воздухом с тюремщиками, что вырядились в рясы и, вознося молитвы господу, жгут инакомыслящих! Он никогда не примирится с торжествующим невежеством, никогда не согласится, подчинившись силе, молчать или пресмыкаться. Горек хлеб изгнания и тяжелы чужие лестницы, но еще горше покорность и рабское молчание. Он больше здесь не останется. Он бежит. Бежит, пока еще не поздно!
Куда? В Германию? В Англию? В Цюрих? Прежде всего он думает о Франкфурте. Там ему есть где остановиться и где найти заработок. Он должен нет медленно уезжать. Он, конечно, не станет объяснять Мочениго истинных мотивов отъезда. Да и какое тому дело до его планов! Он поставит его в известность о своем намерении и попросит считать свою службу у него оконченной. Джордано убежден, что со стороны Мочениго не встретит никаких препятствий. Ему и в голову не приходит уехать тайком.
Ноланец собирается в дорогу! Куда? Зачем? Мочениго разбушевался. Как же это? Он собирается уехать! Сколько на него потрачено, сколько с ним было хлопот, и все, выходит, зря! Месяцами жить в его доме, принимать от него деньги, вещи и вдруг в один прекрасный день взять и уехать! Так провести его! Бруно говорил об отъезде как о деле решенном. Он считает, что вполне выполнил обязательства, пытался как мог приобщить Мочениго к наукам. Теперь он хочет возвратиться во Франкфурт и издать там некоторые свои сочинения.
Пустая отговорка! Он и не подумает ехать в Германию. Так он этому и поверил! Мочениго подозрителен. Пусть лучше скажет, кто его переманил, кто посулил ему горы золотые? Разве ему плохо здесь? Чего ему не хватает? Нет, мессер Бруно ни в коем случае не должен покидать его дома. Они лишь начали их занятия. Еще столько надо сделать!
Всеми силами старался Мочениго удержать его от отъезда. Но Бруно оставался глух к уговорам. Повторил, что не изменит решения. В ближайшие дни, как только позволят дела, распрощается с Венецией. Мочениго осыпал его упреками. Неблагодарность, видимо, не самый большой из присущих ему пороков. Он легко забывает об обещаниях и нарушает слово.
Бруно вспылил. Какое из своих обещаний он нарушил? Мочениго писал ему во Франкфурт, писал не один раз, а дважды о желании постичь «искусства памяти и изобретения». И он, в самом деле, обязался раскрыть перед ним все тонкости этих искусств. Если синьор Мочениго не преуспел в этом, так только благодаря недостатку рвения.
— Искусство памяти! — зло рассмеялся Мочениго. — Кто бы стал ради одной лишь мнемоники выписывать его в Венецию? Он прекрасно знает, для чего его сюда звали. Просто кто-то теперь предлагает заплатить больше за его секреты. И он хочет раскрыть их другому!.
Мочениго едва владел собой. Напрасно синьор Бруно думает, что ему сойдут с рук такие выходки. Мочениго никогда не прощают обид и карают тех, кто злоупотребил их доверчивостью.
—: Если вы, — закончил Мочениго, — не пожелаете остаться у меня по собственной воле, то я изыщу средства задержать вас!
Весь следующий день Бруно вел себя так, словно угрозы относились не к нему. Он несколько раз выходил из дому, улаживал какие-то свои дела. Человек, посланный Мочениго, следовал за ним по пятам. Джордано наведался в гавань, торговался с лодочниками, потом завернул в книжные лавки. Прощался.
Он и впрямь намерен уехать! Вещи, нехитрый свой скарб, подготовил к отправке. Перед дорогой раньше обычного улегся спать.
…Кто-то громко стучал в дверь. Бруно вскочил. За окном была ночь. «Отворите! — он узнал голос Мочениго. — Мне необходимо объясниться с вами». Что еще случилось? Джордано отодвинул засов. По-хозяйски бесцеремонно вошел Мочениго. Слуга Бартоло поднял большой фонарь и осветил всю комнату. Вслед за ним ввалились шестеро плечистых гондольеров.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
8. Чэйз жаждет баллотироваться в президенты
8. Чэйз жаждет баллотироваться в президенты По приглашению министра финансов Чэйза его посетили три конгрессмена из Калифорнии. Он решил заменить в Сан-Франциско всех руководящих работников своего ведомства. И он огласил список новых назначений. Конгрессменов это очень
ЧАСТЬ 1. ПЁСТРЫЙ ДОМ Глава 1.Винс “О нашем первом доме (если его можно так назвать), где Томми был пойман со спущенными штанами и свои "хозяйством" в чужой «норке»; о том, как подожгли Никки к величайшему несчастью для ковра; где Винс жаждет наркотиков Дэвида Ли Рота; а Мик скромно держится в сторон
ЧАСТЬ 1. ПЁСТРЫЙ ДОМ Глава 1.Винс “О нашем первом доме (если его можно так назвать), где Томми был пойман со спущенными штанами и свои "хозяйством" в чужой «норке»; о том, как подожгли Никки к величайшему несчастью для ковра; где Винс жаждет наркотиков Дэвида Ли Рота; а Мик
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Судья Младенов зачитывал показания Флориана. Это было чудовищное нагромождение злоумышленной лжи. Заимов испытывал жгучее чувство — боже, какую черную работу может избрать себе человек!Когда во время следствия Флориана привели на первую очную
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 1.Все началось с того концерта, на котором Зоя читала «Нунчу». Потом эта незабываемая встреча под дождем. Поездка через лес. «Идет, гудет Зеленый шум…» А что, собственно, началось, Степан и сам не понимал.Внешне ничего не изменилось. Он по-прежнему мотался
Хранители секретов
Хранители секретов Путешествуя по Кении и Танзании, я часто видел масаев. В саванне масайские дети пасли баранов. На дорогах те, что постарше, с копьями, луками, стрелами, разрисованными лицами, предлагали сфотографироваться с ними за доллар. Этакое экзотическое
Из секретов выжали бомбу
Из секретов выжали бомбу По словам Владимира Борисовича Барковского, одним из главных направлений деятельности Абеля — Фишера в США стала атомная разведка, так что неплохо бы вспомнить о том, как же непосредственно использовалась секретнейшая информация, добытая в том
Глава пятнадцатая
Глава пятнадцатая Пребывание в Аррасе. — Переодевания. — Мнимый австрияк. — Отъезд. — Пребывание в Руане. — Арест.По различным, весьма понятным причинам я не мог прямо отправиться в дом своих родителей и остановился у одной из своих теток, которая сообщила мне о смерти
Целые тома секретов
Целые тома секретов Собеседник: — Боюсь, что здесь свою роль сыграл и предвоенный период, когда докладывали, докладывали — а даты нападения переносились. И только когда это все пошло уже в комплексе, когда вся группа Филби стала работать, их воспринимали уже по-другому.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Короткое замыкание между философией и политикой. «Человек» в единственном и множественном числе. Исчезновение «различности». Отсутствие «онтологии различий». Второе приглашение в Берлин. Борьба Хайдеггера за чистоту национал-социалистского
Всеволод Шиловский: «Секретов здесь нет»
Всеволод Шиловский: «Секретов здесь нет» Юматов – это кусок породы. Упавший метеорит. Мощнейшая фигура – трагическая и бесхозная. У нас же государство бесхозное – таланты в принципе не нужны. Вот серые мышки, которых сейчас величают «медийными лицами»… те – да.Был ли
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ С того времени как фашистские войска оккупировали район, Павел Николаевич не выходил из Песковатского. Днем, если в селе не было немцев, он копался на огороде или работал на пасеке, подготовляя ульи к зимовке. Пчелы в теплые солнечные дни все еще
Синьор Ларго Кабальеро уехал…
Синьор Ларго Кабальеро уехал… Тяжелые бои идут под Навалькарнеро, в Торрехоне, на подступах к Леганес. Республиканская пехота с каждым часом становится все более стойкой в обороне. Даже массированные налеты вражеской авиации не производят того ошеломляющего
Хищение и разбазаривание технологических секретов
Хищение и разбазаривание технологических секретов Ответом советских лидеров на постоянное отставание в технологической гонке стала комбинация из отрицания слабости собственной системы и попытки остаться в игре за счет простого воровства технологий, созданных
7 глава Синьор Норд и Академия
7 глава Синьор Норд и Академия Когда Корбино начал хлопотать об открытии кафедры теоретической физики в Римском университете, он натолкнулся на яростное сопротивление. Профессор, читавший курс о новейших достижениях физики, возмутился этим вторжением в его