ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ЗВЕЗДЫ, БОГИ, ЛЮДИ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЗВЕЗДЫ, БОГИ, ЛЮДИ
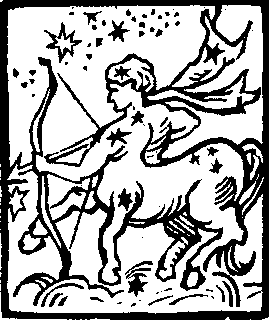
На Олимпе собрались боги. Время не пощадило небожителей: обрюзг Юпитер, поблекла Венера, неприлично повзрослел Купидон. На советах вокруг громовержца только те, у кого на челе морщины, в волосах снег, на носу очки, в мозгу мука. Стареют и боги.
Привычный образ жизни наскучил Юпитеру, и он задумал осуществить коренные преобразования.
Как тот мудрец, который имел стольких жен, служанок и наложниц, что в конце концов пресытился и изрек: «Суета сует и всяческая суета!» И вот сегодня, в день, когда празднуют победу над гигантами — символ неустанной борьбы души с разнузданными страстями, — Юпитер во всеуслышание объявляет свою волю. Пусть больше никто не посмеет изображать его грубым и чувственным. Всеблагой отец занялся совершенствованием духа! Он намерен провести невиданную реформу, он наведет на небе порядок, прогонит собравшуюся там нечисть.
Юпитер в раскаянии. Справлять победу над гигантами, когда земные отребья презирают богов? А у них, у богов, нет сил поправить положение. Власть свою они растратили по пустякам. Теперь само небо свидетельствует о совершенных ими преступлениях. У каждого смертного перед глазами плоды недостойной жизни, которой так долго предавались боги, плоды их распутства, обманов и похищений, насилий и кровосмесительств, низкого гнева и подлой мести. О, боги допустили величайшую ошибку, когда с триумфом вознесли на небо пороки! Высокие добродетели оставлены в пренебрежении, забыты или изгнаны.
Разгневанно говорит Юпитер о прошлом. Боги заслуживают осуждения. Тягчайших злодейств своих они не искупили: мало того, водворили их на небосклон и гордятся ими как трофеями.
— Судьба справедлива, — покаянно восклицает громовержец, — коль не хочет признавать нас богами за то, что мы уступили небо разной земной сволочи!
С этим пора покончить. Небо надо очистить! Победа над собственными страстями, которые издавна тиранят нас и помыкают нами, славнее победы над гигантами! Пусть установится новый праздник — праздник очищения неба и изгнания торжествующего зверья, олицетворяющего пороки!
Энергичный Юпитер намерен добиться коренного улучшения нравов. Он тут же принимается за дело: увольняет мальчишек-пажей, Гиацинта отправляет в университет под розги наставников, Купидону запрещает ходить повсюду голоштанным. Да, да, настали новые времена! Мома возвращают из ссылки. Того самого Мома, олицетворение насмешки, который слишком рьяно обличал пороки и жестоко поплатился за свой острый язык.
В изгнании он был прикован к далекой звезде, изнемогал от голода и холода. Теперь он вызван обратно, реабилитирован, восстановлен в своем прежнем достоинстве и назначен проповедником с широчайшими полномочиями обличать пороки, невзирая на титулы и сан. Он не заставляет себя упрашивать и не особенно стесняется в выражениях. Мом, всегдашний адвокат бедняков, знает, что в этом мире нуждается в исправлении. Он вертится среди богов, постоянно перебивает спорящих, бросает язвительные реплики.
На Олимпе раздается теперь глас подлинной мудрости и добродетели: заговорили богини, долго хранившие молчание. Осуществить дело, затеянное Юпитером, не просто. Подумать только, целиком и полностью обновить все небо и на места, занятые подлым зверьем, водворить добродетели! В самую высокую часть неба, туда, где была Медведица, назначается Истина, туда, где резвился Пегасский конь, посылается Божественный восторг, Энтузиазм. Сколько надо произвести перемещений, сколько выслушать жалоб и оправданий! Легко осудить на изгнание заведомо вредного зверя, но как быть с теми, чей характер неясен? Приговор нужно вынести, только взвесивши все! Спорам не видно конца. На Олимпе пререкаются боги…
Джордано пишет «Изгнание торжествующего зверя». Не впервые находится он в причудливом мире аллегорических животных. Звери — его добрые помощники. Они верно служили ему и в «Ноевом ковчеге» и особенно в «Песне Цирцеи» — кто знает, чему больше, задачам мнемоники или целям сатиры? Но его новая книга совсем не трактует об «искусстве памяти». Ноланская философия должна охватить все вопросы бытия. Бруно не мыслит нового мировоззрения без новой морали. «Изгнание торжествующего зверя» рассматривается им как некая прелюдия к его нравственной философии. Он еще будет писать о высоких этических идеалах. Сейчас он должен заняться другим: показать ничтожество моральных основ, на которых зиждется общество.
Присущий Бруно талант сатирика проявляется в «Изгнании» еще ярче и острее, чем в мнемонических сочинениях, чем в сценах «Подсвечника» и полных сарказма страницах прежних диалогов. Здесь все — и аллегорические животные, и образы античной мифологии, и астрологические представления — служит единой цели — цели обличения.
Он находит выигрышный прием. Небо заполонили звери — созвездия носят их имена. Перипатетики и прочие мудрецы издавна видели на небесной тверди сорок восемь звездных знаков. Многое там заставляет вспоминать далеко не невинные похождения небожителей. Почему? Да ведь сами боги вознесли ввысь свидетельства своих пороков!
Диалоги необыкновенно выразительны. Десятки персонажей, сменяя друг друга, спорят о том, на кого следует распространять предпринятую Юпитером реформу. Боги препираются не менее ожесточенно, чем смертные. Спорят они не только из-за небесных дел. Они прекрасно осведомлены о том, что творится на земле, озабочены религиозными распрями и зорко следят за ходом политических событий…
Никогда еще Бруно не нападал так резко на христианство, никогда еще не были так прозрачны его иносказания, так метки и злы удары, страшны богохульства. Он не просто прохаживался по поводу отдельных суеверий или в пылу увлечения отпускал какую-нибудь слишком смелую шутку. Он метил в самое сердце религии и, сокрушая догматы, не оставлял камня на камне от ее обнов. Не раз и не два позволял он себе высмеивать рассказываемые о Христе небылицы. Прибегая то к одной, то к другой аллегории, постоянно возвращался к деяниям «сына божьего», этого полубога и получеловека, потешался над его мнимыми чудесами, над самой идеей искупления. Он ниспровергал убеждения, которые были одинаково дороги и для кальвинистов, и для католиков, и для лютеран. В его глазах христианская вера со всеми ее толками — это мешанина учений, которые лишь унижают и оглупляют людей. Джордано всей душой ненавидит религию, неспособную даже обеспечить единства своих приверженцев.
Народам слишком дорого обходится царящая среди вероучителей разноголосица. Каждый уверяет, что лишь он, он один, знает единственный путь к праведной жизни. Преобразователи религии только множат заблуждения. Повсюду, где они появляются, вносят «меч разделения и огонь рассеяния, отнимая сына у отца, ближнего у ближнего, гражданина у отечества и творя прочие ужасающие преступления против природы и закона! И, несмотря на их заверения, будто служат тому, кто воскрешает мертвых и исцеляет хворых, не хуже ли они всех, кого вскормила земля? Они заражают здоровых и убивают живых не столько огнем и железом, сколько своим погибельным языком! Что за мир и согласие предлагают они бедным народам? Не хотят ли и не мечтают ли, чтобы весь мир, одобрив и согласившись с их злостным и надменнейшим невежеством, успокоил их лукавую совесть, тогда как сами они не хотят ни принять, ни согласиться, ни подчиниться никакому закону, справедливости и учению. Ведь во всем остальном мире и в прошлых веках не было такого, несогласия и разноголосицы, как меж ними. Ибо среди десяти тысяч подобных учителей не сыщешь одного, у которого бы не было собственного катехизиса, если уже не обнародованного, то готового к обнародованию, о том, что он не одобряет никакого другого установления, кроме своего, находя во всех прочих, что осудить, отбросить и подвергнуть сомнению. Среди них есть даже такие, что противоречат сами себе, отметая сегодня то, что они писали вчера».
Джордано не останавливает, что он находится в стране, где высоко ценят протестантские учения. Хороша же реформация, которая к старым заблуждениям прибавляет новые! Вера важней, чем добрые и полезные дела? Он презирает такую «бычачью и ослиную веру». Еще со дней пребывания в Женеве Бруно знает истинную цену «реформаторам». Он не скупится на сильные слова, когда речь заходит о необузданности этих «педантов».
Бруно надеется, что придет день, когда прекратится кровавая распря, порождаемая несогласием, духовных вождей. Лютое чудовище, поопасней лернейской гидры, с устрашающей быстротой ползет по земле. Чья же, наконец, десница возвратит столь вожделенный мир несчастной Европе?
Безумные раздоры перебросились и в Неаполитанское королевство. На страницах «Изгнания» спорили боги, книга была полна замысловатых аллегорий, а за ними крылась постоянная, не утихающая С годами боль за горькую долю родной страны. Образы прошлого и слышанные в юности рассказы причудливо переплетались с тревожными вестями о недавних событиях, о бесчинствах испанцев и казнях плененных фуорушити. Великая алчность выступает под ложным предлогом поддержки религии. Борьба с ересью — удобный предлог для конфискаций. На одного виновного приходится множество невинных — князь от этого становится все жирнее и жирнее. «Естественно, что овцы, у которых правитель волк, наказываются тем, что он их пожирает!»
Это не персонажи из басен. Это сегодняшний день Италии. Власти, бессильные подавить движение фуорушити, жестоко расправляются с их семьями. «Позволительно усомниться, всегда ли достаточно лишь сильного голода и жадности волка, чтобы сделать овец виновными. Это противно всем законам, когда за вину отца наказывают ягнят и мать!»
Тела казненных не позволяют хоронить. Куда лететь ворону, если он хочет нажраться вдоволь? Пусть летит в Кампанью или на дорогу, что ведет из Рима в Неаполь. Там четвертовано столько людей, что на каждом шагу он найдет такое обильное угощение, как нигде в другой части света.
Речи олимпийских богов пересыпаны злободневными намеками. Юпитеров а реформа касается не только созвездий. На земле тоже торжествуют пороки. Богини, олицетворяющие добродетели, и здесь не в почете. Вместо них в пышных чертогах кишит всякая нечисть.
Никого из сильных мира сего не щадит Бруно — ни властителей, ни богачей. Почему князья возлагают себе на голову корону с рогами? Да чтобы внешними знаками показать свою власть и свое сходство с могущественными зверями! Не забывает он и любителей войны — Козерог научил их, что «нельзя побеждать, если не умеешь становиться зверем». Богатство редко бывает у хороших людей, обычно оно в доме преступников, и тогда оно гонит истину, перебивает ноги благоразумию, замыкает уста закону, отнимает смелость у суда.
Достается и тем ученым мужам, что всю жизнь с усердием занимаются бесполезными делами или разрешают совершенно ясные ©опросы: физикам, которые сомневаются, можно ли познать природу, пустым стихоплетам, желающим сойти за поэтов, «новым рассказчикам старых историй, каковые были уже рассказаны тысячу раз тысячью других и в тысячу раз лучше».
Диалоги, столь излюбленный Бруно жанр, предоставляют большую свободу и позволяют высказываться особенно резко. Почему надо непременно думать, что та или иная опасная мысль, выдвинутая одним из собеседников, принадлежит самому автору? Ничего подобного! Она и обсуждается лишь для того, чтобы устами другого собеседника автор мог бы ее опровергнуть!
Многие страницы «Изгнания» кажутся прямо списанными с натуры. Англия не меньше, чем другие страны, дает Ноланцу благодатный материал для его образных сатирических обобщений. Схваченные острым взглядом бытовые сценки заставляют часто вспоминать о «Подсвечнике». Бруно терпеть не может охоту — это «барское безумие», «неистовство высоких особ». Английские дворяне страстные охотники. Ноланец не без удовольствия пишет об этих доморощенных актеонах, которые гоняются за дичью в то время, как женушки, словно дианы, превращают их в оленей, наделяя развесистыми рогами.
Английские впечатления не застилают воспоминаний об Италии. Он видит овец на берегах Темзы, и тут же в памяти воскресает Кампанья, Где часто целые отары гибнут из-за суровой зимы. Джордано постоянно обращается мыслью к родным местам, к Ноле, к Неаполю. Пишет о «промысле божьем», а под пером оживают картины далекого детства.
В его душе давно сложился идеал свободного человека, деятельного, упорного, ответственного за свои поступки, сознательно стремящегося к истине и добру. Бруно убежден в свободе воли. Поэтому рассуждения католиков о «промысле божьем», а еще больше кальвинистское учение о «предопределении» вызывают у него самую резкую неприязнь.
Он знает, что новая книга создаст ему многочисленных врагов. Но такая уж у него натура: он всякий раз с тем большей страстью стремится противостоять бурному потоку, чем сильнее его течение.
«Изгнание торжествующего зверя» Бруно посвящает Филиппу Сиднею. Прелюдию к своей нравственной философии — расставленные в известном порядке пороки и добродетели — отдает он под его защиту. Небо, которое нуждается в очищении, внутри нас. Пусть толпа потешается над скоморохами, под нелепой внешностью которых скрыто сокровище истины и доброты.
Разве не верно, что каждый шут выкладывает обычно больше правды своему государю, чем весь его двор?
К услугам шутов прибегают те, кто не может высказаться открыто.
Своих сонетов Филипп Сидней не публиковал. Но они широко расходились в списках. Для многих не было секретом, что их основная тема — долгая и не особенно счастливая любовь Филиппа к Пенелопе, дочери графа Эссекса. Впервые он увидел ее совсем девочкой. Филипп так понравился отцу Пенелопы, что тот стал всерьез поговаривать об их будущем браке. В расцвете сил Эссекс умер.
Спустя несколько лет Филипп снова встретил Пенелопу, Застенчивая девочка стала красавицей. Филипп бредил золотом ее волос и черными, как ночь, глазами. Писал сонеты, называл ее своей несравненной Стеллой, а себя Астрофелом[11]. Теперь они часто виделись. Почему не вернуться к брачному проекту и не исполнить воли покойного отца? Никто из трех опекунов не склонен был поддерживать этого плана. Уолсингем же вдобавок имел на Филиппа особые виды. Пенелопу против ее воли выдали замуж за богатого лорда Рича. Сидней лишился покоя, а Сонеты становились все пламенней.
Но любовь любовью, а брак браком. В ту зиму, когда он писал Стелле свои самые пылкие стихи, он обсуждал с Уолсингемом возможность женитьбы на его дочери. Партия эта восторга у него не вызывала, но Уолсингем соблазнял изрядным приданым.
Филипп не мог забыть Пенелопу. Супружество не принесло ей счастья. Лорд Рич вел разгульную жизнь. Его скандальные похождения давали обильную пищу придворным сплетникам. Через полгода после свадьбы Пенелопа вняла, наконец; мольбам Сиднея и пришла на тайное свидание. Она призналась, что любит Филиппа, но честь превыше всего!
Вздыхая, Сидней по-прежнему писал обращенные к Стелле сонеты. Но недолго. Леди Рич ранила в самое сердце преданного ей трубадура. Честь превыше всего? Уверив Сиднея, что разделяет его чувство и лишь в силу долга не может на него ответить, она вскоре завела любовника. Страсть Филиппа умерла — сонеты остались. Ценители английской поэзии переписывали стихи, где верный Астрофел на все лады воспевал редкостные совершенства неземной Стеллы, а кумушки в гостиных частенько злословили о бурном романе леди Рич.
Депеша, отзывавшая Мовиссьера на родину, пребольно его уязвила. Он надеялся, что добьется, наконец, освобождения Марии Стюарт, а тут этот приказ! Своими упорными советами он до смерти надоел Генриху, который так погряз в распутстве и покаяниях, что не имел ни охоты, ни времени вникать в серьезные дела. Враги Мовиссьера обвиняли его в нерадении: может ли вообще человек, восхищенный королевой-еретичкой, по-настоящему защищать интересы католической веры и Франции? Генрих скрепил приказ своей подписью.
Худшего трудно было и ожидать. Деньги свои Мовиссьер великодушно предоставил Марии Стюарт и оказался на мели. Цепкие руки Елизаветы крепко держали пленницу. Сейчас о возвращении долга нечего было и думать. Нерасторопность французской казны вынуждала Мовиссьера постоянно обращаться за займами к итальянским банкирам и английским купцам. Послу великой державы широко открывали кредит. Однако как только в Лондоне станет известно об его отозвании, на него тут же набросятся кредиторы. Он задолжал огромные суммы и не имеет чем платить. Бесчестье ждет его и долговая тюрьма! Он не может сейчас уходить в отставку. Да и жена его, ко всему прочему, тяжело больна и не перенесет далекого путешествия. Подавив оскорбленную гордость, посол попросил короля об отсрочке.
Неприятности, свалившиеся на Мовиссьера, не изменили его отношения к Бруно. В беседах с ним он часто находил утешение. Джордано по-прежнему жил в одной из комнат посольства.
Пришла пора благословенной зрелости. Бруно переживал дни величайшего подъема. Никогда еще он не работал так много и плодотворно, как теперь. Он писал Книгу за книгой. Его следующая работа, «Тайна Пегаса», была тесно связана с «Изгнанием торжествующего зверя». Здесь он развивал одну из тем, затронутых в «Изгнании», — тему спасительного невежества. Всякий, кто предпочитает простодушное незнание беспокойному знанию, слепую веру — свободной мысли, тот возводит на пьедестал глупость и поклоняется ослу.
«Тайна Пегаса» не просто еще одно похвальное слово глупости и не еще одна остроумная вариация вечной темы Осла. Эти диалоги Бруно, как и «Изгнание торжествующего зверя», — часть его нравственной философии. В основе тот же вопрос, который волновал Джордано с юности, — вопрос об этическом идеале и о назначении человека. Как должны жить люди? Полагаться на разум или на веру? Жить здесь, на земле, осмысленно, деятельно, целеустремленно или в благочестивой пассивности смотреть на землю, как на «юдоль печали», и лишь ждать вечного блаженства на том свете? Люди — слепые кроты во власти неумолимого рока или летящие к солнцу Икары?
Где, если не в «Тайне Пегаса», больше всего к месту сонет в честь Осла: «Священная ослиность, святое отупенье…»?
«Тайна Пегаса» — очень опасное сочинение. Здесь Бруно Нападает на религию еще более неприкрыто, чем в «Изгнании торжествующего зверя».
Кому посвятить книгу? Ясно, что не Мовиссьеру, послу наихристианнейшего короля. Сэру Филиппу Сиднею тоже, видно, хватает и «Изгнания». Несколько лиц, кому Бруно давал читать рукопись, отказались от такой рискованной чести. Даже дамы, обычно столь благосклонные к Ноланцу, не воспылали желанием увидеть свое имя на вступительных страницах подобной книги. Один священнослужитель, так тот прямо сказал, что предан библии и не забавляется произведениями, доставляющими радость врагам веры. Тогда Бруно вспомнил скромного клирика, которого знал на родине, произвел его в епископы несуществующего епископства, посвятил ему «Тайну Пегаса»[12] и отдал печатать.
О, у него самые серьезные намерения! Он будет трактовать о «кабале теологической философии, о философии кабалистической теологии, о теологии философской кабалы»! Он не хочет увеличивать дерзкую толпу авторов, которые, славословя ослу, лишь думают над ним поиздеваться. У него и в мыслях нет ничего подобного. Для него осел не объект забавы, а предмет поклонения, воплощение небесных добродетелей. Разве нельзя назвать осла схоластом, если он изысканный аргументатор и пишет диссертации?
«Если он такой превосходный блюститель нравов, изобретатель доктрин и реформатор религии, то кто постесняется назвать его академиком и считать его архимандритом какой-либо главной школы? Почему не быть ему монахом, если он умеет петь, читать священное писание и спать?.. Неужели вы мне запретите назвать его соборным ослом, когда Он действует по активному и пассивному обету, пригоден для избрания и способен к епископству?.. Разве вы свяжете мне язык, чтобы я не мог выставить его в качестве монастырского эконома, если в голове его покоится вся политическая и хозяйственная мудрость? Может ли власть церковного авторитета сделать, чтобы я не считал его столпом церкви, если осел этот высказывает себя до такой степени милосердным, набожным и воздержанным? Если я вижу его столь возвышенным, блаженным и торжествующим, может ли небо и весь мир помешать мне называть его божественным, олимпийским и небесным ослом? В заключение, чтобы больше не ломать головы ни мне, ни вам, мне кажется, что он сама душа мира, все во всем и все в любой части».
Нигде еще с такой силой не обрушивался Бруно на богословие, на схоластику, на духовенство, на философов, сомневающихся в возможности познать реальный мир. Он не оставляет в стороне и Платонова учения о вечных идеях, столь любезного сердцу теологов, пишет о «первоначальном осле», называет «идеального осла» творческим началом, олицетворяющим идею бога. Он мастерски преувеличивает обычные приемы богословской аргументации, куски евангельских, фраз, относящихся к Христу и богородице, использует для прославления ослицы и осленка, пародийно толкует цитаты из библии.
«Подумайте о происхождении причины, по которой христиане и иудеи не возмущаются, но скорее торжествуют, когда в силу метафорических намеков священного писания они выступают под титулами и наименованиями ослов, называются ослами и обозначаются как ослы. Отсюда и выходит, что там, где речь идет об этом благословенном животном, осле, там, по духовному значению текста, по смысловой аллегории и мистическому замыслу, имеется в виду человек праведный, святой, человек божий… Ослами являются те, через кого изливается божья милость и благословение на людей. Таким образом, горе тем, которые лишены своего осла!»
Библейские примеры сыплются, как из рога изобилия. Разве церковь не та божественная ослица, коей господь отверз уста?
«Ее авторитетом, ее ртом, голосом и словами укрощена, побеждена и попрана надменная, гордая и дерзкая светская наука и ниспровергнуто всякое высокомерие, осмеливающееся поднять голову к небу, ибо бог избрал слабое, чтобы сокрушить силы мира, вознес глупое к вершине уважения, так как то, что не могло быть оправдано знанием, защищается святой глупостью и невежеством и этим осуждается мудрость мудрых и отвергается разумение разумных».
Вера превращает людей в ослов. Стянув пять пальцев в одно копыто, они не могут сорвать запретный плод с древа познания или, подобно Прометею, похитить небесный огонь, чтобы зажечь им свет разума.
Не только учение церкви и трактаты богословов вызывают возмущение Бруно. Он высмеивает философов, которые разглагольствуют о непознаваемости мира. Все сомневающиеся в способности человека познавать окружающее тоже враги разума и прислужники глупости.
В «Тайне Пегаса» Бруно посвятил Аристотелю много злых и не очень-то справедливых страниц. В пылу борьбы с душителями науки, которые прикрывались авторитетом Аристотеля, Бруно частенько хватал через край и из-за вражды к «педантам» позволял себе излишнюю грубость и по отношению к их «князю». Стагирит, по мнению Ноланца, начитанный главным образом в науках гуманитарных, возомнил себя натурфилософом и выступал реформатором науки, о которой не имел понятия. Он ложно учил о природе начал и субстанций вещей и ничего не понимал в природе движения и вселенной. Но еще больше, чем Аристотель, в распространении ошибочных взглядов виноваты его ревностные, но недалекие последователи.
Бруно вспоминал юность, монастырскую школу, своих учителей, которые нередко отвечали на вопросы глубокомысленным возгласом: «О, это великая тайна!» Они выросли на глупейших трактатах, отдавали силы бесполезным занятиям и побуждали к ним других.
«Мы дошли до того, что каждый сатир, фавн, меланхолик, опьяненный и зараженный черной желчью, рассказывающий о сновидениях и дребедени, лишенной всякого смысла и порядка, хочет, чтобы в них видели великое пророчество, сокровенную мистерию, недоступные секреты и божественные тайны воскресения мертвых, философского камня и прочих глупостей. Этим хотят привлечь внимание тех, у кого мало мозга, с целью сделать их безумными, отнимая у них время, ум, славу и богатства, и заставить их столь жалко и низко растрачивать жизнь».
Фанатики, одержимые безумными идеями, ввергают род человеческий в неисчислимые беды:
«Глупцы мира были творцами религии, обрядов, закона, веры, правил жизни; величайшие ослы мира те, что, будучи лишены всякой мысли и знаний, далекие от жизни и цивилизации, загнивают в вечном педантизме, реформируют по милости неба безрассудную и испорченную веру, лечат язвы прогнившей религий и, уничтожая злоупотребления предрассудков, снова заделывают прорехи в ее одежде. Они не относятся к числу тех, кто с безбожным любопытством исследует или когда-либо будет исследовать тайны природы и подсчитывать смены звезд. Смотрите, разве их беспокоят или когда-либо обеспокоят скрытые причины вещей? Разве они пощадят любые государства от распада, народы — от рассеяния? Что им пожары, кровь, развалины и истребление? Пусть из-за них погибнет весь мир, лишь бы спасена была бедная душа, лишь бы воздвигнуто было здание на небесах, лишь бы умножилось сокровище в том блаженном отечестве!»
Насмешник, для которого нет ничего святого? Нет, не страстью к осмеянию и не язвительностью характера продиктованы эти слова. За ними боль и гнев, за ними непримиримость. Страшная сила — глупость, наделенная властью! В ней таится великая угроза миру. Поэтому со всем, что подавляет в человеке разум, Бруно и ведет войну.
«Тайна Пегаса» не только памфлет, направленный против всех носителей «ученого незнания», богословов и скептиков. Ноланец создал острейшую сатиру на весь строй религиозного мышления, христианскую этику, прославляющую убогих и нищих духом, веру, которая превращает человека в покорную и недалекую тварь. Он то пародировал заумные рассуждения теологов, то подражал напыщенным воззваниям духовных пастырей. Вступительное «Обращение к прилежному, набожному и благочестивому читателю» было выдержано в стиле страстной проповеди.
«Бегите от вашего зла, — заклинает Джордано Праведных людей, — и найдите ваше благо, изгоните гибельную гордыню сердца, погрузитесь в нищету духа, принизьте мысль, откажитесь от разума, погасите жгучий свет ума, который воспламеняет, сжигает и испепеляет вас: бегите от всех степеней знания, которые только увеличивают ваши горести, отрекитесь от всякого смысла, станьте пленниками святой веры…
Молите же, молите господа, дорогие мои, чтобы он помог вам сделаться ослами, если вы еще не ослы. Только пожелайте, и наверняка легчайшим образом вам дарована будет милость сия: потому что хоть вы и ослы по природе, и обычное воспитание есть не более как ослиность, все же вы будете понимать и разуметь много, лучше тогда, когда станете ослами в боге…
Вспомните, о верующие, что наши прародители были угодны богу, были у него в милости, под его защитой, довольные в земном раю, в то время когда они были ослами, то есть простыми и не ведающими ни добра, ни зла, когда их еще не щекотало желание познать добро и зло…»
Ноланец предостерегает набожных читателей от великой опасности: «Нет средства, которое более действенно низвергало бы нас в глубь адской пучины, чем философические и рациональные созерцания, рождающиеся из ощущений, растущие со способностью к рассуждению и созревающие в уме человека.
Итак, старайтесь сделаться ослами вы, которые еще являетесь людьми! А вы, ставшие уже ослами, учитесь, заботьтесь, приспособляйтесь действовать все лучше и лучше, чтобы достигнуть тех пределов, тех достоинств, которые приобретаются не знанием и делами, сколь угодно великими, но верою, теряются же не вследствие невежества и дурных дел, хотя бы даже чрезмерных, но, как говорят, следуя апостолу, вследствие неверия.
Если станете поступать так, если станете таковыми и будете вести себя подобным образом, то вы вписаны будете в книгу жизни, вымолите милость у этой воинствующей церкви и получите славу в будущей торжествующей церкви, в которой да живет и царствует господь во веки веков. Аминь!»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…»
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…» Поэтыпесенники всегда были люди богатые, ущербные и обидчивые. Они знали, что настоящие стихотворцы, такие как Пастернак, Ахматова или Заболоцкий, к ним относятся без всякого уважения, считая их тексты не имеющими ничего общего с
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…»
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…» Не знаю, как сейчас, а тогда поэты-песенники были люди богатые, ущербные и обидчивые. Они знали, что настоящие стихотворцы, такие как Пастернак, Ахматова или Заболоцкий, к ним относятся без всякого уважения, считая их тексты не
«Помчат нас вперед от звезды до звезды...»
«Помчат нас вперед от звезды до звезды...» Не знаю, как сейчас, а тогда поэты-песенники были люди богатые, ущербные и обидчивые. Они знали, что настоящие стихотворцы, такие как Пастернак, Ахматова или Заболоцкий, к ним относятся без всякого уважения, считая их тексты не
Глава 11. О дисциплине и разгильдяйстве Наши боги
Глава 11. О дисциплине и разгильдяйстве Наши боги Ю. И. МУХИН. Эпизоды воспоминаний А. 3. Лебединцева по этой теме мне близки и понятны. Дело в том, что русские (в широком смысле этого понятия, то есть включая татар, башкир и другие народы) ошибочно считаются христианами,
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…»
«Помчат нас вперед от звезды до звезды…» Поэты-песенники всегда были люди богатые, ущербные и обидчивые. Они знали, что настоящие стихотворцы, такие как Пастернак, Ахматова или Заболоцкий, к ним относятся без всякого уважения, считая их тексты не имеющими ничего общего с
Глава VIII Боги японского менеджмента Акио Морита и Коносукэ Мацусита
Глава VIII Боги японского менеджмента Акио Морита и Коносукэ Мацусита Акио Морита – предприниматель, соучредитель международной корпорации Sony, занимавшийся ее коммерческим развитием. 192126 января в городе Нагоя (Япония) в семье производителей саке родился Акио
Глава XII. Оловянные боги
Глава XII. Оловянные боги 1За стенами царских дворцов простиралась Россия — ледяная пустыня, по которой бродил Человек, по выражению К. П. Победоносцева.Достаточно краткого перечня событий 1894–1917 гг., чтобы составить себе представление о делах этого Лихого Человека.Май
Глава 11 Путь из Италии во Францию, или Как пали языческие боги галлов
Глава 11 Путь из Италии во Францию, или Как пали языческие боги галлов Что же нам сообщают о жизни Марии Магдалины канонические православные источники? Что мы можем почерпнуть из них, что узнать о том, как сложились дни великой женщины после потери близкого и любимого
Глава XII Оловянные боги
Глава XII Оловянные боги 1За стенами царских дворцов простиралась Россия — «ледяная пустыня, по которой бродил Человек», — по выражению К. П. Победоносцева.Достаточно краткого перечня событий 1894–1917 гг., чтобы составить себе представление о «делах» этого «лихого
Глава 4 Боги могут смеяться
Глава 4 Боги могут смеяться Ну а теперь позвольте спросить, как случилось, что мировая знаменитость, дочь американского народа, с неизменным успехом выступавшая на сценах всех стран, у себя на родине потерпела фиаско и подверглась изгнанию?Мало того, что провалили ее
Глава XII. Оловянные боги
Глава XII. Оловянные боги 1.За стенами царских дворцов простиралась Россия - ледяная пустыня, по которой бродил Человек, по выражению К. П. Победоносцева.Достаточно краткого перечня событий 1894-1917 гг., чтобы составить себе представление о делах этого Лихого Человека.Май 1896 г. -
Глава 2 Две звезды
Глава 2 Две звезды Коммерческий агент Монро пообещал Ди Маджо устроить первое свидание с Мэрилин, но та не проявила интереса к личности известного бейсболиста. Ди Маджо, что называется, взял ее измором: в конце концов она согласилась на обед с участием Ди Маджо, но на него
Люди и их боги
Люди и их боги IНе стоит полагать, что все замечания, которые последуют дальше, сделаны в адрес великого правителя вселенной, настоящей сути всех вещей. К нему Бирс питал глубочайшее уважение, даже если сомневался, что в природе существует какая-то упорядочивающая сила.