Призвание поэта
Призвание поэта
Но теперь испытаниям пришел конец. С напутственными проклятиями ректора Андерсен отправился в столицу, чтобы начать жизнь, во всех отношениях лучшую, чем та, от которой он уехал. Вместо изоляции в Хельсингёре у вечно раздражительного и ворчливого Мейслинга и его малосимпатичной семьи он вел теперь свободную и разнообразную жизнь. Он передвигался по городу, как ему заблагорассудится, и когда угодно посещал своих многочисленных друзей. Они охотно принимали его у себя, и он был счастлив, что может их навещать. Визиты означали обед, приятную беседу, которой он не был избалован в Хельсингёре, и слушателей для его стихов. Конечно, он получал сверх того еще и увещевания и нравоучения — как ему казалось, слишком много увещеваний. Он так и не научился извлекать из них пользу; но, возможно, они все же немного рассеивали его самоуглубленность и тем самым помогали ему приспособиться к копенгагенской среде. Во всяком случае, его воспитатели желали ему добра и опасались, как бы он не превратился в тщеславного шута.
Наибольшую роль в его жизни и тогда, и позже сыграли дома Х.К. Эрстеда, Вульфа и Коллина. Х.К. Эрстед понимал его лучше многих других, всегда поддерживал и утешал. Адмирал Вульф вряд ли по-настоящему ценил своеобразную личность Андерсена, но по-своему любил его и всегда веселился, слушая его рассказы; жена Вульфа, Хенриэтта, особенно надоедала ему постоянными наставлениями, но она делала это от чистого сердца и доброжелательно. Больше всего он привязался к их дочери Хенриэтте, умной и волевой девушке, которая на всю жизнь стала ему по-сестрински преданной подругой. Но его подлинным домом был и остался дом Коллинов. Когда в 1822 году Йонас Коллин взял на себя ответственность за образование Андерсена, а в последующие годы, наблюдая за его работой, увидел, что в странном мальчике из провинции заложено многое, он открыл перед ним свой дом, и таким образом Андерсен сразу приобрел и родителей, и братьев с сестрами.
Коллины жили неподалеку от Новой Королевской площади, в доме № 4 по улице Бредгаде, а в 1838 году переехали в собственный дом на Амалиегаде, 9, и в течение многих лет в этих двух домах протекала жизнь веселой и необычной семьи. Господствовали во всем твердый характер и теплая душевность Йонаса Коллина — идеального отца семейства в патриархальном стиле. Он родился в 1776 году, таким образом, когда Андерсен познакомился с ним, ему было около пятидесяти, и до самой своей смерти в 1861 году он оставался центром семьи. Андерсен с глубоким почтением называл его «отец». Мать, Хенриетта Коллин, как и ее муж, отличалась добрым сердцем, но была не так талантлива, как он или дети. Она была болезненной и рано стала глохнуть, а затем совсем потеряла слух и потому играла незначительную роль в семейной жизни. Помимо отца, будни скрашивали дети, отличавшиеся веселым нравом. Они любили подтрунивать друг над другом, изощренно, но беззлобно, потому что их связывала крепкая и сердечная дружба; подшучивали и над Андерсеном, ведь он был в доме словно родным сыном. В этом кругу возник семейный жаргон, многие выражения из которого через сказки Андерсена вошли в датский язык. Оттуда происходят фразы: «Он такой большой и странный, ему надо задать хорошенькую трепку»[25], или «Нет, будем людьми!», или «Спокойной ночи, Оле, деньги на окне». Из пятерых братьев и сестер Коллин ближе всего Андерсен сошелся с Эдвардом. Тот был на три года младше, но из-за сильного и уверенного характера казался старше Андерсена. Это был очень трезвый человек, более трезвый, чем хотелось бы Андерсену, но всегда готовый прийти на помощь. Еще во времена учебы он помогал Андерсену с латинскими сочинениями, тяжелым и мучительным крестом в мейслинговском обучении, а потом был его советчиком во всевозможных практических делах. В 1830 году он окончил юридический факультет и, подобно отцу, сделал карьеру в системе государственного управления.
Как и во многих интеллигентных семьях Копенгагена в то время, интерес к книгам и литературе был чем-то само собой разумеющимся. Все Коллины хорошо знали классику, и центром их духовной жизни был Королевский театр. Литературные и театральные интересы еще больше возрастали оттого, что Йонас Коллин в разные периоды входил в дирекцию театра и в доме бывали многие ведущие поэты и художники того времени. Это была самая подходящая среда для будущего писателя.
Но главное было в том, что теперь он мог жить самостоятельно и быть себе хозяином. Он снял небольшую мансарду у мадам Шварц на Вингорсстрэде, 6, и сразу начал брать уроки у замечательного молодого богослова Людв. Кр. Мюллера{38}, который готовил его к экзамену на аттестат зрелости.
Андерсен был счастлив. «Как вольная птица стал я теперь сердцем и душой, — писал он в „Книге жизни“, — все горести, все пустые мечтания были забыты, и от этого мой врожденный нрав, до сих пор сидевший взаперти, прорвался наружу чересчур бурно; все представлялось мне смешным или глупым, слишком сильные чувства, над которыми столь больно для меня насмехался и глумился Мейслинг, мне самому теперь казались безумными! Ведь жизнь была так прекрасна. Добавлялся сюда и жизнеутверждающий юмор Йетте Вульф, ее наивные заразительные насмешки, и я тем самым приобрел веселый ум, нрав и шаловливость; но со мной по-прежнему оставалась и моя ребячливость, которая выглядела странно, поскольку мне был двадцать один [почти двадцать два] год. Мое доверие к людям еще не пошатнулось, я не питал злобы даже к Мейслингу, а думал лишь о моей свободе, о моем счастье».
Это была реакция на грубое угнетение школьных лет. Он чувствовал себя королем в маленькой каморке с низким скошенным потолком, наслаждался видом на башню св. Николая, сидел и мечтал в лучах заходящего солнца, а внизу играл шарманщик. Здесь, где никакой Мейслинг не мог найти и отругать его, он снова начал сочинять: он ходил в гости к друзьям и знакомым, поддаваясь неудержимому стремлению выступать и быть в центре внимания, читал и декламировал, часто становясь объектом насмешек из-за своей длинной фигуры и артистической внешности, но в то же время, читая вслух, он производил впечатление подлинностью своих чувств. Многие его стихи были напечатаны, например стихотворение «Умирающее дитя»[26], написанное в один из самых безнадежных моментов в Хельсингёре.
Но среди всего этого он не забывал о занятиях. Он был особенно усерден и трудился с большим подъемом. Его учитель добросовестно занимался с ним, был весел и приветлив, короче, обращался со своим учеником с той сердечностью, которая была для Андерсена единственным возможным условием нормального существования. Год спустя, в октябре 1828 года, он сдал в университете экзамен на аттестат зрелости с хорошими оценками.
Если радость его, когда он покидал Хельсингёр, была велика, то теперь она не знала границ. В хорошем настроении он мог писать поразительно легко и быстро, что теперь и делал.
Очень скоро он закончил первую настоящую книгу. Это была романтико-сатирическая фантазия, которую он назвал «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» и где рассказывалось об удивительных приключениях юного автора во время его поэтического странствия в новогоднюю ночь 1828–1829 года: он разговаривает с кошкой, которая сочиняет стихи, перемещается на триста лет в будущее и видит летательный аппарат, встречается со святым Петром, сапожником из Иерусалима, жителем Сириуса и так далее. Все, что он видит, дает ему пищу для разнообразных иронических замечаний, в основном о литературе и рецензентах. Это очень живая история, но по форме неукротимо фантастичная, пространно-многоречивая и утомительная своими бесконечными цитатами и другими ссылками на книги, прочитанные молодым автором, особенно немецких поэтов-романтиков. Ироническим пародийным тоном он как бы хочет показать своим друзьям и читателям, что он уже не тот сентиментальный плакса, что раньше, но попытка эта оказывается несколько судорожной.
Еще занимаясь со своим наставником и даже во время подготовки к экзамену осенью 1828 года он иногда писал эту книгу, а когда экзамен остался позади, быстро ее закончил. Издание поддержал ни больше ни меньше как Й.Л. Хейберг{39}, который уже в то время считался самым высоким литературным авторитетом в Копенгагене. Он оказал Андерсену любезность, сразу же ноябре опубликовав отрывки из «Прогулки на Амагер» в своем литературном журнале «Кебенхавнс флювене пост» («Копенгагенская летучая почта»), а кроме того, поместил в недавно основанном «Монедсскифт фор литтератур» («Ежемесячнике литературы») предварительный отзыв, который знакомил публику с характером книги. Он посоветовал Андерсену издать ее на собственные средства, и это дало хорошие результаты. Появилось много подписчиков, а свободной продаже способствовало то обстоятельство, что автору пришла в голову отличная мысль выпустить книгу 2 января 1829 года, то есть непосредственно на следующий день после описанного в ней путешествия, таким образом у публики создавалось впечатление, что она читает о совсем недавних происшествиях.
Разборчивые коллеги-писатели, такие, как Хаух и Поуль Меллер{40}, считали «Прогулки на Амагер» пустословным вздором, с чем легко согласится современный читатель. Но книга имела большой успех, имя писателя было у всех на устах, и в апреле он выпустил второй тираж. К тому времени он уже смог подкрепить успех еще более солидным произведением, под названием «Любовь на башне ср. Николая, или Что скажет партер. Героический водевиль в одном действии», которое он написал в ноябре за восемь дней. Как бы неправдоподобно это ни звучало, наивная и безвкусная пьеса была принята Королевским театром и три раза исполнена в конце сезона под бурные аплодисменты публики, в то время как серьезные критики совершенно справедливо дали автору понять, что он слишком легко относится к своим задачам. Кстати, в нескольких статьях в ежедневной прессе он ответил на критику отважно и даже не без грубости, и эта реакция резко отличалась от того бездеятельного сетования, которым он много позже реагировал на подобные случаи.
Одновременно он усердно готовился ко Второму экзамену, испытанию по философии и языкам, которое молодые студенты обычно проходили через год после экзамена на аттестат зрелости. Летом 1829 года он предпринял честно заслуженное шестинедельное путешествие по Дании, которую знал очень плохо; посетил Мён и Южную Зеландию, затем отправился в Оденсе, где старушка мать, конечно, была вне себя от радости и гордости при виде его, а закончил каникулы в усадьбе Нёрагер в Западной Зеландии, куда его пригласили через Коллинов он впервые был в загородном имении, посещение которых впоследствии стало важной частью его жизни.
В октябре он сдал свой Второй экзамен, и теперь вопрос о его будущем больше не мог отодвигаться. В какой области ему учиться дальше — или, может быть, ему вовсе не следует учиться? Йонас Коллин произнес красивые спасительные слова: «Идите с богом той дорогой, для которой вы поистине созданы, так будет, право же, лучше всего!» Это подтвердило и собственные чувства Андерсена: он призван стать писателем.
* * *
Итак, теперь ему предстояло попытаться жить творчеством, как говорится в одной из его сказок, — в Дании тогда, как и сейчас, это было нелегко. Никто из его коллег-писателей не мог прокормиться только литературным трудом. Почти все они где-нибудь служили. У Андерсена службы не было. Он шел на существование во всех отношениях рискованное. Рассчитывать на постоянный доход он не мог и должен был жить без той психологической поддержки, которую другие люди черпают в уверенности, что находятся на своем месте и приносят пользу обществу. Тут уж пан или пропал. Если он не станет великим писателем и тем самым не утвердит свое положение, он останется никем. Но другим он заниматься не мог. Он годился лишь на то, чтобы стать писателем. Зная это, легко понять лихорадочное творчество последующих лет. Он должен был обеспечить себе существование и любой ценой завоевать место в литературном мире.
Последнее было, конечно, не менее важно, чем первое, но едва ли легче. Молодые писатели должны были получить признание в трех сферах: у публики, у других писателей и, наконец — и это было труднее всего, — у критики. Его исходное положение было не так уж плохо. Благосклонность публики он уже завоевал своими первыми поделками. Он не мог пожаловаться и на отсутствие интереса со стороны старших и уважаемых коллег-писателей. Весьма доброжелательно поощряли молодого Андерсена и Эленшлегер, и Ингеман, который, кстати, знал его еще со времен учебы в Слагельсе. Даже Й. Л. Хейберг, представлявший совершенно иное литературное направление, чем Эленшлегер, нашел приятными первые стихи Андерсена, а также его водевиль «Башня св. Николая» — подражание водевилям, которыми Хейберг как раз в те годы добился столь большого успеха в театре. Критики тоже видели талант молодого писателя и охотно поддерживали его.
Теперь оставалось только сохранить и укрепить уже завоеванное положение, за что он немедленно и принялся. К новому, 1830 году он выпустил сборник стихов, в основном уже напечатанных раньше; туда вошли, например, «Умирающее дитя», «Студент» (описание его комнатки на Вингорсстрэде) и «Где излучины дороги». Момент оказался неожиданно удачным. Как раз осенью 1829 года на книжном рынке было на редкость мало интересных поэтических произведений. Кроме того, новое стихотворение Андерсена только что было прочитано на поэтическом вечере актеров Королевского театра 4 января, и, что не менее важно, его книга была на редкость тепло встречена критиками, даже Кр. Мольбеком{41}, ворчливым литератором, который впоследствии стал для Андерсена воплощением самого придирчивого критика, но который тогда без колебаний объявил двадцатипятилетнего поэта особенно многообещающим.
Однако у Андерсена было в запасе и много другого. Вскоре он издал еще несколько стихотворных сборников, книгу с описанием путешествия по Германии, отправил в Королевский театр три оперных либретто («Ворон», «Праздник в Кенилворте» с музыкой соответственно Й.П.Э. Хартмана{42} и Вейсе и «Невеста из Ламмермура», которая в театре называлась «Невеста Ламме», с музыкой ныне забытого композитора Бредаля), два водевиля и несколько обработок французских пьес. Он был полон идей. Осенью 1831 года он написал своей приятельнице Хенриэтте Ханк из Оденсе, внучке книгопечатника Иверсена, ставшей для него почти родной сестрой, что одновременно работает над пятью-шестью вещами. «У меня даже слишком много идей, так что я теперь трачу их впустую и собираюсь издать целую книгу под названием „Идеи для тех, у кого нет собственных, необходимая и полезная книга в наши суровые времена!“. Уже одно это хорошая идея!» К сожалению, он чересчур торопился со своими выдумками и не давал себе времени как следует их использовать, что не раз давала ему понять театральная цензура. Кроме того, он упорно работал над своим историческим романом, который должен был называться «Карлик Кристиана Второго», но так и остался неоконченным.
Постепенно он стал известным человеком в маленьком Копенгагене. Его худощавая фигура, болтающиеся вдоль тела руки, огромные ноги, лицо с большим носом запоминались сразу. Он не мог не знать, что жители Копенгагена смеются над его необычной внешностью и находят его уродом, но он был известным и признанным. Сам он себе нравился и в целом вел образ жизни, который его устраивал. Он вращался в обществе многих людей, имел возможность читать свои произведения (чем, по мнению друзей, злоупотреблял) и считался всеми одним из самых многообещающих молодых писателей. На его день рождения в 1832 году Эленшлегер подарил ему свою «Жизнь»{43} в изящном переплете и с сердечными, лестными словами; его даже приглашали на обед к этому королю литературы. Да, он вошел в моду, этого было достаточно. Одиноким он вряд ли себя чувствовал, имея бесчисленное множество друзей, в чьих домах благодаря своей сердечной натуре и веселому нраву всегда пользовался гостеприимством.
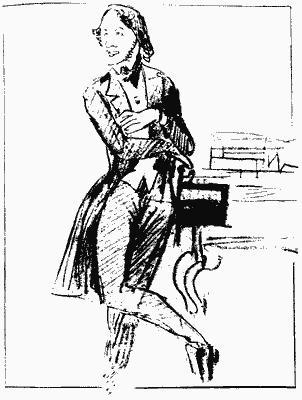
Материальные заботы поначалу его не беспокоили. Его повседневные потребности были более чем умеренными, дня не проходило, чтобы его не приглашали к обеду, а первые книги принесли ему такие доходы, что он мог продолжать путешествия, начатые еще в 1829 году. Летом 1830 года он впервые посетил Ютландию, где его всюду принимали радушно и с почетом, которому могли только позавидовать другие молодые писатели. Рекомендательные письма от Йонаса Коллина открывали ему многие двери, но известным его сделало уже достаточно обширное творчество. «Орхусская окружная газета» писала с восторгом: «Гениальный поэт господин Андерсен, путешествуя по Ютландии, провел несколько дней среди нас и везде встречал почтение и доброжелательность, которые он заслужил своими замечательными произведениями». Мог ли он желать большего? Его прямо-таки чествовали в Орхусе, да и в других ютландских городах; почти везде он жил гостем, и его возили осматривать достопримечательности; он повидал самые романтические пейзажи, даже познакомился с семьей цыган, но все же не доехал до Северного моря, как надеялся, и не взобрался на Химмельбьергет. Затем он отправился в Оденсе и оттуда совершил поездки в Свенборг, Фоборг, Ассенс, а кроме того, подолгу гостил в близлежащих имениях. Когда он после двух месяцев странствий вернулся в Копенгаген, он привез с собой богатый запас переживаний и впечатлений, материал для будущих литературных произведений.
Следующим летом, в 1831 году, он впервые побывал за границей: съездил в Германию, посетил Гарц, Лейпциг, Дрезден, Саксонскую Швейцарию и Берлин и использовал это путешествие, в частности, для того, чтобы поупражняться в немецком языке и завести литературные связи. Последнее не было признаком какой-то особой предприимчивости или навязчивости со стороны Андерсена. Многих датских писателей в те годы знали и любили в Германии, например Эленшлегера и Ингемана, да и Хольберга; многих писателей обеих стран связывала личная дружба. Было естественно, что молодой датский поэт представился своим немецким коллегам; он мог быть уверен, что его охотно примут.
Кроме того, Андерсен был уже известен в Германии. Как-то в дилижансе он пережил эпизод, который описал в письме Эдварду Коллину: «По дороге из Лейпцига вместе со мной ехал один доктор, который, услышав, что я из Копенгагена и что меня зовут Андерсен, спросил, не родственник ли я знаменитого поэта Андерсена. То есть речь шла обо мне самом: он читал немецкий перевод стихотворения „Умирающее дитя“ и просто бредил им. Он спросил, потерял ли я сам ребенка, когда написал это стихотворение, и не мог понять, как я, такой молодой человек, мог испытывать подобные чувства». Это было отрадно слышать честолюбивому молодому поэту, а еще более отрадно было узнать в Лейпциге, что книгоиздатель Брокгауз обещал напечатать его стихи по-немецки. В Дрездене он посетил Тика, Нестора немецкой романтической поэзии, который еще раньше был знаком с его «Прогулкой на Амагер» и встретил его очень любезно. Андерсен также охотно засвидетельствовал бы свое почтение Гёте; но побоялся, что этот небожитель будет с ним слишком чопорным и важным, и воздержался от «посещения великого поэта, который, по-моему, великолепнее всего, когда на него смотришь издалека, словно на башни собора», как он написал в книге о путешествии по Германии.
В Берлине он посетил другого великого романтика — Шамиссо. У Андерсена было рекомендательное письмо от Х.К. Эрстеда, и ему был сразу оказан радушный прием. Шамиссо знал датский язык и впоследствии перевел на немецкий некоторые стихотворения Андерсена. Через него Андерсен познакомился со многими литературными знаменитостями. И конечно, он старался почаще ходить в театр.
Вернувшись в конце июня домой после пяти-шестинедельного путешествия, он с невероятной быстротой написал путевые заметки и в сентябре издал их под названием «Теневые картины путешествия в Гарц, Саксонскую Швейцарию и т. д. летом 1831 года». И критика, и читатели очень хорошо встретили их, а зная, что в следующем сезоне (1831/32) у него приняли две пьесы для постановки в Королевском театре, можно с радостью сказать, что судьба благоволила к двадцатисемилетнему поэту. Все рисовалось в радужном и многообещающем свете.
* * *
Но на душе у Андерсена было далеко не так светло. Еще годом раньше в его жизни произошло событие, которое захватило и глубоко потрясло его. Путешествуя летом 1830 года по Фюну, он попал в Фоборг, где собирался навестить школьного товарища Кристиана Войта, сына состоятельного местного купца и судовладельца. Встреча друзей была радостной, но самое главное, Андерсен познакомился с его сестрой Риборг Войт, очаровательной девушкой с темными глазами и приятным характером, на год младше Андерсена. Они сразу нашли общий язык, она много читала, знала и его стихи, им было о чем поговорить. За то недолгое время, что он пробыл в городе, они каждый день встречались в доме ее родителей или на прогулках по окрестностям, и их взаимная симпатия быстро росла. Он был счастлив в ее обществе, но, несмотря на это, как он рассказывает в «Книге жизни», по вечерам, оставаясь один в своей комнате, ощущал в себе непонятный страх. Он охотно проводил время в семье Войтов но чувствовал непреодолимое стремление покинуть ее. Эта странная боязнь быстро победила в нем все остальные чувства; через несколько дней он внезапно распрощался и вернулся в Оденсе, где понял, что влюблен! По-настоящему влюблен! Это было, конечно, значительное открытие для молодого человека, но у Андерсена оно моментально превратилось в проблему. Впервые в жизни он почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Любовь! Великая любовь! Она повергла его чуть ли не в панику. Это было нечто выводящее его за рамки собственной личности, его мечтаний и стремлений к переживаниям, чуждым его робкому существу, оно могло иметь практические последствия, которые его страшили. Связать себя на всю жизнь — он был в ужасе. Ибо помолвка и брак означали необходимость найти службу или другой буржуазный способ существования, означали упорядоченную жизнь и тем самым отказ от всякой свободы передвижения. Птица в клетке — неприятная мысль для такой богемной натуры, как он. Смутно он подозревал, что обычные в буржуазной семье обязанности помешают ему оставаться верным своему призванию и следовать тем побуждениям, которые так настойчиво вмешивались в творческий, артистический ум. Вероятно, он подозревал также, что в повседневной жизни при своем нервном характере не смог бы вынести рядом с собой другого человека — человека, который требовал бы внимания и любви.
Это была трудная дилемма. К счастью, оказалось, что Риборг уже отдала свое сердце другу детства из родного города. Но дело осложнялось тем, что ее родители были против такого брака, а ее поведение с Андерсеном указывало на готовность порвать прежнюю связь. Они несколько раз встретились осенью в Копенгагене, но он, казалось, инстинктивно избегал разговора наедине, который мог привести к определенному признанию с его стороны, и в конце концов он написал ей письмо, где горячо уверял ее, что она одна у него в мыслях, что она для него все, но многократно упоминал о «другом», и о ее обещании ему, и о следующей из этого невозможности каких-либо отношений между ними, и у нее, вероятно, создалось впечатление, что с его стороны все это несерьезно. По сути, так оно и было. Едва ли он решился бы свернуть с пути к той цели, к которой, как он чувствовал, ведет его призвание и которая беспощадно требовала его целиком.
Трудно сказать, завоевал бы ее Андерсен, если бы немного больше постарался? Во всяком случае, она вышла замуж за человека, которым увлекалась еще в детстве, а писатель остался с горько-сладким чувством того, что встретил любовь и она принесла ему горе.
Последнее, несмотря ни на что, оказало на него положительное воздействие. Разочарование обострило эмоциональное восприятие, что всегда необходимо художнику-творцу. Следует добавить, что как раз в эти десятилетия несчастная любовь была в моде среди молодых поэтов. Теперь Андерсен испытал ее и приобрел опыт, которого у него до тех пор не было; он получил. — правда, дорогой ценой — удовлетворение от сознания, что и в этом отношении он «настоящий поэт». Но знаменательный эпизод глубоко захватил его. Известные любовные стихотворения (например, «Темно-карих очей взгляд мне в душу запал»[27] и «Ты мыслями моими овладела») написаны в это время, и он никогда не забыл Риборг Войт.
* * *
В то же время у него были и другие, более прозаические разочарования. Критики постепенно стали менее любезны, чем поначалу, когда стремились поощрить его как юного начинающего поэта. Они неизбежно находили то один, то другой недостаток в его все более обширном творчестве. К числу самых строгих критиков относился необыкновенно плодовитый, вечно что-то пишущий Кр. Мольбек, известный своей педантичностью и придирками к орфографии; говорили, что в его жилах течет больше чернил, чем крови. К его невероятно разнообразной литературной деятельности относилось рецензирование в «Ежемесячнике литературы»; а в 1830 году, после смерти Рабека, он стал цензором в Королевском театре. Но самым большим критическим даром обладал автор водевилей Й.Л. Хейберг. В 1828 году он был принят в театр переводчиком и драматургом, но еще за год до этого начал издавать упоминавшийся ранее литературный журнал «Копенгагенская летучая почта». Его требования к современным писателям были таковы; последовательность в плане произведения и основательная проработка всех деталей. В борьбе за истинное поэтическое искусство против дилетантства он скоро приобрел оруженосца в лице Хенрика Херца{44}, который в 1830 году произвел фурор своим стихотворным памфлетом «Письма с того света», где высмеивал поэтов, небрежно относящихся к форме. Не прошел он и мимо Андерсена. Тот узнал, что является слишком легкой добычей для своей неуемной фантазии, что он писатель незрелый и небрежный и делает грубые ошибки в языке. Последний упрек ему неоднократно доводилось слышать от Мольбека и других. Андерсен не выносил критики. В то время он был болезненно обидчив, и его смешанная со страхом ненависть к критикам вообще и к Мольбеку в частности скоро привела его к убеждению, что критика только убивает поэзию, — мнению, которого он не изменил почти по конца жизни.
С театром тоже было сплошное огорчение. К несчастью, он непременно хотел писать для сцены, собственно говоря, не имея к этому настоящих способностей. Его рвение можно понять, зная, что Копенгаген того времени рассматривал Королевский театр как оплот поэтического искусства: признанным поэтом был тот, у кого успешно шла пьеса. Но Андерсен слишком усердно пытался произвести на свет хоть что-нибудь, пригодное для подмостков, и нельзя упрекать дирекцию, постепенно уставшую от его разнообразных, но, по мнению и Мольбека и Хейберга, небрежных, наспех написанных драматических произведений. Некоторые из них были приняты, но столько же возвращались для доработки или просто потому, что никуда не годились.
Какой толк, что критика все же говорила много приятных слов о его поэтических сборниках этих лет — 1830–1833 — и что ему был оказан великолепный прием, когда летом 1832 года он посетил Сорё, Оденсе и поместье Нёрагер. Письма к преданным друзьям полны жалоб: никто его по-настоящему не любит, едва ли он когда-нибудь снова будет писать стихи, наверное, он скоро умрет, и это будет только к лучшему. Вдобавок он пережил еще одну несчастную любовь, а именно к Луизе Коллин, младшей дочери статского советника, которой было в то время семнадцать лет. В письмах к ней он пишет, как он несчастен. Одно из них (27 октября 1832 года) кончается словами: «Я чувствую себя больным, больным душой; у меня нет сил жить, меня ничто не радует, ничто не волнует; мечты моей юности были и остаются мечтами, я чувствую, как увядаю в болезни и одиночестве… Я испытываю к вам огромное уважение, глубочайшее доверие, ведь я один на свете и мне не за что уцепиться. Будьте счастливы; уже далеко за полночь, я не смею больше писать. Когда сердце полно скорби, ему легче говорить о своей боли, и это ничуть не забавно. Ваш брат душою Андерсен». Типично андерсеновская самоирония в конце заставляет подозревать, что эта страсть не затронула его так глубоко, как чувства, которые он испытывал к Риборг Войт. Возможно также, дело было не только в том, что потребность в любви заставила его с глубокой почтительностью мечтать о дочери своего благодетеля, которую он знавал ребенком, но также и в том, что в своем угнетенном душевном состоянии он искал — и потому нашел — кого-нибудь, о ком можно было скорбеть и страдать. Во всяком случае, любил он безнадежно, девушка была уже фактически помолвлена с другим, он скоро утешился в своей печали, и любовь перешла в сердечную дружбу с Луизой и ее избранником.
Но какими бы незначительными или нелепыми ни казались нам сегодня горести и беды Андерсена, его дурное настроение было вполне реально. И вызывалось оно не внешними, а внутренними причинами. По-видимому, он достиг критической точки в духовном развитии. Живой ум и быстрое перо сразу же, с самого начала его поэтической карьеры в 1828 году, снискали ему славу одного из самых многообещающих молодых поэтов на копенгагенском Парнасе, а в последующие годы он гнался за успехом, стараясь писать как можно больше. Но нельзя всю жизнь оставаться молодым и многообещающим, и некоторые критики постепенно дали ему понять, что пора уже создать что-то новое и серьезное. Он и сам это чувствовал. Он замечал, что истощил свои духовные ресурсы. Но в его привычном окружении черпать вдохновение было неоткуда. Он чувствовал, что, если не хочет духовно погибнуть, необходимы новые впечатления, более широкие горизонты. Пора было вылетать из гнезда.
Его склонности к путешествиям, вероятно, способствовало еще и то, что он чувствовал, и не всегда безосновательно, что над ним насмехаются и ему завидуют — не друзья, а общественность. Копенгагенская нетерпимость ко всему необычному и потребность издеваться над этим обернулась и против него. Людей забавляла его внешность и поглощенность собой; он был такой большой и странный, ему нужно задать хорошенькую трепку. И он замечал — или думал, что замечает, — что ему лично завидуют: почему он, долговязый, уродливый поэт, имеет такой успех?
Одно время он мирился с издевательствами, теперь они стали действовать ему на нервы.
Он давно уже лелеял планы отправиться в большой мир. Путешествие в Германию было как бы пробной экспедицией, оно разбудило его доселе скрытую тоску по дальним странам, потребность в переменах. И то, что раньше было жаждой путешествий, теперь стало духовной необходимостью. К сожалению, у нею самого не было достаточных средств, но фонд ad usus publicos[28] ежегодно выделял по ходатайству стипендии молодым художникам и ученым, которые таким образом получали возможность учиться за границей за счет общества и на благо родины. Они ехали, во-первых, чтобы приобрести новые знания и новый опыт, материал для будущей работы, а во-вторых, чтобы оторваться от привычных условий и тем самым обрести себя и новые взгляды на мир и людей. Самые разнообразные молодые таланты широко использовали эту неограниченную щедрость. В 1833 году стипендии получили три богослова, один юрист, четыре врача, два писателя, один учитель словесности, два музыканта, два живописца и один гравер по меди. А деньги были немалые. Стипендии хватало на год пребывания за границей, иногда и больше, при этом не нужно было экономить. Стипендиаты возвращались домой, полные новых идей и впечатлений, и тем самым способствовали укреплению контактов с Европой и снижению провинциализма, временами угрожавшего духовной жизни Дании.
Мог ли Андерсен рассчитывать на стипендию? Этот серьезный вопрос занимал его зимой 1832/33 года, когда он зашел в тупик в своем литературном развитии. Особенно его беспокоило, что среди претендентов был Хенрик Херц — тот имел на счету и государственный экзамен, и золотую медаль университета, а кроме того, он был автором «Писем с того света», которые все читали и о которых много говорили. Не предпочтут ли его Андерсену? Смеет ли он надеяться, что стипендию дадут одновременно двум писателям? Нет, страстно желанное путешествие, конечно, останется красивой мечтой, писал он Эдварду Коллину.
Тревоги были понятны, но необоснованны. На самом деле у Андерсена были сильные козыри. Он написал больше произведений, чем его конкурент, они нравились широкой публике и с определенными оговорками признавались профессионалами. Те рекомендации, которые он, по своему обыкновению, приложил к ходатайству, исходили от крупнейших литературных авторитетов и специально предназначались, чтобы произвести впечатление на тех, от кого зависело решение (то есть в конечной инстанции на короля). Эленшлегер говорил, что Андерсен обладает фантазией, чувством и умом; Ингеман указывал на его необыкновенную способность описывать картины природы и сцены из человеческой жизни; Хейберг писал, что, по его мнению, незаурядный талант Андерсена сам по себе не нуждается ни в каких рекомендациях; Эрстед упоминал его замечательное владение языком и подчеркивал, что это удивительно, как его гений, несмотря на трудные внешние обстоятельства, смог так проявить себя. Все сходились во мнении, что ему было бы полезно поехать за границу, что такое путешествие «принесло бы хорошие плоды для отечественной литературы», как писал Эленшлегер. Наконец, неоспоримым преимуществом Андерсена было то, что его покровителем на высшей ступени, где принималось окончательное решение, был Йонас Коллин.
Но ничто не могло утешить несчастного поэта. Его пессимизм усиливался. Он сомневался в своих способностях, чувствовал себя больным, в том числе и физически. В довершение всех несчастий, именно зимой 1832/33 года, когда тянулась история с ходатайством, появилось несколько не особенно приятных рецензий на его оперные либретто, например одна рецензия Кр. Вильстера из Сорё (переводчика Гомера){45}, который, надо сказать, довольно безжалостно называл Андерсена «молодым поэтом, некогда подававшим надежды».
Можно понять, что эти слова стали «каплями яда в моем сердце», как он писал в письме спустя полгода, что при таких обстоятельствах он вообще воспринимал любую критику как покушение на свою поэтическую деятельность и тем самым на желанное путешествие.
Однако в действительности эти уколы означали лишь то, что от Андерсена как от поэта многого ожидали, и, когда 13 апреля 1833 года было объявлено решение, Херд действительно получил стипендию, но и Андерсен тоже. Тучи рассеялись, и солнце снова засияло на его пути — пути к новым и великим впечатлениям.
Он не замедлил собрать чемодан. 22 апреля он поднялся на борт парохода «Фредерик VI» и отплыл в Травемюнде, для начала направляясь в Париж.
Он был спасен.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Призвание
Призвание Человек на свет родится, Ничего не понимая. Но уже, как говорится, Место в жизни занимает. Высоко иль низко место — Это, в общем, безразлично, Месту в жизни соответствуй И живи себе отлично. Для девчонки – быть любимой. Для солдата – бой кровавый. Жив поэт
ПРИЗВАНИЕ
ПРИЗВАНИЕ Весна что ни день нам приносит подарки: То трели ручьев, то грачей в колеях. А я загрустил, как верблюд в зоопарке, О жарких песках, о далеких путях. Когда наступают минуты прощанья, Глядишь на меня ты с тревогой такой, Как будто бы я тороплюсь на свиданье К
Глава 5. Призвание
Глава 5. Призвание Во второй половине девятнадцатого столетия в европейских лабораториях под невидимый аккомпанемент дыма, изрыгаемого трубами фабрик и заводов, создавались все новые знания. Большая часть открытий относилась к биологии и медицине. Люди стали считать
2. Профессия и призвание
2. Профессия и призвание Я едва не стал придворным архитектором уже в 1928 году. Аманулла-хан, правитель Афганистана, решив преобразовать свою страну, нанимал для этой цели молодых немецких специалистов. Нашу группу собрал Йозеф Брикс, профессор городской архитектуры и
Глава VI. ПРИЗВАНИЕ
Глава VI. ПРИЗВАНИЕ Как всякое почтенное семейство, семья Шарля желала для него карьеры достойной, спокойной и доходной. Отчим настойчиво предлагал ему выбрать между дипломатией и армией. Мать мечтала видеть его в чине атташе посольства. Оба уверяли, что их связи помогут
3. Призвание
3. Призвание Серое однообразие чиновничьей службы не убило его мечтательности, но еще острее будоражило душу, рождало в ней иную действительность. «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона... И чего я
Призвание
Призвание Только в физике — соль, Остальное всё — ноль… Из гимна студентов физфака МГУ Когда что-то мешало Льву Давидовичу заниматься физикой, он просто заболевал от огорчения. В студенческие годы он одно время занимался по восемнадцать-двадцать часов в сутки, нажил
ПРИЗВАНИЕ
ПРИЗВАНИЕ Застолье близилось к концу, Когда, жуя селедку, Сосед спросил в десятый раз, Зачем не пью я водку? «Ну был бы болен — хрен с тобой, Но ведь здоровый малый...» — И, еле двигая губой, Он начинал сначала. Про то, что истина в вине, И говорил чуть тише Про то, что мы живем
ПРИЗВАНИЕ
ПРИЗВАНИЕ Наивным мальчишкой С тетрадкой и книжкой Я часто ходил на причал. Туманные дали Меня увлекали, И я к ним в мечтах улетал. И вот как-то ветер Пригнал на рассвете Под парусом маленький бот. Увидев название На боте «Призвание», Я смело запрыгнул на борт. О, как
Призвание
Призвание Я попыталась описать Маню Склодовскую в ее детстве, юности, в учебных занятиях и в ее забавах. Она здорова, честна, чувствительна и весела. У нее любящее сердце. По словам учителей, она очень даровита. Но никакие особые способности не выделяют Маню из среды других
6.2. Призвание педагога
6.2. Призвание педагога Тридцатые годы очень благоприятствовали раскрытию педагогического таланта. Страна нуждалась в образованных людях. Число учащихся быстро росло, преподавателей не хватало. Положение усугублялось отсутствием учебников. А в физике ситуация была
Призвание
Призвание Патти Смит в четвертом классе, Нью-Джерси. Предоставлено Архивом Патти Смит.Я всегда воображала, что однажды напишу книгу, пусть даже тоненькую-тоненькую, которая уводила бы в дальние дали — в мир, что невозможно ни измерить, ни даже удержать в памяти.Я много
Призвание
Призвание Я, как и все курсанты, любил Петра Коломийца — высокого, широкоплечего юношу с зеленовато-серыми глазами и густой шапкой светлых волос — за его страстное увлечение авиацией, за ровный, веселый характер, за то, что был он хорошим товарищем. Петр всегда с радостью
Призвание
Призвание Создавая ложные картины возможного развития событий, мы тем самым теряем драгоценное время. Создавая ложные картины возможного развития событий, мы тем самым теряем драгоценное время. Размышляя о призвании, не стоит ничего усложнять ни в голове, ни на деле.