День за днем
День за днем
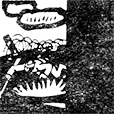
До восхода солнца, ежась от утреннего холодка, пробираемся к своей ячейке. От обильной росы намокают голенища сапог. То я, то Зоя начинаем громко, с подвыванием зевать. Не потому, что не выспались, — это особая фронтовая зевота.
После ночного пулеметного огня на переднем крае тихо. Пропиликала что-то свое ранняя птаха и снова смолкла. С дальнего болота подала голос лягушка. Тихие, мирные звуки. И не подумаешь, что ты на передовой, что идет война.
Тайная тропка выводит сквозь кустарник к окопам первой линии. От бойниц отрываются пулеметчики. Серые, помятые бессонницей лица разглаживает довольная улыбка. Солдаты знают: скоро смена, они смогут уйти в тыл, поесть и отоспаться.
Привычно, как и вчера и позавчера, в прорезь бойницы осматриваем местность перед собой. Что изменилось за прошедшую ночь? Не появилось ли в поле зрения чего-нибудь нового? Каждый кустик, большой и малый, каждую кочку и камень подолгу изучаем: везде может притаиться враг. Вот будто привял кустик — не воткнул ли его в землю для маскировки немецкий снайпер или наблюдатель? В одном месте накидана свежая земля — может, рыли окоп?.. Подозрительные места изучаем в оптический прицел: без нужды утомлять зрение не стоит.
Убедившись, что на «нейтралке» никаких изменений не произошло, переносим наблюдение на окопы вражеского боевого охранения, на весь передний край противника. Почему без ветра колыхнулась ветка? Что блеснуло в траве? Кто вспугнул стаю ворон, с карканьем взлетевших над стогом сена?.. Ничто не ускользает от внимательного глаза, все берется на заметку…
Проголодавшись, открываем ножом «второй фронт» — так армейские остряки прозвали банки американской тушенки. К слову сказать, солдаты предпочитали лежалым заморским консервам наше украинское сало с черным хлебом и цибулей.
Пошли дни, потянулись недели, в течение которых мы не делали ни одного выстрела. Значит, приучили гитлеровцев зарываться кротами в землю, по-мышиному быстро шмыгать между кустами. В долгие тихие часы усталость камнем клонила голову к земле, винтовка тяжелела. На обратном пути никого не хотелось видеть — только бы скорее залечь на нары.
Зато после меткого выстрела идешь — и будто на крыльях несет тебя, винтовка кажется пушинкой, встречные бойцы, без слов понимая твое состояние, поздравляют с успехом. Каждый знает: одним гитлеровцем меньше — на шаг, на час ближе Победа. Списан со счета немецкий снайпер, пулеметчик, наблюдатель — значит сохранена жизнь десяткам наших воинов.
— А ну, кто сегодня именинница? — с порога спрашивает капитан Рыбин, заглянув с замполитом к нам вечерком. Комбат награждает виновницу торжества печеньем или конфетами из своего офицерского доппайка, та делится с подругами.
В честь удачливого снайпера хор исполняет величальную. Сам Рыбин так распоется, такую отобьет чечетку на земляном полу, что покажется, будто находишься на уральской вечерочке. А Булавин не всегда решался петь, чаще помалкивал, слушая певцов. Зоя Бычкова, перехватив взгляд замполита, спросила как-то:
— Что вы, товарищ капитан, такой грустный, когда к нам приходите? Иль не весело у нас, не нравится?
— Очень даже весело у вас, Зоя, все мне здесь по душе. А грустный я потому, что… — Он вздохнул, вставая. — Прошла, отшумела моя молодость, Зоюшка, а когда — и сам не заметил. Идем, что ли, Петр Алексеевич?
В окопах Булавин был совсем другим — уверенным, сильным, наполненным неуемной энергией. Солдаты собирались возле замполита и, сидя на корточках, с винтовками между колен, тянули руки к его неистощимому кисету. Булавин курил мало, поэтому у него всегда был НЗ. После крепкой махры легкий офицерский табачок казался вдвойне сладким.
Вынув из полевой сумки сложенную газету, капитан зачитывал свежую сводку Совинформбюро, заметки о боевых действиях других фронтов, очерки о жизни в тылу. Прочтет сообщение, что Н-ский тыловой завод дал сверхплановую продукцию для фронта, и размышляет вслух:
— Двадцать процентов сверх плана, легко ли? А у станков все больше женщины, старики, ребятишки. Иной работничек от станка на два вершка возвышается. Вы представляете себе, братцы, что означает всего одну снарядную гильзу выточить? Тут и сила нужна, и точность, и пригонка. Пока токарь не отшлифует ее, как игрушку, — из цеха не уйдет, тут же и спать поляжет, у станка своего. Ну, а кто из вас знает, сколько снарядов идет на артподготовку перед наступлением? Приблизительно хотя бы.
Солдаты неуверенно называют цифры: сто, пятьсот, тысяча.
— Если всем фронтом ударим, эшелона два снарядов потребуется, не менее. Понимаете, как мы должны дружно рвануть вперед, когда вся эта музыка сыграет? Ведь это ж бессонный труд, пот и слезы тысяч наших матерей, отцов, детей. А я тут по дороге к вам подобрал кое-что. — Замполит достает из кармана пригоршню блестящих винтовочных патронов. — Да можно ли, братцы, эдаким добром разбрасываться? Народ вы трудовой, пахари среди вас есть. Они-то зернышка не уронят, знают: туг мешок — сыт мужичок! Но что такое зерно? Один колосок. А в патроне этом, может, вся жизнь твоя будущая, счастье целой семьи — твоей, твоего друга.
И быть может, впервые задумается иной беспечный солдат, как достаются людям оружие, хлеб, одежда, которые ему дает с избытком Родина. Поймет, как сам он должен отработать свой долг перед народом. А замполит уже читает — специально припас, хитрец! — «Балладу о патроне» из армейской газеты:
Каждый маленький патрончик
Точит женская рука,
Чтоб скорей войну закончить,
Одолеть быстрей врага…
Знал Булавин, как подойти к солдату, и сердца раскрывались ему навстречу. Воины делились домашними новостями, излагали свои нужды. Нередко тут же, в окопе, замполит составлял письмо в колхоз или на завод, где боец трудился до армии, просил от лица командования части оказать помощь семье фронтовика.
В полевой комиссарской сумке всегда находились лишний лист бумаги, карандаш.
— Не скупитесь на письма, братцы! Ваши матери и жены ждут не дождутся весточки с фронта.
Если солдату, особенно молодому, некому было писать, у замполита оказывался в запасе адресок девушки-тыловички, желающей переписываться с воином.
— Оружие любит смазку, а душа — ласку! — приговаривал он. — Письмо — та же пища, только для души.
Я стала примечать: стоило Булавину появиться в ротных окопах, как моя напарница, если это было возможно, старалась незаметно подойти поближе к солдатам, послушать, о чем говорит с ними капитан. Зоя не сводила с него горящих глаз, ловила каждое слово. И смущалась, заметив ответный взгляд.
— Это ж такой человек, такой человек, Люба! — шептала она мне, вздыхая. — Адреса всем раздает, письма за других пишет, а самому ни от кого нет… Что, если я ему напишу, а?
— Зачем же писать, когда можно на словах сказать?
— Что ты, Люба! — смутилась она. — Ему сколько лет, а мне? Половины нет. Я не от себя, от неизвестной будто бы.
— А как же он неизвестной отвечать будет, глупенькая?
Зоя подумала: действительно, глупо! Нужны ли суровому немолодому комиссару ее утешения? Похоже, он в них не нуждается…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, НЕУСТАННО.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, НЕУСТАННО. 7 мая. Лагерь IV, лагерь III, лагерь II...У нас такое впечатление, что мы возвращаемся из потустороннего мира, из дикого мира, состоящего только из льда и ветра, возвращаемся к людям. В лагере III встречаем товарищей, затем шерпов, потом появляются еще шерпы,
40. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
40. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ Нет, чуда не произошло. Тридцать восьмой не стал справедливым судьей тридцать седьмого. Наоборот, он оказался двойником своего кровожадного брата и даже кое в чем перещеголял его.Этот год, проведенный от начала до конца в одиночке,
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА, ДЕНЬ ПРИЕЗДА – ОДИН ДЕНЬ
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА, ДЕНЬ ПРИЕЗДА – ОДИН ДЕНЬ Эту магическую формулу наверняка помнят все, кто ездил в командировки. Бухгалтерская непреклонность, явленная в ней, сокращала на день количество оплаченных суток. Много-много лет я колесил по просторам той империи и сжился с этой
Как День Победы стал днем беды
Как День Победы стал днем беды Мы вместе ехали в машине с лермонтовского праздника в Тарханах, когда Кобзону позвонили и сказали, что в связи со случившимся МИД России заявляет Латвии протест. Я спросил: «Что случилось?» И вскоре стал свидетелем следующего
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Специфика работы разведчика откладывает суровый отпечаток на весь уклад его жизни и в дни мира, и в дни войны, ибо разведчик подвергается опасности быть раскрытым двадцать четыре часа в сутки.Он несет две нагрузки. Помимо основных занятий, он должен делать
Судьбоносный год: день за днем
Судьбоносный год: день за днем В начале августа 2013 года Путин прибыл на озеро Селигер для встречи с молодежью. Приезжал туда он каждый год, так что и этот приезд не был из ряда вон выходящим.Общение президента с молодыми людьми было, как всегда, раскованным, и это укрепляло
10: День за днем
10: День за днем В моей жизни наконец начинает что-то происходить: родители обсуждают, как лучше всего мне помочь. Теперь их амбиции в отношении меня идут гораздо дальше картинок на бумаге, и они решили купить мне электронное коммуникационное устройство, такое же, как тот
День за днем
День за днем Завтра воскресенье, чувствую я себя отвратительно. Ни читать, ни писать, ни думать уже нет сил. Но не думать было трудно. И я много, о, как много передумала за это время. Боже мой, сколько нужно сил! Я креплюсь, но вечером не выдержала, разревелась. Подошел
«…И врал день за днем»
«…И врал день за днем» Некогда Владимир Познер обрадовался перестройке и покаялся перед аудиторией за то, что не всегда говорил правду. Вот что он написал в покаянии: «Истратил лучшие годы на ложь. Ложь во благо – так не бывает. Ложь – это ложь. Это не имеет
С ВЕКОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
С ВЕКОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Уже легендарное при жизни, имя Ивана Михайловича Петрова (Тойво Вяхя) в широких литературных кругах страны впервые прозвучало 23 марта 1973 года в Москве, на пленуме Правления Союза писателей России, обсуждавшем работу Карельской писательской
Анатолий Максимов. McCartney. День за днем
Анатолий Максимов. McCartney. День за днем …Начну с несколько парадоксальной мысли. Вполне вероятно, эту книгу можно и не читать, как не стоит лично знакомиться с человеком, чье творчество вам симпатично. Возможно, иногда достаточно ПРОСТО ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ или ПРОСТО
И днём и ночью
И днём и ночью Несмотря на все трудности учебы, мы вскоре начали уверенно летать днем в сложных метеоусловиях. Научились распределять внимание, пропало напряжение. Позднее методом фотоконтроля было доказано, что начинающий летчик, пилотируя самолет в облаках, переносит
День за днем
День за днем До восхода солнца, ежась от утреннего холодка, пробираемся к своей ячейке. От обильной росы намокают голенища сапог. То я, то Зоя начинаем громко, с подвыванием зевать. Не потому, что не выспались, — это особая фронтовая зевота.После ночного пулеметного огня
День за днем
День за днем Шестого августа 1961 года было передано правительственное сообщение о начале полета корабля «Восток-2», пилотируемого Германом Титовым. Наша семья следила за полетом с волнением, переживая за Германа, как за родного. Я близко познакомилась с Юриным соседом еще