Бьем врага на его территории
Бьем врага на его территории
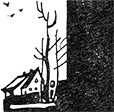
Танковая бригада, шедшая без огней к фронту, заметила в стороне от шоссе догорающий грузовик. Водитель был убит на месте, танкисты похоронили его. Меня, раненную в ногу осколком мины, на броне танка доставили в ближний медсанбат.
Томительно тянулось время на госпитальной койке. Осколок повредил ступню правой ноги. Рана никак не заживала, врач прописал полный покой. Лежа в постели, я тайком делала несложную гимнастику: подниму ногу, потом опущу, подниму — опущу. Держась за спинки кроватей, начала ходить по комнате. Сколько можно валяться, когда война вот-вот закончится?
Соседок по палате три. Молоденькую штабную телефонистку Аню, раненную осколком снаряда в руку повыше локтя, больше всего беспокоит, останется ли шрам и можно ли будет после войны носить платье с коротким рукавом. Работницу полевой почты толстуху Дусю замучили фурункулы. Пожилая бухгалтер из финчасти дивизии Серафима Федоровна страдала радикулитом. Она по-матерински заботливо относилась ко мне: то поправит подушку, то подоткнет одеяло, то, видя, что я хандрю, расскажет что-нибудь успокаивающее.
— Будешь еще, Любушка, танцевать на своей свадьбе! — приговаривала она, думая, что раненая нога — причина моей печали.
…Очередную партию выздоравливающих направляли в запасной полк. По пути в редком хвойном лесочке у шоссе мы увидели следы большого сражения. Десятки подбитых танков с крестами на бортах, сожженные немецкие бронетранспортеры, раздавленные пушки и грузовики. И ни одной нашей машины, ни одного трупа в советской форме — только фашисты, только вражеская техника! Это была работа гвардейского мехкорпуса, тех самых танкистов армии Катукова, которые подобрали меня. Устроив засаду, гвардейцы в пух и прах разгромили немецкую механизированную колонну, спешившую на выручку окруженной части. Да, научились мы воевать, ничего не скажешь!
В хозяйстве запасного полка стадо трофейных коров, женщинам поручили доить их: отличные каши и супы варились на цельном молоке. Доить я не умела, первый же опыт кончился печально: корова пнула ногой ведро, едва не угодив мне копытом в лицо.
У меня нашлась неожиданная защита — разведчица Рая, выздоравливающая после тяжелого пулевого ранения.
— Ты кого это заставляешь тискать коровье вымя? — наступала Рая на седого краснолицего начхоза. — Дважды кавалера орденов Славы? Это ж высшая солдатская награда! Знаешь хоть, как они достаются, эти боевые звездочки?
Я только весьма приблизительно передаю ее речь. Дело в том, что эта красивая, никого и ничего не боявшаяся девушка ужасно ругалась.
Деликатная, старомодных понятий Серафима Федоровна пыталась говорить по душам с сорвиголовой, но тут же зажимала уши: ради крепкого словца Рая не пощадила бы, как говорится, ни мать родную, ни отца.
Мой метод «воспитания» оказался более действенным.
Благодарная Рае за то, что она освободила меня от дойки коров, я помогала своей защитнице сочинять лирические послания ее другу в разведроте. Но наотрез отказывалась не то что вести за нее переписку, а даже просто разговаривать с Раей, если она позволяла себе лишнее.
— Пойми, Люба, в разведке все ругаются! — оправдывалась она. — Еще похлестче, чем я.
— Неправда, Рая, я тоже знала разведчиков. Ты же девушка, раскрасавица — тебе это вовсе не к лицу. Рассказать тебе о наших девчатах, о моей Клаве?
Скучая по подругам, я с удовольствием рассказывала о них. Рая любила слушать мои рассказы, не хотела засыпать, если я молчала. В чем-то она была совсем девчонкой. Но эта девчонка прошла огни, воды и медные трубы, побывала в таких переделках, которые и мне, окопнице, не снились.
…Близился штурм Берлина. Всех способных носить оружие распределили по воинским частям. Мне не терпелось вернуться в свою роту, хотя я не знала, как меня встретят после затянувшейся «самоволки».
Но война была везде, мы ведь находились на вражеской территории.
Промозглой апрельской ночью командир роты, боевой капитан, собрал по тревоге оставшихся запасников. Из окружения вырвалась вражеская группировка неустановленной численности, сообщил он, противник движется в нашу сторону. Надо достойно встретить его. Из женщин командир взял лишь Раю и меня, как самых обстрелянных.
Спустя час мы залегли в отрытой бойцами траншейке на бугре за шоссе. У Раи в руках автомат, у меня — снайперская винтовка. Правее нас в окопе пулеметчики. Если гитлеровцы попытаются пробиться к шоссе — ударим им в лоб. Хуже, если враг покажется с другой стороны: переднего края здесь нет, нет и настоящей обороны.
Ночь прошла тихо. Лежать на сырой, непротаявшей земле холодно, ноет раненая нога. До боли в глазах всматриваюсь в темноту, ловлю каждый шорох.
Враг показался на рассвете, причем именно с той стороны, откуда мы его ждали: немцам, видно, уже не до осторожности. Около роты гитлеровцев, выйдя из жидкого лесочка, двигались к шоссе по узкой, вымощенной белым камнем дороге. Подпустив врага ближе, мы по команде открыли огонь.
Неровный строй рассыпался, гитлеровцы попадали наземь. Высокий немец, до этого шагавший впереди роты, лежа на земле, привязал носовой платок к автомату и стал размахивать им, как белым флагом. Видать, эти навоевались досыта. Они даже не пытались оказать сопротивление, хотя нас было намного меньше.
— Прекратить огонь! — скомандовал капитан.
Он спустился с бугорка к немцам. Пока шли переговоры, Рая нервничала, сердилась:
— О чем они там совещаются? Полоснуть по гадам очередью — и конец.
Не раз она рассказывала мне, сколько знакомых ребят-разведчиков похоронила, а когда мы с ней мылись в бане, я видела шрамы на белом, молодом теле Раи. Можно было понять ее ожесточение.
Побросав в кучу оружие, гитлеровцы сдались в плен. Автоматчики повели их в штаб полка. Мы с Раей вернулись в дом к перепуганной близкой стрельбой Серафиме Федоровне.
На следующий день приехали штабные офицеры, стали уговаривать нас пойти на канцелярскую работу в один из отделов штаба танковой армии. Война кончается, пора осваивать мирные профессии. Ни я, ни Рая, ждущая вызова в свою часть, вовсе не обрадовались этому предложению. Я просила направить меня в родную 21-ю дивизию. Но где ее искать в канун грандиозного сражения, когда бесчисленные части отовсюду стягиваются к вражеской столице?
Серафима Федоровна уговаривала меня ехать вместе с нею; в штабе армии дело найдется для всех. Война еще идет, в бою нередко и писарям приходится браться за винтовку. У меня же она не простая, снайперская.
Я согласилась еще и потому, что знала: танкисты первыми ворвутся в Берлин, значит, я скорее найду своих. Снайперам найдется работка во время уличных боев.
Мчимся по бетонированной автостраде, она такая ровная и широкая, что летчики используют ее как взлетную полосу. По бокам шоссе мелькают чистенькие, крытые черепицей фольварки, перед домами — липы, почки на ветвях набухли, как кулачки. Проезжаем разрушенный воздушными бомбардировками город, готические шпили торчат среди развалин, как обглоданные кости. (Вот и обрушилась война на головы тех, кто поднял меч! Но разве сравнить это со сплошной зоной пустыни, которую оставляли после себя орды современных гуннов?!)
Навстречу тянется бесконечная колонна пленных, наш водитель замедляет ход. Несколько автоматчиков конвоируют в тыл чуть ли не полк разоруженных гитлеровцев. (А наших военнопленных вели под усиленной охраной, с собаками, натасканными на поимку людей. И безжалостно пристреливали тех, кто не мог идти.)
— Что, фриц, отвоевался? Гитлер капут? — кричит, свесившись через борт машины, на которой мы едем, веселый боец.
Среди пленных преобладают пожилые фольксштурмисты, безусые юнцы из гитлерюгенда, но есть и кадровые солдаты. Эти бредут, опустив голову, не желая, а может, не смея смотреть нам в глаза. Через несколько километров их ждет привал, походная кухня с горячим обедом, ночлег под крышей. (А наших гнали по трое суток без пищи, с ночевкой на мерзлой земле, морили голодом и холодом в страшных лагерях смерти. Мы видели эти живые скелеты в полосатых арестантских куртках, под которые несчастные для тепла набивали бумагу, солому, листья.)
Многое вспомнилось, пока машина мчалась к маленькому немецкому городку, где разместился штаб танковой армии.
Нас с Серафимой Федоровной поселили во флигеле зажиточного бюргерского дома. Деревянные, с резными спинками кровати, пуховая перина, в которой тело непривычно утопает, гардины на окнах, кафельный пол в ванной. (А я охотно сменяла бы весь этот комфорт на жердевые нары в землянке, только бы снова оказаться среди подруг.)
Через город шли и шли толпы вчерашних невольников, освобожденных из концлагерей советскими воинами. Люди размахивали самодельными флажками — французскими, польскими, датскими, еще не знаю какими, распевали свои песни и нашу «Катюшу», на перекрестках плясали с бойцами. Как не похожи эти счастливые худые лица, горящие радостью глаза на вытянутые, хмурые физиономии бывших господ, еще вчера претендовавших на титул завоевателей мира!
Первый день работы, когда мне пришлось переписывать и подшивать штабные бумаги, тянулся бесконечно. Неловко чувствовала я себя в офицерской столовой: денег у меня не было, на передовой привыкла обходиться без них, и за обед расплачивался лейтенант, мой непосредственный начальник. Неужели это надолго?
Я обрадовалась, когда штаб танковой армии Катукова перебазировался на новое место, под Берлин.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
СДАЧА ПОЗИЦИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
СДАЧА ПОЗИЦИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ Даже еще при Ельцине в 1990-е годы, вытесненные сами собой из Европы и мира, мы хотя бы оставались крупной региональной державой. Кремль в эти годы был еще «источником легитимности постсоветских режимов» (выражение политолога С.
Часть первая ПЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Часть первая ПЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 23 мая 1942 года на Изюм-Барвенковском выступе Юго-Западного фронта советские 6-я и 57-я армии и соответствующая им по численности отдельная группа войск генерал-майора Л.В. Бобкина, имевшие задачей освободить от немцев Харьков, были
Глава 4. На врага — с клеймом «врага»
Глава 4. На врага — с клеймом «врага» Признаны виновными в совершении контрреволюционных и воинских должностных преступлений:1. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945) маршал бронетанковых войск Богданов Семен Ильич (1894–1960) — в 1915 г. призван в армию, участник 1-й мировой
Удары по территории Пакистана
Удары по территории Пакистана Командованием 40-й армии была разработана и неукоснительно соблюдалась система, которая полностью исключала нанесение ударов по территории Пакистана. Это было вызвано тем, что в первые месяцы советского пребывания в Афганистане появилась
1.1. Действия войск на территории противника до 1700 года
1.1. Действия войск на территории противника до 1700 года По известному преданию, в 13 веке до н. э. в чреве огромного деревянного коня отборные греческие воины проникли в Трою, перебили ночью охрану и открыли своему войску крепостные ворота. Выражение «троянский конь» до сих
2 мая 1945 года Находка на территории рейхсканцелярии
2 мая 1945 года Находка на территории рейхсканцелярии — Что будем делать, товарищ майор? — спросил я.— Продолжать поиск, — твердо сказал Заботин.В 7.00 майор Заботин остановился возле обгоревшей пары: трупов полной женщины и тощего мужчины. Я тоже подошел к ним.— Они? —
Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР
Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР Число советских евреев в немецком плену, по оценке Ш. Краковского, составляло около 85 тыс. чел. (Krakowski 1992:229; см. также: Encyclopedia of Holocaust 1990:1181). Практически ту же цифру — 80–85 тыс. — вслед за ним называет И. Арад (Arad 1993:125).
Селекция и ликвидация на территории Германии
Селекция и ликвидация на территории Германии Еще в июле 1941 г. большие массы советских военнопленных стали прибывать непосредственно в Рейх, возможность чего в приказе № 8 допускалась не более чем теоретически. Это отставание от жизни было быстро исправлено в «Боевом
Первые бои на территории Франции
Первые бои на территории Франции С остатками своих войск Наполеон ушел за Рейн. Союзники обложили его со всех сторон. Они угрожали ему из Испании, Италии, Голландии и Дании. Но судьба Франции на заключительном этапе войны должна была решиться на направлении наступления
1. Расширение территории СССР как фактор усиления обороноспособности
1. Расширение территории СССР как фактор усиления обороноспособности Начало осени 1939 года знаменовало наступление коренного сдвига во всем ходе развития международных отношений – мир вступил в полосу тяжелейших за всю историю испытаний: началась вторая мировая война.
ПРИБОРКА ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ПРИБОРКА ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ Зимой снега выпадает не мало, поэтому по приходу весны, накопившись на крышах, он становится прямой угрозой для жизни людей и военнослужащих. Пришла весна. Начало все потихоньку подтаивать – снег, лед, сердца девушек, продавщиц в пивных
Находился на оккупированной территории? Да
Находился на оккупированной территории? Да (Из моей анкеты) Немцы довольно быстро захватили Украину город за городом и вскоре подошли к Чернигову. Помню, в сильную бомбежку, мы спрятались под кручей в такую пещерку, одеялом завешивались от осколков. Это, конечно, смешно:
Бьем гитлеровцев!
Бьем гитлеровцев! День или два спустя наш дивизион сняли с железной дороги Москва-Ленинград и паромной переправой, в сумрачный дождливый день, перебросили на левый берег Волги[4]. Это не такое уж легкое дело: паром был очень хлипким…После ночного марша дивизион занял
Глава двадцать третья Зачистка территории
Глава двадцать третья Зачистка территории Победитель никогда не оправдывается, это дело побежденных, тем более захваченных в плен. Одному из высоких гитлеровских клевретов пришлось в клетке ехать пленным, чтобы каяться в Москве.В отечественной исторической литературе
На территории, занятой врагом
На территории, занятой врагом Испанцы пробираются к окраине города. Дома еще дымят после недавней вражеской бомбежки, кругом много убитых. Всюду руины. Испанцы шагают осторожно, с опаской. Сильно припекает полуденное солнце. Они идут по склону небольшого холма,