Н. Микава ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ
Н. Микава
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ
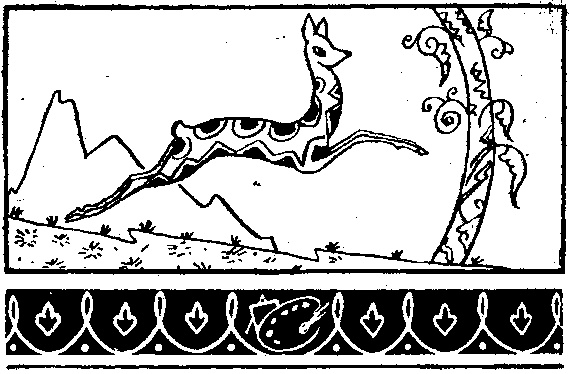
1
…Нет, это название не случайно.
Ладо Гудиашвили действительно создал сказочный мир красок — свою бессмертную Шехерезаду. Каждая его картина — легенда. Сказочные краски, удивительные линии карандаша. У каждой его картины, рисунка, этюда своя философия, своя мудрость… и краски свои, гудиашвилевские.
Их много, необычайно много — свежих, бесконечно оригинальных. Даже сам художник не помнит, сколько он создал их, во всяком случае — несколько тысяч.
…Тридцатые годы. Я готовился в университет. В свободное от занятий время (а иногда и не в свободное) любили мы, абитуриенты, «пройтись» по проспекту Руставели. В те годы это был своеобразный тбилисский Монмартр, где под тенистыми чинарами по старым булыжникам гуляли поэты, писатели, артисты, художники. Здесь они встречались, обменивались мнениями, спорили, делились впечатлениями и невинными сплетнями (а иногда и не невинными). Они спускались в подвалы «Дарьял», «Гемо», «Химерион», шли в «Олимпию» на Пушкинский или же в «Симпатию» к Пиросмани, чтобы пригубить нектар с кахетинских полей.
Летом 1927 года на этом «Монмартре» стал часто появляться человек среднего роста, молодой и загадочный. Казалось, только что сошедший — слегка модернизированная копия — со старинных фресок.
Говорили, что он художник.
Носил он сандалии, как у древних римлян, брюки из белой тонкой шерсти, шелковую сорочку цвета слоновой кости с распахнутым воротом.
Ходил он всегда легкой походкой, будто не касаясь земли. В движениях — что-то от «Дискобола» Мирона или от горца. Лицо мужественное, угловатое, на первый взгляд слегка суровое. Но стоило ему заговорить или улыбнуться, как от него веяло теплом, он становился мягким и обаятельным. Высокий лоб, густые длинные — дугой — брови, как стражи, охраняли серые, бесконечно добрые глаза. Тронутые сединой чуть волнистые волосы, зачесанные назад, придавали пластическую законченность всему облику художника.
Наконец я узнал: это был Ладо Гудиашвили, картины которого восхищали всех, особенно молодежь.
Еще в те годы состоялось мое знакомство с его творчеством. «Хаши», «Рыбы цоцхали», «Кутеж кинто с женщиной», «Зеленые феи», «В волнах Цхенис Цкали», «Феро в Зестафони», «Бакурйанский андезит», его лани…Лань, символ красоты и чистоты, — лейтмотив всей жизни и творчества Гудиашвили.
Целое поколение воспитывалось тогда на картинах Гудиашвили.
Многие из нас не курили, но все же покупали папиросы «Советская Грузия» — этикетка работы Гудиашвили. Ланеобразная девушка среди райских деревьев — в голубовато-синеватых тонах.
Любили мы еще фойе второго этажа гостиницы «Ориант», или, как сейчас называют, «Интурист». Стены этого фойе были расписаны фресками Ладо Гудиашвили. Я от души сочувствую тем, кто не видел эти фрески. Это были подлинные шедевры: тонкие, как стебли тростника, грузинки, лани с лебедиными шеями, юноши с древнегрузинских фресок… Приглушенные, будто временем стертые краски, розовато-голубые оттенки… Мы приходили в гости к этим жизнерадостным, слегка таинственным героям гудиашвилевской фантазии и часами просиживали с ними без слов.
Дежурные пожимали плечами, удивляясь нашему увлечению «безухими дивами» (Гудиашвили как правило, избегает писать уши, считая, что они уродуют человеческое лицо). Многие тогда не понимали солнечное, глубокое искусство художника. Я вспоминаю, как четырнадцать лет спустя мы с ним ходили по инстанциям… но, увы, не смогли ничего сделать. Геростратик наших дней (директор гостиницы, не стоит упоминать его имя) закрасил фрески, чтобы дать возможность своему любимому декоратору разделать стены фойе «под шелк». Он считал ненужным существование духа Гудиашвили в стенах «Интуриста», а стены «под шелк» были пределом его фантазии и вкуса.
Невольно приходит на память другое — замечательное графическое творение Ладо «За разгадкой тайны красоты».
На сцене театра имени Руставели шел спектакль «Ламара» в постановке Котэ Марджанишвили с участием Тамары Чавчавадзе, Ушанги Чхеидзе, Акакия Хорава, Георгия Давиташвили. Оформлял спектакль Гудиашвили…
Когда Миндиа — Давиташвили приходил к цветам и разговаривал с ними на их языке, цветы, гудиашвилевские цветы, отвечали ему. Так кисть Ладо и стих Пшавела соединились в одно целое, в одну песню.
Совершенно необычной показалась сцена торжества хевсуров. Это была изумительная вакханалия цветов и красок, оттенков и полутонов, в то же время подчиненная строгому ритму.
А в оперном театре, в эти годы шла опера «Абесалом и Этери». Художник Гудиашвили. И опять народный шедевр «Этериани», музыка Палиашвили и декорации Ладо слились в один торжественный гимн любви и бессмертия.
И еще не смогу забыть совершенно необычайную постановку Котэ Марджанишвили «Песнь об Арсене». Единственной декорацией к этому спектаклю был задник длиной в несколько десятков метров, исполненный Гудиашвили в стиле народного лубка. Им, как рулоном, были обвернуты два столба, стоящие по обеим сторонам сцены.
На каждое появление Арсена Одзиашвили, героя спектакля, — стало быть, для каждой новой сцены — появлялся новый задник, и каждый из них — шедевр театральной живописи. После этого спектакля я не могу себе представить народные стихи об Арсене без красок Гудиашвили.
Уходили годы, как осенние листья…
В 1946 году вместе с Ладо мне пришлось побывать на церковно-народном празднике в Зедазени, недалеко от Мцхета.
Это высоченная гора, откуда открываются замечательные виды на Карталинскую долину — где-то в пропасти, в сизом тумане раскинулась она с богатыми садами и черепичными крышами домов — и на Мцхета, вдалеке ЗАГЭС, а где-то еще дальше — очертания Тбилиси.
В этот день я воочию наблюдал, как художник черпает свое вдохновение у жизни, у народа. Ладо держал себя с колхозниками, как со своими друзьями, как с добрыми соседями. Он обязательно шел туда, где народ веселился, танцевал, пел песни; где начиналась борьба, парикаоба (состязание на рапирах), где старик на волынке выводил смешные шаири (частушки), где стреляли из лука, объезжали коней, носились с Лело…
В этот день было несколько крестин — Ладо успел побывать на всех.
К вечеру мы спустились с Зедазени.
На пути остановились в Мцхета — нельзя, проехать мимо Свети-Цховели… И потом, после такого напряженного дня, не мешает зайти в духан к Иона, попробовать цоцхали, выпить зеленого атенского вина…
Когда я в Мцхета, мне не хочется уезжать из этого городка, древней столицы Иберии. Здесь живая история, страницы веков и тысячелетий. Между трех вечнозеленых вершин «сплелись Арагва и Кура», на одной горе — развалины языческого города Армази, а там, напротив, такую же неприступную гору завершает храм VII века Джвари (помните лермонтовского «Мцыри»?), внизу; на мутной Куре, — мост Помпея, да, того самого Помпея… В стороне женский монастырь «Самтавро», красивый храм с бесподобными орнаментами. Недалеко отсюда зияют черные ямы «ограбленных» археологами могил грузинских питиахшей.
И никогда не забуду на фоне кровавых лучей заходящего солнца коленопреклоненного Ладо Гудиашвили перед храмом XI века Свети-Цховели… Он стоял на коленях не потому, что верил в бога. Нет, он убежденный атеист. Стоял он на коленях перед великим творением зодческого искусства, перед Свети-Цховели, перед бессмертным его создателем Арсукидзе.
Еще один Ладо незабываем в памяти — Ладо, танцующий кинтаури — танец кинто. Но это зрелище нужно видеть собственными глазами, рассказать об этом невозможно. Только тогда я понял, почему так точно переданы движения кинто на картинах художника. Такая пластика, такие резкие, законченные повороты, совершенно необычайные линии, рисующие жизнь, быт, духовный мир этой необычайной категории людей, могут быть только врожденными и только у таких вечно молодых людей, как Ладо Гудиашвили. Могут меня понять еще те, кто видел замечательного актера Георгия Шавгулидзе в роли кинто или карачогели.
…Тбилиси. Улица Кецховели, 11. Здесь живет наш художник. Дорога к его дому проторена тысячами людей. Мы тоже ходили туда часто узнать, что же он создал сегодня? А создавал он много, очень много… Дверь неизменно открывала девочка — дочь художника Чукуртма. Не надо удивляться, что дочь он назвал таким именем (Чукуртма — орнамент). Тонкость, изысканность и прелесть грузинского орнамента как нельзя лучше передают обаяние и милый облик этой девочки.
И тут же всегда радужный взгляд доброго гения семьи — Нины Гудиашвили, жены художника и его незримого соавтора.
2
Кашветский храм, построенный не то в IX, не то в X веке, находится в Картли, между Ксани и Гори, носит заслуженную славу лучшего образца древней грузинской архитектуры. Название его Самтависи. Архитекторы Агладзе в начале века построили на проспекте Руставели, между художественной галереей и домом, где живет художник, точную копию этого храма. Ничего не скажешь, скопировали они бесподобно, талантливо… Но что делать с изумительными фресками, украшавшими внутренние стены храма Самтависи? Где найти художника, достойно могущего их повторить?
Пришлось ждать почти полвека, пока выбор не пал на Ладо Гудиашвили. Но он вместо самтависских фресок предложил новые, свои. Пришлось с ним согласиться, и по городу молниеносно разнесся слух: Ладо Гудиашвили расписывает Кашветский храм!
Одни были шокированы: как, коммунист расписывает стены божьего храма?! Другие были увлечены сенсацией: интересно, как он напишет святых — с ушами или без ушей? Третьи с радостью восприняли эту весть: они знали, что Кашвети — это памятник искусства, и Гудиашвили сделал правильно, что согласился. Он художник, и он не имел права отказаться. Смешно ведь говорить, что «Мадонна» Рафаэля — икона: это гениальное произведение искусства.
Ничто не разубедило Ладо: ни пересуды, ни опасения друзей, ни злобная радость недругов.
Художник твердо решил «осуществить свой замысел.
Начались работы. Кашветская церковь внутри была в лесах. Моложавый седой художник с утра и до вечера стоял под куполом над алтарем и писал. Вначале никого не пускали. Только через месяц была «прорвана цепь». Началось паломничество.
Богобоязненные старухи, завсегдатаи этого храма, стояли у ворот церкви и перешептывались с выражением страха на лице. Они боялись высказать громко свое возмущение: боялись разгневить бога — может быть, по указанию всевышнего рисует художник изображения бога и его святого семейства?
Слухи и мнения были разноречивы.
Трудно ждать, пока позовет сам художник, — творцу всегда кажется, что чего-то не хватает его творению, настоящий художник никогда не бывает доволен собой.
И мы решили нагрянуть неожиданно. В мрачном храме с серыми стенами горела одна-единственная свеча. И в этом сером тумане словно яркое солнце ударило нам в глаза с высокого купола алтаря…
Мы были ошеломлены… Это ведь тот же мир земных страстей, буйной жизни, человеческих пороков и достоинств, радости и бурного веселья!
И как это замечательно! Какой праздник красок, какое изобилие света, сколько солнца, какое торжество радостных тонов!
А над алтарем бесподобная голова Христа… И возглас удивления невольно вырывается у каждого из нас: в облике Христа он изобразил своего ученика, способного скульптора — Бидзина Авалишвили.
В Тбилиси Авалишвили знали многие. Часто на проспекте Руставели можно было встретить этого красивого юношу с мужественным лицом. Он мог бы позировать художнику в костюме царевича, витязя из свиты царицы Тамар или воина Георгия Саакадзе. Но писать с него Христа?!.
Прошло уже пятнадцать лет, и благочестивые старухи зажигают свечи перед этим Христом, ничуть не выделяя его среди других изображений божьего сына.
Самой колоритной и интересной была богоматерь с младенцем, исполненная в розовато-голубых тонах. Типичная грузинская крестьянка, красивая, дородная, с округлыми формами, она держала на руках веселого бутуза…
А внизу, по бокам, апостолы — в стиле грузинской фресковой живописи, похожие на древних воинов.
…Не умещаясь в жестких догмах,
Передо мной вознесена
В неблагонравных,
неудобных
Святых и ангелах
стена.
. . . . . . . . .
Рука Ладо Гудиашвили
Изобразила на стене
Людей,
Которые грешили,
А не витали в вышине.
Он не хулитель,
не насмешник.
Он сам такой же теркой терт.
Он то ли бог,
а то ли грешник,
И то ли ангел,
то ли черт!
И мы,
художники,
поэты,
Творцы подспудных перемен,
Как эту церковь Кашуэти,
Размалевали столько стен!
Мы, лицедеи-богомазы,
Дурили головы господ.
. . . . . . . . . . .
Богов
людьми
мы рисовали
И в людях
видели
богов.
Эти строки из стихотворения поэта Е. Евтушенко «В церкви Кашуэти» точно передают те мысли и чувства, которые вызывают фрески Ладо Гудиашвили.
3
Народный художник Грузии Ладо Гудиашвили не любит говорить о себе, у него и времени на это нет. Он прав. Да и зачем ему говорить — все сказано его картинами.
Он испытал все: нужду и достаток, творческие успехи и неудачи, восторженное восхваление и непонимание. Просьба рассказать о себе его смущает, неприятна ему, но человек он вежливый: «Что ж, пожалуйста…»
— Я родился в Тбилиси, в 1896 году, в семье железнодорожника, отец служил в депо, мать воспитывала нас. С детства любил рисовать, хотел стать художником. Это упорное желание решило мою судьбу. Среднюю школу и художественное училище кончал одновременно здесь, в Тбилиси. В тринадцать лет участвую на выставке, моя живопись и графика привлекли к себе внимание педагогов.
В 1914 году окончил училище, стал изучать древние памятники грузинского искусства. Участвовал в экспедициях историко-археологического общества, копировал фрески с древней стенной росписи. Они хранятся в музеях Грузии…
Принимал участие в выставках, устраиваемых художниками. В 1919 году вместе с другими худож-никами расписывал цех поэтов — «Фантастический кабачок», клуб «Химерион».
В 1919 году еду в Париж, посещаю академию Ронсона. В 1920 году принял участие в Осеннем Салоне. Выставил четыре картины маслом. Потом вернулся домой, работаю… Пожалуй, и все…
Нет, не все! В 1922 году в Париже была устроена его персональная выставка. Произведения Л. Гудиашвили с успехом экспонировались в Марселе, Бордо, Лионе. В Бордо художника награждают почетным дипломом, которого удостаиваются немногие.
Л. Гудиашвили успешно участвует также в выставках, устраиваемых в Лондоне, Риме, Брюсселе, Амстердаме. и других европейских городах. Еще в 1922 году ему было предоставлено почетное место на первой выставке «Новой галереи» в Нью-Йорке.
Произведения Л. Гудиашвили включены в экспозиции Парижской галереи Ликорна и Жозефа Бийе, мадридского музея Прадо. Немало его работ можно обнаружить в лучших частных собраниях Европы и Америки.
4
Если в полдень в кафе много людей — это не парижане, французы отдыхают вечером.
В «Ротонде», растянувшейся вдоль бульвара, были заняты все столики. Ладо подсел к своему старому знакомому — скульптору Судьбинину. Недавно Гудиашвили отдал свои картины на выставку в Осенний Салон. Еще не были известны результаты, и Ладо нервничал.
— Ну что, ждешь? — улыбаясь, спросил его Судьбинин.
— Жду.
— Ничего… Победишь — хорошо, не победишь… Ну что ж, значит — в другой раз.
«Не верит», — подумал Ладо. Что ж, трудно поверить в успех того, кто сразу по приезде в Париж отдает свои картины в Осенний Салон. Ну, да ничего…
— Смотрите, смотрите, Пикассо!.. — раздались вокруг голоса.
По другую сторону бульвара шагал всемирно известный мастер, в руке он держал веревку толщиной в добрых два пальца: поводок, на котором плелась крохотная собачка. Пикассо пересек бульвар и вошел в кафе. Кто-то из сидевших рядом с Гудиашвили подставил ему стул. Пикассо сел, сдержанно поблагодарив.
— Странно… Лучшие часы для работы, а в кафе полно художников, — тихо сказал он и вдруг обратился к Ладо: — Сейчас четверть первого, не правда ли?
— Да, — сказал Гудиашвили и почтительно добавил — Здесь все иностранцы. Нам нужно сначала привыкнуть к парижскому воздуху.
— А вы сами откуда?
Гудиашвили коротко рассказал. Пикассо кивнул головой и замолчал. Вскоре Ладо поднялся.
Он шел по шумным парижским улицам. Судьба картин не давала покоя. Что там? Как приняло их жюри? Вот уже несколько дней ждал он письма… Монпарнас, улица Югенса, знакомая Ладо уже не менее улиц родного Тбилиси. Дом… Он быстро взбежал по лестнице. Опять в почтовом ящике пусто…
Гудиашвили нехотя открыл свою дверь — и чуть не вскрикнул. На полу лежал белый конверт! Он надорвал его, торопясь, словно боясь опоздать, жадно впился в строки письма.
«Грузинская идиллия»… «Кутеж на рассвете»… «Кутеж с женщиной»… «Загородный кутеж в Тбилиси»…
Ладо быстро схватил письмо и бросился обратно в кафе. Увидев его, Судьбинин встревоженно поднялся:
— Что стряслось у тебя, Ладо?!
— Вот читай! Я ничего не понимаю. — Ладо протянул ему письмо.
Судьбинин быстро пробежал его, удивленно взглянул на Гудиашвили, снова прочитал… Потом встал и протянул ему руку:
— Ты молодец, дорогой мой! Твои картины приняли, поздравляю от души!..
В день открытия выставки Гудиашвили не находил себе места. Он никогда не думал, что это такое торжество для Парижа. Разодетая публика: мужчины в смокингах, а женщины — настоящий цветник осенних мод, поток ослепительных платьев, причесок, вееров. Медленно двигались люди по залам, лениво переговариваясь, лишь изредка останавливаясь у картин. Гудиашвили видел, что они больше любуются самими собой, чем живописью. Ему стало немного грустно…
Через несколько дней Ладо вызвали в жюри. Пожилой, важный секретарь многозначительно улыбнулся ему и сказал:
— Мсье, вы родились под счастливой звездой. Не думайте, что это комплимент. Вашими картинами заинтересовался маэстро Золуага. Одну из них, «Кутёж с женщиной», он хотел бы приобрести. Я обещал ему поговорить с вами о цене…
— Золуага?.. Знаменитый художник? Он заинтересовался моими картинами? — Гудиашвили был потрясен. — Ради бога, мсье. Передайте господину Золуага, что я уступаю ему эту картину бесплатно, и скажите, что он сказал? Как он отнесся?
— Он спрашивал, когда написана эта работа, и не поверил, что вы это сделали здесь, в Париже, за несколько месяцев. Ваши краски привели его в восторг. Он говорил, что вы удивительно талантливы и обладаете изумительной фантазией.
— Не может быть!.. — прошептал Гудиашвили.
— То есть как не может быть, когда я слышал все собственными ушами! — рассердился секретарь.
— Простите, я не хотел обидеть вас, но… это так неожиданно.
— Неожиданно для вас, — уже примирительно заметил секретарь. — Жюри сразу оценило ваши работы. А насчет «бесплатно» — не советую вам, молодой человек: Золуага богат. Не стесняйтесь, он…
— Нет, нет! — поспешно сказал Гудиашвили. — Спасибо вам, до свидания…
— Вы найдете его в «Ротонде». Он бывает там до девяти вечера! — крикнул вслед секретарь.
Всю ночь Ладо не мог заснуть. Лишь под утро он забылся коротким освежающим сном, а часов в шесть не выдержал, поднялся. Ему не терпелось приступить к работе, но скоро, к своему удивлению, он понял, что работать не может. Прошел час, другой… Он стал было прибирать мастерскую, но вдруг постучали. «Кого там несет?!» — подумалось ему.
В дверях стоял человек в черном плаще. Загорелое лицо с черными усами. Широкополая шляпа. Живые, чуть прищуренные глаза. Кто бы это мог быть?
— Если не ошибаюсь, — сказал гость, — вы. тот художник, картины которого я видел в Осеннем Салоне?
— А это вы маэстро Игнасио Золуага?! — Гудиашвили по грузинскому обычаю склонил голову и широким жестом пригласил гостя в комнату.
— Я хочу посмотреть ваши картины… если позволите.
— Они перед вами!
Знаменитый художник пробыл у Гудиашвили весь день. На прощание он сказал:
— Я не хочу кружить вам голову или завоевывать ваше сердце. Эти работы искренни и страстны. В них есть то, что отличает настоящего творца.
Золуага ушел. Ошеломленный Гудиашвили сел на стул посреди своей мастерской и задумался.
Как же все это было? Как случилось, что сам Золуага пришел к нему? И словно в калейдоскопе замелькали события последних дней…
…Гудиашвили очнулся. Сколько он сидел так? Час? Два?.. За окном вечерело. Был близок знаменитый парижский «синий час» — время, когда все: и листья Деревьев, и лица, и стены домов — приобретает непередаваемый синеватый оттенок.
Гудиашвили поднялся. Пожалуй, нужно выйти прогуляться. Он надел шляпу и вдруг почувствовал, что эта шляпа не его. Боже мой, наверное, одеваясь, Золуага перепутал шляпы. Как неудобно! Хорош хозяин!..
«Вы найдете его в «Ротонде»!» — вспомнилось ему. Время — почти девять, «Если бегом, то я, может быть, еще застану его…»
Ладо столкнулся с испанским художником в дверях кафе.
— Маэстро… — начал он.
— А, это вы? Что случилось?
Гудиашвили улыбнулся и смущенно показал на шляпу:
— Мы, кажется, перепутали!..
Зилуага рассмеялся.
— И потому вы так бежали? Не стоило этого делать. Хотя, впрочем, — лицо его приняло заинтересованное выражение, — вы, пожалуй, правы! Вот вам ваша шляпа. Идите в ней, как идете, со своей верой и по своему пути!..
…Много интересного рассказал в тот зимний вечер Ладо Гудиашвили о своей жизни в Париже, об интересных встречах, о выставках, о путешествиях. И мы слушали его внимательно: я и писатель Ладо Авалиани, написавший потом об этом рассказ, а затем — уже в который раз! — вновь и вновь осматривали его картины…
Можно сказать, что, несмотря на их гибкость, образы Ладо сохраняют некоторое почтение к традиционным позам святых, пришедших из византийских Истоков… Под кистью Гудиашвили образы облекаются в поэзию, то героическую, то элегическую, полны колорита легенды, в которой щедрость спорит с жестокостью, а мольба всегда уступает место самому бурному требованию.
Заслугой Ладо Гудиашвили является именно то, что он в неприкосновенности сохранил свою национальную чувствительность посреди пластических соблазнов, расставляемых ему парижским вкусом.
5
В 1925 году в Париже появилась монография известного французского искусствоведа Мориса Реналя о Ладо Гудиашвили.
Вот некоторые фрагменты из этой книги:
«…Мы без всякого сожаления отдаемся чувственному очарованию его грузинских видений, И это в такой степени, что, несмотря на нашу приверженность определенным артистическим традициям, видоизменяющимся время от времени без ущерба для себя, мы полюбили Грузию через неведение о ней. Мы полюбили Грузию особенно за ее душу, полюбили, даже не зная ее, как обычно случается с предметом наибольшей любви, и это благодаря охватывающему нас и убедительному соблазну искусства Гудиашвили.
…Сент-Бев в свое время писал о пользе путешествий, расширяющих мысль и сбивающих самолюбие.
И если я приглашаю вас в длительное путешествие среди картин грузина Ладо Гудиашвили, то делаю я это потому, что, мне кажется, они не только удовлетворят наш пластический вкус или собьют латинское самолюбие, но еще пленят нашу чувствительность…
…Перспектива, это бедное маленькое изобретение, столь же узкое, как и дорогие Аристотелю Три единства, у него оставляет место более свободному построению, а следовательно, более богатым графическим и пластическим находкам. И его рисунок, элегантный и мощный, гибкий без мягкости, энергичный без грубости, живой, но не конвульсивный, движется всегда в рамках пластических причин нашей чувствительности, делая линейные открытия, тесно согласованные с данными цветного, но вполне здорового воображения.
…Творчество Гудиашвили удерживает нас не только своим видом. Мы чувствуем, что образы, иллюстрирующие его композиции, живут интенсивной жизнью, вызванной чувствительностью, проявление которой нас не удивляет, но смущает и волнует. Как будто художник приглашает нас выпить крепкий напиток, похожий во многом на наши, но сохраняющий специфическое свойство, ошеломляющее и уносящее вдаль.
…Новые истины, назовем их новыми находками, даются тем, у кого наиболее широкое и плодотворное сердце…
…Ладо Гудиашвили, сумев в своем творчестве установить прочное равновесие между данными своего разума — потому что он не принес его в жертву другим — и импульсами своей индивидуальной чувствительности, создал произведения оригинальные и стабильные, сумевшие (редкое качество) смутить, очаровать и взволновать даже тех, кто давно уже был убежден в неудаче, преследующей сентиментальное искусство…»
Так пишет Морис Реналь, искусствовед, специалист по творчеству Пабло Пикассо.
В 1926 году, Гудиашвили вернулся на родину, а через год я впервые увидел его на проспекте Руставели…
6
Прошли десятки лет. Многое изменилось за эти годы в жизни страны, людей, в жизни самого художника. Внешне он почти такой же молодой, каким был когда-то. Картины его разбросаны по всему свету.
Его огромное ателье напоминает гостиную сказочной принцессы, где стены увешаны бесчисленными героями его Шехерезады. Невольно вспоминаются слова английского писателя Джеймса Олдриджа:
«В порыве огромного восторга обозрел я маленькую часть блестящего творчества Ладо Гудиашвили, которому принадлежит свое место среди великих художников современной эпохи. Чрезвычайно волнуют замечательные образцы графического искусства.
В живописи обозрение каждого полотна вызывает такое же волнение, какое испытываешь при входе в храм. Каждый из зрителей сумеет понять изобразительные средства Ладо Гудиашвили и вникнуть в глубину его искусства. С нетерпением ждут его выставки в Париже и Лондоне, которая вызовет такой же интерес и волнение там, как вызвала у вас».
Весной 1957 года была устроена первая полная выставка Ладо Гудиашвили. Все как праздника ждали вернисажа. Шутка ли сказать: впервые можно увидеть собранными в одном зале картины Гудиашвили!
В день открытия выставки, 12 мая, с утра трудно было пройти по проспекту Руставели. Народ ждал у Художественной галереи. Преобладала молодежь: студенты университета, художественной академии, консерватории. Я уверен, что никто из них не имел пригласительного билета. На вернисажи обычно приглашают узкий круг людей: художников, писателей, артистов, журналистов. Но сегодня здесь был весь Тбилиси.
Когда подошло время открытия выставки, толпа хлынула с места, и двери галереи распахнулись, оборвалась ленточка вернисажа. Люди вошли в зал. Впервые в истории выставок был нарушен традиционный церемониал.
На третий день, когда немного схлынула волна посетителей, мне, наконец, удалось попасть в залы.
У входа в Художественную галерею мне встретился, ныне покойный, известный наш критик и искусствовед, замечательный собеседник — Геронтий Кикодзе.
— Вам не кажется, что когда из тени этих платанов, этой аллеи лип вы заходите на выставку картин Гудиашвили, попадаете в грузинский поэтический мир? — сказал он и, не дожидаясь ответа, потянул меня за собой.
Мы, наконец, вошли в выставочный зал и очутились в мире сказок и легенд.
Осмотр начали со станковой живописи.
— Вы заметили, — продолжал Г. Кикодзе, — как сдержанно подана замечательная грузинская природа на его полотнах? Все внимание художника обращено на человека. Он старается объяснить самую большую тайну, раскрыть тайну человеческого тела и души, как это и подобает художнику-мыслителю. Это светлое небо и эти легкие облака — грузинское небо и грузинские облака. Эти женщины, нежно опустившие головки, — грузинские женщины. И художник, который их изобразил, глубоко национален.
Он пишет женщин разной социальной среды, представительниц разных исторических эпох: Серафиту, вышедшую из тьмы веков, раненую амазонку, царицу Тамар, Манану Орбелиани, наших современниц, крестьянок, женщин, сидящих либо на балконах: дворцов, либо полулежащих на зеленом лугу, кружащихся в головокружительном вихре, либо спокойных, как античные богини, работающих на колхозном поле или скачущих на сказочном коне. Но у всех этих женщин есть что-то общее; это поэтическое покрывало, которым они прикрыты. Как в руках легендарного царя Фригии Мидаса все превращалось в золото, так и каждая женщина, которой касается кисть Ладо Гудиашвили, становится глубоко поэтичной.
Мы остановились перед картиной «Поэтесса Манана Орбелиани в ложе».
— Это шедевр, — восторженно воскликнул Геронтий, — как по колориту и рисунку, так и по композиции!.. Эти три молоденькие женщины пришли в театр, чтобы показать себя партеру и обществу я русой. Они создают прекрасный букет рядом с пожилым мужчиной, которого только лишь сцена интересует. И этот контраст прекрасно передается в гамме цветов, которые начинаются темными красками, чтобы перейти в кизиловый и зеленый цвета и в конце сосредоточиться в несравненные, нежнейшие полутона…
Идем дальше. Стоим в глубоком восхищении перед картиной «Смерть Пиросмани», в которой без всякой сентиментальности передан последний акт трагедии народного художника. Какая обобщающая сила: так погиб не только Нико Пиросмани, так погибли вообще все забитые и нераспознанные таланты!..
Нашу беседу прервал подошедший поэт Георгий Леонидзе. Он бурно выражал свой восторг, волновался, громко говорил,
— Я нарочно привел сюда колхозника из моего селения, в гости ко мне приехал. Так знаете, что он сказал? Сказал, что все это чудо…
— Однажды, — продолжал Леонидзе, — мы с Ладо Гудиашвили шли по проспекту Руставели. Вдруг увидели на небе радугу. Я рассказал ему о слышанном мною в деревне: если в радуге преобладает желтый цвет, то в этом году будет хороший урожай хлеба и кукурузы, если преобладает красный цвет — большой урожай вина, если же зеленый — будет много фруктов… Так мне говорили мои односельчане. А я добавлю, что в радуге Ладо Гудиашвили — любые цвета, и вот обильный урожай. Поистине кисть Ладо Гудиашвили впитала в себя все грузинские краски. На его полотнах горят цвета солнца, виноградника, синевы неба, золота и граната, изумруда и лала, майской луны и весенних снов… Он поистине Важа Пшавела живописи…
…Археологи работали неустанно. Каждая найденная могила — это страница истории. Вот погребение царевны, найденные здесь куски ткани, предметы туалета, золотые безделушки, ожерелье… Все это глубоко запало в память художника.
После ухода историков и археологов Серафита, дочь армазского царя, просыпается от двухтысячелетнего сна, со своими прислужницами идет на прогулку… Все серебристо, радужно… Нарядная одежда, развевающееся покрывало, ритмичные жесты рук… Исчезло видение, но оно осталось на полотне «Прогулка Серафиты»…
…Вот уже сколько дней приходит сюда поэт, в этот старинный храм, и, закинув голову назад, стоит на одном и том же месте. Высоко на стене фреска — головка девушки. Она загадочно улыбается ему, и он мучительно хочет разгадать: чему она улыбается, эта грузинская Джоконда?.. Мучается поэт над неразгаданной тайной… Это картина Гудиашвили «Улыбка фрески».
…На кладбище к Нико Пиросманишвили приходит кинто с шарманкой, чтобы, по старому обычаю, разлить почтительно вино на могиле «незабвенного властителя сокровенных дум и чувств старотбилисского люда». Рядом могила карачогели и горожан, современников Пиросмани, которых воспел он в своих картинах. Лань — чистота и искренность, — поддерживающая надгробный камень, символизирует неувядающее искусство бессмертного чародея кисти… «Поминальный тост Пиросмани» — так назвал художник свою картину. Пиросмани всю жизнь оставался его любимым художником…
…Какой праздник красок! Люди, и мал и стар, высыпали на улицу, на балконы, в окна домов… Смеются, поют, громко выражают свой восторг. Это радость встречи грузинского народа с Красной Армией. Картина называется «Вступление в Тбилиси красных богатырей».
…Карьеристу чиновнику нужна слава, нужно ему попасть на страницы газет, чтобы о нем заговорили, что он потомок древнего и аристократического рода, что в его жилах течет голубая кровь. С этой целью он переносит прах своего предка, маркиза, из провинции в Париж.
Скелет давно усопшего предка самодовольно курит сигару в своем стеклянном гробу. Он надменно подъезжает к новой усыпальнице мимо чинопочитателей и ассенизационного фургона.
Сатирическое произведение, в котором художник саркастически высмеивает этот акт лицемерного благочестия, называется «Вторичные похороны в Париже».
…Чарли Чаплин сидит в парижском кафе с господином импрессарио… Чаплин взволнован: возьмется ли этот самодовольный господин торговать его талантом, захочет ли он за счет таланта Чаплина пополнить свой карман? Ведь от этого зависит, сможет ли Чаплин отдаться своему любимому делу или нет. Таков сюжет произведения Гудиашвили «Чарли Чаплин и господин импрессарио».
…Она предала своего красивого, молодого мужа. Грубое, отвратительное животное — зверь с человеческими ногами — отрезает голову своему сопернику и бросает ее к ногам красавицы. Она садится верхом на это чудовище и тащит за собой на веревке «Обезглавленного супруга». Поэт А. Аронов так описал эту картину:
…Тебя, смеющаяся, вечная,
Какая сила, унесла —
Осел с ногами человечьими
Иль похоть в образе осла!
Ну что ж, веревка, злей обматывай!
А он идет с тобой, идет
И лапы тяжкие, лохматые
На ткани тонкие кладет.
Нагая, нежная, бесстыжая,
Ты надо мною, а за мной —
Лишь голова моя постылая
Волочится в пыли земной.
* * *
Ладо Гудиашвили, приехавший в 1919 году в космополитический Париж, не дал себя втянуть в бурный водоворот модернистских течений и предпочел смотреть на жизнь в Европе глазами Домье. А его искусство никогда не снижалось до уровня формалистических экспериментов.
Замечательны его антифашистские графические произведения. Проходить равнодушно мимо них нельзя…
«Нам это не кажется тяжелой ношей!» — говорят франкистские обезьяны и овладевают «Инфантой» Веласкеса. Куда-то тащат мировой шедевр изобразительного искусства. «Все великое, в чем проявляется гений человека, оплевано фашизмом», — гневно говорит Ладо Гудиашвили.
…Обезьяна взобралась на груду трупов, прицеливается из ружья в голубя мира. Разглядывая картину «Прицел обезьяны», нельзя не вспомнить слова Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!..»
…Что может быть благороднее, спокойнее и красивее коня? А здесь табун лошадей, породистых скакунов. Но фашистским молодчикам скучно, они еще с утра не убивали никого. Чтобы заполнить свой день, они стреляют под аккомпанемент гитары в лошадей и улыбаются…
…Знойный Египет. Четырехтысячелетний сфинкс поднимает свою каменную лапу против колониальных агрессоров. Таков «Непокоренный Египет».
Весною 1958 года в Москве была открыта персональная выставка художника. Ладо Гудиашвили приветствовала московская общественность. В тот день на вернисаже были Наталья Кончаловская, Сергей Городецкий, академик А. А. Сидоров, друг художника искусствовед М. Е. Топурия, так много сделавший для этой выставки.
— Я уже сказал, что люблю Ладо с самого начала его деятельности, — сказал Сергей Городецкий, — но когда я теперь смотрю на его работы, то должен отметить: как много он успел Сделать и как здорово!.. Говоря языком Станиславского, у него нет пустых кусков в картине… они требуют к себе пристального внимания, в них надо вдуматься… Я немного поэт, — продолжал С. Городецкий, — картина для меня рассказ. А Ладо Гудиашвили глубоко поэтичен. Все его картины дышат поэзией. Я мог бы на каждую его картину написать стихотворение, даже не зная сюжета легенды…
Он еще что-то хотел сказать, но в это время нас потянул в зал графики А. Сидоров.
— Вот что меня восхищает, — показал он на графические произведения, — Ладо Гудиашвили — это один из великих рисовальщиков нашего времени. Ладо Гудиашвили как график имеет только одного большого предшественника — это как раз чрезвычайно интересно — Франциско Гойю. Композиция грузинского художника меня, как специалиста по истории графики, немедленно заставляет вспомнить о Гойе, но о Гойе новом, современном, потому что они сделаны на особенно большом, трепещущем уровне графической красоты, которой, может быть, у Гойи не было, потому что перед ним стояли другие задачи…
…Есть темы, над которыми не хочется кончать работу, кажется, что можно беспрерывно о них писать… Мне тоже не хочется заканчивать разговор о Ладо Гудиашвили. О нем можно говорить бесконечно…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Одна ночь
Одна ночь (Из воспоминаний о С. Есенине)Умер крупнейший поэт.Умер человек, о котором давно, когда только лишь начинался литературный путь его, еще в 1915–1916 годах А. А. Блок говорил П. П. Неведомскому:– Если хотите увидать подлинного поэта, заходите завтра вечером ко мне. У
Не было ли ликование по поводу Гитлера преувеличенным? Фашистские сказки Гоффманна. Одна картинка солжет лучше, чем тысяча слов — мир пропаганды портретов Гитлера
Не было ли ликование по поводу Гитлера преувеличенным? Фашистские сказки Гоффманна. Одна картинка солжет лучше, чем тысяча слов — мир пропаганды портретов Гитлера 1 1 См.: Rudolf Herz, Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des F?hrer-Mythos. Katalog der Ausstellung im M?nchner Stadtmuseum, M?nchen 1994. Fritz Hansen, Neuzeitliche Photographic im
Али и «Тысяча и одна ночь»
Али и «Тысяча и одна ночь» Все персы, которых я раньше встречала, торговали туфлями. Впрочем, некоторые, побогаче, торговали халатами и даже коврами.Перс Али-Юсуф-Задэ-Жин, один из фельдшеров терапевтического отделения, — яркая личность, но какое он имеет отношение к
Одна ночь с Александром Стальевичем
Одна ночь с Александром Стальевичем Я всегда знала, что в журналистике – точно так же, как в жизни: если нельзя, но очень хочется, – то можно.В декабре 1999 года шеф-редактор Коммерсанта попросил меня сделать нечто абсолютно невозможное: попасть в Кремль в ночь подсчета
Глава 62. Одна ночь в феврале
Глава 62. Одна ночь в феврале В Америке я стала ходить в русскую церковь. Почему же не в Москве, а только здесь? Да потому, что в советское время церковь открыто не посещали. А пока я жила здесь, в России сменился строй, и тогда все стали ходить в церковь. Приобщил меня к церкви,
Всего лишь одна ночь...
Всего лишь одна ночь... ... Сообщили, что будет штурм в ночь с 26 на 27 сентября. Эта ночь с 26 на 27 сентября 1993 года, без всякого сомнения, войдет в историю нашей Родины пркрасной и вдохновляющей страницей. Всего несколько тысяч человек, собравшихся в здании Верховного Совета и
Али и «Тысяча и одна ночь»
Али и «Тысяча и одна ночь» Все персы, которых я раньше встречала, торговали туфлями. Впрочем, некоторые, побогаче, торговали халатами и даже коврами.Перс Али-Юсуф-Задэ-Жин, один из фельдшеров терапевтического отделения, — яркая личность, но какое он имеет отношение к
ОДНА НОЧЬ В ЖИЗНИ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА
ОДНА НОЧЬ В ЖИЗНИ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА Назвавший себя Молодцовым подозрительный молодой человек, которого задержали незадолго до царского юбилея и выпустили, не признав опасным, в самом деле не уехал из Петербурга и был во время торжеств на Дворцовой площади. Он пробрался в
13 ОДНА НОЧЬ В КЕЛЛОСЕЛКЕ ТОЛИКА
13 ОДНА НОЧЬ В КЕЛЛОСЕЛКЕ ТОЛИКА Финляндия 2005 год.Мы мчались на север по лесам Лапландии, оставив позади Полярный круг. Проскочив последний городок под названием Салла, остановились на таможне. Финский офицер вдруг обнаружил, что контракт взятой нами напрокат в Хельсинки
Тысяча и одна церковь: от первой до двадцать четвертой
Тысяча и одна церковь: от первой до двадцать четвертой На другой день ровно в восемь утра Измаил прибыл в гостиницу. В нашу честь он облачился в голубой костюм и горел желанием выехать немедленно. Вскоре появился наш шофер Ибрагим Сайги. Хотя Измаил и Ибрагим прежде не
Тысяча и одна церковь: от тридцать первой до сорок пятой
Тысяча и одна церковь: от тридцать первой до сорок пятой В последний раз Гертруда Белл посещала Бинбир Килисе в 1908 году, и церковь № 1 еще хранила следы перестройки, проводившейся в IX или X веке, что дало нам столько информации об истории Бараты, сколько мы вряд ли
Эра Суслова ОДНА НОЧЬ С ДВОРЖЕЦКИМ
Эра Суслова ОДНА НОЧЬ С ДВОРЖЕЦКИМ Не могу забыть одну южную, теплую ночь, которая была связана с Вацлавом Яновичем. Это было в Сочи в 1960 году. Наш Горьковский театр был там на гастролях. Играли в зимнем театре с огромным успехом, с аншлагами. Труппа состояла из очень
«Та ночь из всех ночей одна»
«Та ночь из всех ночей одна» Та ночь из всех ночей одна. В ней все и сказочно, и просто: Деревья. Звезды и снега. Дорога. Церковь у погоста. Там говорят, что с нами Бог Вдыхает этот холод плотный И слышит, как ночной чертог Скрипит под яростной походкой. Там говорят, что с