В. Черняк МЕРАНИ
В. Черняк
МЕРАНИ
Нет, не отец и мать — страна осиротела!
Кому доверим мы восторженность и грусть?
Одно смягчает боль: ведь смертно только тело,
А стих нетленный твой затвержен наизусть.
Илья Чавчавадзе,
Памяти Н. Бараташвили.
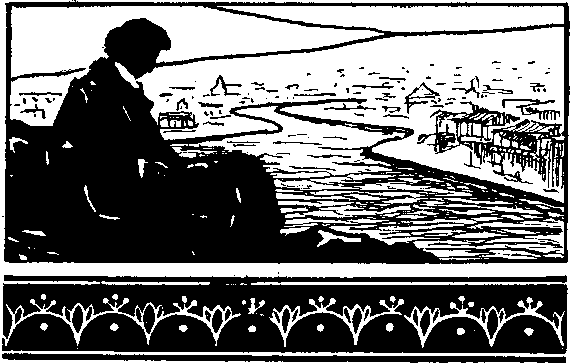
Темная декабрьская ночь спустилась над Петербургом.
Снег выпал еще месяц назад. Он лег плотным слоем на крыши домов, на карнизы, на голые ветви деревьев и теперь поблескивал в неясных огнях фонарей мириадами голубоватых искр.
Город спал, только в просторном особняке на одной из центральных петербургских улиц гремела музыка. Княгиня Екатерина Чавчавадзе-Дадиани давала бал.
В огромных окнах сквозь расплывшиеся тени азалий мелькали силуэты танцующих, мерцали свечи в граненых подсвечниках. Вдоль улицы тянулась вереница карет.
К парадному подъезду подлетела карета. Еще на ходу из нее выпрыгнул молодой человек, быстро пробежал по ступеням и скрылся в доме.
Дворецкий в зале объявил:
— Князь Илья Чавчавадзе…
Это имя мало что говорило присутствующим. Они продолжали веселиться, только хозяйка дома поспешила навстречу гостю.
— Здравствуйте, Илья, — сказала она по-грузински.
Чавчавадзе поклонился, поцеловал ей руку.
— Княгиня, — сказал он, — я всегда рад бывать у вас, но сегодня время мое ограничено…
— Ах, да-да. Вы получите, князь, то, что я обещала вам. Будьте добры подняться наверх…
Они очутились в небольшой гостиной. В углу на богатом персидском ковре стояли маленький столик и два глубоких мягких кресла. По стенам тянулись полки с книгами, огромное количество книг…
Княгиня зажгла две свечи, комната осветилась неровным, мигающим светом. Потом она подошла к полкам, достала маленький ларец, открыла его и подала Чавчавадзе небольшую тетрадку в синей обложке.
— Вот то, что вы желали… Здесь все оставшиеся стихи моего друга Николая Бараташвили. Когда-то он подарил мне эту тетрадь… Если хотите, можете остаться в этой комнате. Читайте, а я должна спуститься к гостям…
Но она ушла не сразу.
Пока Чавчавадзе читал, она стояла у окна, словно вглядываясь в мутную черноту декабрьской ночи.
О чем она думала? Какие воспоминания тревожили ее? А может быть, перед ее глазами вновь встал тот далекий день в жарком по-летнему Тифлисе…
…Катя сидела на скамейке в саду. Это было ее любимое место. Сюда убегала она отдохнуть под густыми ветвями старого платана. Завтра для нее наступит новая жизнь. Все решено: она выходит замуж. Прощай, юность, привольная и веселая, проведенная в отчем доме, который, впрочем, ей уже наскучил. Ничего… Будь что будет!
— Катя!..
Она обернулась. По дорожке к ней направлялся юноша. Он чуть прихрамывал.
— А, это ты, Тато.
— Да… Я знал, что застану тебя здесь.
— Садись, Тато. Как твои дела?
— Дела?.. Послушай, Катя. Завтра ты… выходишь замуж. Я не приду на свадьбу… Нет, нет. Так будет лучше. Я уезжаю, дела ждут меня. Я пришел тебя… поздравить и вот… — Он протянул ей тетрадь в синем переплете. — Здесь самое дорогое, что у меня есть… Это мои стихи. Пусть они будут моим свадебным подарком тебе.
— Спасибо, Николай, спасибо. Я всегда буду хранить их, поверь. Ты ведь мой лучший друг!..
Щедрое летнее солнце посылало свои лучи на землю. Казалось, оно хотело обогреть все, словно говоря: «Радуйтесь, что я есть. Пройдет немного времени, и наступит осень. Тогда меня не будет!..» Но крупные ярко-зеленые листья платана желтели от жары и сворачивались в трубочки…
Княгиня встряхнулась. Она взглянула на Чавчавадзе. Илья сидел неподвижно, охватив голову руками и целиком уйдя в чтение. На стене огромным черным пятном лежала тень от его фигуры. Неслышными шагами княгиня вышла…
Чавчавадзе дочитал последнюю страницу, но долго еще сидел не двигаясь. Некоторые из этих стихов были известны ему — они печатались в «Цискари», — но все прочитанное вместе производило ошеломляющее впечатление: «Мерани», «Раздумья на берегу Куры», «Злой дух»… «Вот оно, сокровище! Я держу его в руках… Страшно подумать, что столько лет о нем ничего никому не известно», — так думал Илья.
Снизу доносилась музыка. Там по-прежнему гремела мазурка, кружились дамы в легких бальных нарядах, мерцали свечи и звенели бокалы. Темная декабрьская ночь висела над городом, словно некий бесславный символ эпохи.
* * *
Он умер двадцати восьми лет, оставив всего сорок два стихотворения. Он был почти потерян для потомства.
Грузинский народ дважды открывал гения своей поэзии. В пятидесятые годы журнал «Цискари» впервые напечатал его стихи, когда поэта уже не было в живых.
Второй раз — в 1893 году, когда прах поэта перенесли из Гянджи в Тифлис. Это было небывалое шествие, великая демонстрация национальной гордости.
Гроб переходил из рук в руки — с вокзала до Дидубийского Пантеона. Женщины плакали, матери заставляли детей становиться на колени перед прахом поэта, возвратившегося на родину. Народу было так много, что, когда гроб уже предали земле на Дидубийском кладбище, конец шествия еще не двинулся с Вокзальной площади.
Хоронили человека, который при жизни не увидел ни одного своего стихотворения напечатанным; никто не услышал думы его на берегу Куры; никто не увидел стремительный бег его Мерани…[12]
Каждый грузин с необычайной любовью и нежностью вспоминает имя Николая Бараташвили еще и потому, что национальный гений страны погиб где-то на чужбине, работая в пыльной канцелярии, трясясь в лихорадке, сгорая от воспаления легких, одиноким, без родных и друзей, заброшенный и забытый всеми.
Прошло много лет после гибели поэта, и его стихи, впервые появившиеся на страницах «Цискари», стали настоящим откровением для многих. Н. Бараташвили явился слишком рано для своей эпохи, не готовой еще для восприятия философии поэта. Это была трагедия человека, на десятки лет опередившего современное ему общество. Такие люди либо гибнут, либо становятся властелинами дум. Бараташвили погиб — и стал настоящим властелином дум.
Его не было в живых, но незримо он как бы присутствовал во всей второй половине девятнадцатого столетия, и вот сегодня родная земля принимала его останки, сегодня народ воочию убедился в смерти своего поэта, слова которого помнили все:
Но мы сыны земли, и мы пришли
На ней трудиться честно до кончины.
И жалок тот, кто в памяти земли
Уже при жизни станет мертвечиной.
Это был человек с большой душой, истерзанной противоречиями; жизнелюб и мудрец, внезапно оборвавшаяся струна во время исполнения гимна жизни и солнцу.
…Хоронили поэта. Он любил наблюдать наступление сумерек, тишину осенней ночи, переливы поверхности реки под лучами луны. И в то же время любил он залы, освещенные яркими люстрами, игры и танцы, встречи с друзьями на веселом пиршестве или за шахматным столиком.
Трудно себе представить более скромного влюбленного, чем он в своей «Ночи на Кабахи», и более смелого, чем в стихотворении «Серьга».
У человека, который был так одинок на своей родине и которому после смерти пришлось полвека дожидаться, пока ему открыли двери Пантеона Грузии, мало было духовных родственников среди современников. Это был человек титанических устремлений, который не мог примириться с режимом полицейского государства и господства кошелька лавочника.
* * *
Осень в этом году была холодная. Непрерывно шли дожди, но даже когда они ненадолго прекращались, погода оставалась мрачной и пасмурной. Ветер нес рваные облака. В сумерках они казались парусами, словно эскадры неведомых завоевателей сходились к Тифлису, становясь на рейд за темнеющими горами.
Быстро опустился вечер. В домах зажигались огоньки. Со стороны Мтацминдской церковки доносились удары колокола, и глухой тоскливый звон рассыпался в отсыревшем воздухе.
По слабо освещенной улице поднимался человек. Он был одет в дорожные сапоги; легкий плащ, стянутый у шеи черным шнурком, и плещущий по ветру ярко-красный шарф придавали его фигуре воинственный вид. В руках он держал старый, видавший виды цилиндр с ленточкой, и на курчавые волосы падали редкие капли дождя.
На углу, в тени дома, человек остановился. Нервно теребя перчатки, оглянулся и тихо спросил:
— Петр, где ты там потерялся? — По-видимому, он обращался к слуге.
— Я тут, — ответил незримый, кого звали Петром.
— Быстрее, быстрее, у нас очень мало времени, — взволнованно сказал человек в плаще, и они пошли дальше. — Где-то здесь нас должны ждать. Да, я уже вижу, вон они!
Две фигуры двинулись к ним навстречу.
В доме поэта Александра Чавчавадзе ждали гостей — все было сделано для того, чтобы они пришли незамеченными, — во всех помещениях погасили огни, кроме маленькой залы на втором этаже, окна которой выходили во двор. Хозяин сам стоял у калитки. Те, кого он ждал, должны были войти с черного хода.
Александр Чавчавадзе напряженно всматривался в темноту. Почему они задерживаются? Что-нибудь случилось? В такое время все может быть. Нет, вот они, слава богу.
Четыре фигуры вынырнули из темноты.
— Сюда, сюда, — тихо позвал Чавчавадзе и вышел навстречу.
В небольшой зале богатого дома собралось немногочисленное общество самых близких друзей и родственников: поэты Григол и Вахтанг Орбелиани, Манана Орбелиани и младшая дочь Александра Чавчавадзе — Екатерина. В уголке на диванчике сидел ее двенадцатилетний товарищ Нико Бараташвили, которого в семье звали просто Тато.
Двери залы распахнулись. На пороге стояли хозяин дома и курчавый молодой человек в дорожных сапогах.
— Господа, — тихо сказал Чавчавадзе, — разрешите представить: Александр Сергеевич Пушкин…
Свет притушили. В полутьме внимательно слушали собравшиеся стихи Пушкина. Он читал мастерски. Его лицо скрывалось в тени, голос, звонкий и чистый, казалось, заполнил все уголки комнаты.
…На холмах Грузии лежит ночная мгла…
Притаившись в углу, маленький Нико жадно слушал и запоминал все слышанное…
Старинные стенные часы пробили двенадцать раз. Александр Сергеевич поднялся:
— Извините, господа, я должен откланяться…
Все тоже встали. Григол Орбелиани с чувством пожал ему руку и сказал:
— Поверьте, этот вечер самый счастливый в моей жизни. Какие изумительные стихи!..
— Великолепные, — поддержала его Манана. — Если бы вы могли прийти к нам еще…
— Спасибо… спасибо, — улыбнулся Пушкин.
Гости вышли на улицу.
Над Тифлисом плыла осенняя ночь. Где-то внизу мерцал редкими огнями большой город. Ветер усилился. Он налетал порывами, подхватывая полы плащей и шинелей, теребил волосы. Все так же мчались с гор облака, чуть подсвеченные луной.
Катя и Нико остались в темноте. Они молчали. Говорить не хотелось. Еще слишком свежо было впечатление, казалось, еще звучат чеканные рифмы пушкинских строк. Наконец Катя прервала молчание:
— Я думала, ты покажешь Александру Сергеевичу свои стихи. Ты же хотел.
— Нет, — отозвался Нико, — я знаю: все мое очень слабо… Но все равно, — сказал он немного погодя, — я напишу хорошо, вот увидишь!.. Ты еще прочтешь книгу стихов Николая Бараташвили…
Но все оказалось не так просто, как хотелось двенадцатилетнему мальчику. Книгу своих стихов он так и не увидел никогда. В силу, многих обстоятельств он стал мелким чиновником. На него смотрели свысока, люди вокруг жили сплетнями, подлостями, интригами.
Он мстил им насмешкой, злыми эпиграммами. Дошло даже до дуэли с родным дядей Ильей Орбелиани. Правда, все кончилось выстрелом в воздух, но дело было не в этом…
Николоз стал раздражительным, желчным, бесконечно язвил. Ученого-богослова историка Платона Иоселиани довел однажды до бешенства игрой слов: «богослов» — «бог ослов».
Многие ненавидели поэта за его язык, считали его заносчивым. Стихи его были настолько новы и необычны, что даже близкие и друзья не понимали их.
Бараташвили мучился.
«Даже и тому, у кого есть цель жизни, — писал Нико 1 октября 1842 года Майко Орбелиани, — нет отрады в этом мире, а уж что сказать о том, кто подобно мне, знаешь сама, давно уже сир и одинок. Не поверишь, Майко! Жизнь опостылела от такого одиночества! Вообрази себе горечь человека, находящегося в моем положении, у которого есть и мать, и отец, и братья, и множество родных; и все же ему не к кому подступиться, и все же он сир в этом пространном, полном людьми мире. Того, кого я мнил носителем высоких чувств, узрел я человеком без сердца; чей дух казался мне развитым, тот оказался бездушным… Но говорю правду, что столь хладного суждения я еще не имел. Во мне теперь такая свобода мысли и твердость сердца, что и шестидесятилетний старик не может быть судьею более неподкупным».
Полутемная зала суда…
Уже давно разошлись чиновники. О, как ненавидит их Бараташвили! Сколько раз он слышал за спиной ядовитое перешептывание: «Князь-то наш стишки пописывает, хе-хе…» Они никогда не поймут его. У них свои заботы: жены, дети, очередная прибавка к жалованью… Бог с ними.
Бараташвили сидит за столом. Он пишет. Нет, не стихи — письмо. Поскрипывает перо…
«Непонятность предмета нашего назначения, беспредельность человеческих желаний и ничтожность всего подлунного мира наполнили мое сердце страшной пустотой. Если бы у меня было маленькое независимое имение, сейчас бы оставил я и мир и человека с его ненасытностью и невозмутимо и спокойно, по-старинному, провел бы свою простую жизнь на лоне простой природы, которая так величественна и прекрасна в нашей родной стране».
Бараташвили подписывает адрес на конверте: «Захарию Орбелиани», потом, подумав, добавляет к письму еще несколько строк: «Гром славы и звук оружия не имеют уже для моего слуха магического значения, — оставь службу, займись имением. И это другая слава — сделать счастливыми своих крестьян…»
* * *
Николоз Бараташвили рано стал писать стихи. Детство он провел в доме своего отца — князя Мелитона Бараташвили. Представитель знатного, но обедневшего рода, хорошо образованный по своему времени человек, князь Бараташвили служил переводчиком при наместниках Кавказа — Ермолове и Паскевиче. Несколько раз он избирался предводителем дворянства Тифлисского уезда.
Его дом посещали видные поэты и общественные деятели Грузии того времени: Александр Чавчавадзе, Игнатий Иоселиани, Григол Орбелиани и другие.
Любознательный и впечатлительный мальчик внимательно прислушивался к разговорам взрослых. Он мечтал стать таким же, как дядя Григол, или как отец — высоким, красивым, затянутым в мундир с серебряными пуговицами, с саблей на боку. Он мечтал стать военным.
Николоза отдали в тифлисскую Колоубанскую приходскую школу, а затем он перешел в Тифлисскую «благородную гимназию». Нико учился хорошо. Он был веселым и остроумным мальчиком, любившим всякие проказы и шутки.
Гимназисты издавали рукописный журнал «Цветок Тифлисской гимназии» на русском языке, в котором сотрудничали друзья Нико — М. Туманов (Туманишвили), впоследствии довольно известный поэт, один из первых переводчиков Пушкина на грузинский язык, И. Андроников (Андроникашвили) и другие.
В журнале публиковались стихи русских и грузинских поэтов, статьи по древнегрузинской и русской литературе.
Николоз Бараташвили много писал. Его едкие эпиграммы пользовались успехом. Кроме того, он начал большую поэму «Иверийцы», в которой патриотически воспевалась Грузия X–XII веков.
Способному мальчику прочили большое будущее, однако с ним неожиданно произошло несчастье. Николоз упал с лестницы и повредил ногу. О военной службе не могло быть и речи. На поступление в университет не хватило денег, и Бараташвили, окончив в 1835 году гимназию, поступил на службу в «Экспедицию суда и расправы».
«…Я хотел стать военным, с этим желанием я рос, оно и теперь порой закрадывается в мое сердце. Что же помешало мне, раз у меня было такое желание? А вот что помешало: препятствием к тому родные ставили мою хромоту — «иначе, как в команду инвалидов, никуда, — говорят, — не примут». И это тогда, когда моя нога находилась да и сейчас находится в лучшем состоянии, так, что я и прыгаю и танцую по своему обыкновению. Узнав об их отказе и неудовольствии, я попросил хотя бы отправить меня в университет, с тем что если идти мне по штатской, то идти хоть там…
К несчастью, заболел в это время мой отец и, больной, так отвечал на мою просьбу: «Сын мой, ты видишь, каковы наши домашние обстоятельства. Я, быть может, не осилю эту болезнь. Разве ты не возьмешь на себя попечение о доме?» Я… покорился своей жестокой судьбе, хотя иногда поднимается во мне злое намерение сразиться с ней: или гибель моя, или осуществление моего желания!» — так пишет поэт своему дяде Григолу Орбелиани, который находится в изгнании за участие в заговоре 1832 года грузинских дворян против русского владычества в Грузии.
Потомок Багратионов, за мизерное жалованье он служит в пыльной канцелярии, хотя ему ненавистна нудная канцелярская работа, рассмотрение тяжб и споров, составление бесконечных «формулярных списков» и «докладных реестров», дела по опеке разоренных дворянских имений.
Отец обанкротился. Семья обнищала, и Николоз превратился в кормильца семьи.
Такова была судьба человека, чья философская лирика, по выражению критика, своей искренностью и глубиной напоминает псалмы Давида.
Служба в канцелярии угнетала Бараташвили.
Правда, в дневные часы он часто отлучался, порой, казалось, бывал рассеян, но когда глава учреждения, подозрительно относившийся к Бараташвили, провел как-то неожиданную ревизию, он был приятно поражен, найдя все дела в полном порядке.
— В таком случае продолжайте бегать, сколько душе угодно, — сказал он.
Эти последние годы в Гяндже — самые тяжелые в жизни поэта. Никогда еще он не чувствовал себя Таким одиноким. Не понятый теми, к кому он всегда относился с искренним уважением, вынужденный заниматься неинтересной, нудной работой только для того, чтобы прокормить разорившуюся семью, он глубоко разочаровался в жизни:
…Кто был в своем доверии обманут,
Тот навсегда во всем разворожен.
Как снова уверять его ни станут,
Уж больше ни во что не верит он.
А ведь именно в эти годы Бараташвили создал самое значительное свое произведение — «Судьбу Грузии».
Судьба Грузии… Как много звучит для грузина в этих словах! Здесь и судьба народа, и судьба большой культуры, заложенной еще на заре цивилизации, и судьба этих высоких гор и бурных рек, которые столь много значат для любого, кто рос на их берегах и склонах.
Судьба Грузии решалась в те страшные дни, когда истерзанная страна буквально истекала кровью. Последняя попытка царя Ираклия II отстоять независимое государство окончилась неудачей. Мудрый государственный деятель понял, что надо выбирать: или единоверная Россия, или Турция и Иран, издавна стремящиеся установить свое господство на Кавказе.
Старый царь Ираклий говорит в поэме с ближайшим своим советчиком — верховным судьей Соломоном Леонидзе:
…Русские — прославленный народ,
И великодушен царь России…
. . . . . . . . . . . . . .
Кажется, я передать решусь
Власть над Грузией его державе.
Леонидзе потрясен; страстный борец за независимость Грузии, он не хочет понимать, что в новых условиях страна не выстоит против бесчисленных врагов. Долго разъясняет царь своему помощнику:
Для страны задача тяжела —
Вечно воевать и весть сраженья.
Царь непоколебим. Он видит дальше, он твердо уверен — будущее Грузии только в союзе с Россией.
И Бараташвили целиком присоединяется к этому решению.
Патриотизм Бараташвили не поверхностный, а глубокий, серьезный, основательный.
Свою историческую концепцию Бараташвили выразил более четко через четыре года в стихотворении «Могила царя Ираклия»:
Как оправдалось то, что ты предрек
Пред смертью стране осиротелой!
Плоды тех мыслей созревают в срок.
Твои заветы превратились в дело.
Изгнанников теперешний возврат
Оказывает родине услугу.
Они назад с познаньями спешат,
Льды Севера расплавив сердцем Юга.
* * *
Однажды к Николозу пришли друзья. Он сидел в своей маленькой комнате за письменным столом. Светило солнце. В раскрытое окно доносился шум большого города: кричали мальчишки, раздавался стук копыт по торцам мостовой, в саду пели птицы.
— Слушай, Нико, пойдем с нами вечером в одно место, — сказал один из пришедших.
— Куда?.. — равнодушно спросил Бараташвили.
— О!.. Ты не угадаешь. Мы приглашаем тебя в церковь…
— В церковь? — удивился Никодоа… Он никогда не был верующим, да и друзья его вряд ли были «примерными христианами». — Нет, я не пойду, — сказал он.
Друзья знали характер Бараташвили. Он говорил обычно негромко, вполголоса, но свои решения, даже в мелочах, менял крайне редко.
— Николоз, дело тут не совсем обычное. Ты слышал что-нибудь о монахине Софье? Нет? Это интересная история…
— Что же, расскажи, — Бараташвили присел на подоконник.
Перед ним был сад, зеленый на фоне голубого неба. Вдалеке синели горы. Одинокая ветка чинары качалась под самым окном. Николоз притянул ее рукой.
— История такая, — продолжал друг. — В селении Цхрамуха, знаешь, недалеко от Мцхета, жила красивая девушка. Многие парни заглядывались на неё, но лишь одному отдала она свое сердце. Часто встречались влюбленные, уходили в горы, вечера просиживали на берегу небольшой, но бурной речки, наблюдая, как бежит она по камням, стремясь вниз в долину между зеленых тенистых берегов.
«Ты любишь меня, любимый?» — спрашивала девушка.
«Люблю, моя любимая», — отвечал парень, ибо так оно и было на самом деле. Они действительно любили друг друга со всем пылом молодых сердец.
Знали об их взаимной привязанности! и родители, причем старики ничего не имели против: работящая девушка, неглупый красивый парень. Пусть дружат, пусть любят друг друга: хорошая свадьба будет осенью.
Казалось, ничто не мешало счастью влюбленных. Как зеленое лето, цвела их любовь. Но судьба решила иначе.
Однажды, когда девушка направилась к месту их обычной встречи — старому дубу на берегу, еще издалека донеслись до нее крики и шум схватки. Девушка пошла быстрее, потом побежала.
Страшная картина предстала перед ее глазами, когда раздвинула она кусты на вершине горы: человек пятнадцать разбойников-лезгин связали ее возлюбленного, бросили в седло и собирались в путь.
— Милый!.. — крикнула девушка что есть силы. — Милый мой!..
Но лезгины, услыхав этот крик, вскочили на корней и помчались прочь.
Десятки юношей бросились вслед за ними, когда вне себя от горя прибежала она в селение. Но погоня ничего не дала.
Тридцать три дня плакала девушка, а на тридцать четвертый ушла пешком в Тифлис, чтобы поступить в монастырь.
Так рассказывают в народе.
— Да… — задумчиво проговорил Бараташвили, — красивая легенда.
— Ты можешь увидеть эту легенду в сумерки, у выхода Мтацминдской церкви. Она приходит туда к вечерне.
— Хорошо, — сказал Николоз, — я пойду туда.
Повесть о трагической любви сильно взволновала его.

Александр Чавчавадзе.

Тифлис. Слева — Метехский замок С картины Г. Гагарина (XVIII в.)
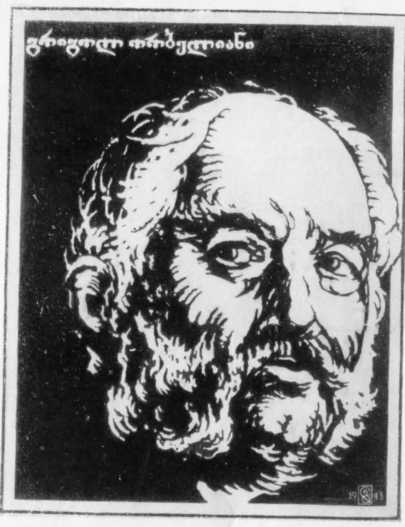
В. Григолия. Портрет Григола Орбелиани.

Ладо Гудиашвили. Портрет Николоза Бараташвили.
В назначенный час они были у Мтацминды. Темнело. Очертания величественной горы медленно таяли в тумане. Тихий вечер нес запах цветов, сена и сосновых шишек.
Монастырь Мтацминда, небольшое здание с узкими окнами, воздвигнутое на площадке, вырубленной в самом теле скалы, был освещен последними бликами заходящего солнца. Из церкви доносилось тихое нестройное пение. Но вот оно стихло. Стал выходить народ.
— Вон она, вон, гляди!
Но Бараташвили видел и сам: бледное, с огромными скорбными глазами лицо монахини поразило его. Казалось, печаль этих глаз проникает в самое сердце, жжет, не дает покоя.
— Как прекрасна! — тихо проговорил друг.
— Замолчи! — неожиданно резко бросил Николоз. Он сам не знал, что с ним. Волна тревожной нежности охватила его. Все, что он пережил, все, что ему еще суждено было испытать, с невероятной четкостью предстало перед ним. Величавая гора, сумерки, женщина невиданной красоты и печали… Он круто повернулся и пошел прочь. Сами собой складывались строки:
Молчат окрестности. Спокойно спит предместье.
В предшествии звезды луна вдали взошла.
Как инокини лик, как символ благочестья,
Как жаркая свеча, луна в воде светла…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда на сердце ночь, меня к закату тянет.
Он — сумеркам души сочувствующий знак.
Он говорит: «Не плачь. За ночью день настанет.
И солнце вновь взойдет. И свет разгонит мрак».
Образ нетленной женской чистоты, не только внешней, но и внутренней, навсегда вошел в поэзию Бараташвили, став символом его отношения к любви, к женщине. И если впоследствии он написал гениальные строки:
Мужское отрезвленье — не измена.
Красавицы, как вы ни хороши,
Очарованье внешнее мгновенно.
Краса лица — не красота души, —
То вовсе не оттого, что разуверился в красоте женской души, а скорее оттого, что в жизни этой красоты ему встретилось мало, прискорбно мало.
Через всю свою жизнь пронес Николоз Бараташвили любовь к одной женщине — Екатерине Чавчавадзе, той самой Кате, которая привела его когда-то в дом отца послушать Пушкина, предупредив, чтоб он никому ничего не говорил.
Но любовь эта была несчастливой. Екатерина Чавчавадзе вышла замуж за мегрельского принца Дадиани, обстоятельства жизни не позволили ей принять любовь поэта Николоза Бараташвили.
Разбитый и мрачный стоял Николоз на венчании своей возлюбленной и принца Дадиани в Сионском соборе. Свидетелями скольких таких страданий были стены этого замечательного храма! А желтые камни его будто вчера отшлифованы, будто только вчера вырубили их в далеких карьерах в грузинских горах.
Быть может, пред этим алтарем стояла царица Тамар под венцом, а где-то в дальнем углу притаился Шота Руставели…
Если бы эти стены умели говорить! Сколько могли бы поведать они! А крест из виноградной лозы, по преданию принадлежавший просветительнице Грузии Нине Каппадокийской, обвитый ее косой…
Как мраморное изваяние древних греков, стояла она перед богом, и тихие, словно убаюкивающие, голоса хора переносили поэта в совершенно иной мир.
…Ты силой голоса
И блеском исполненья
Мне озарила жизнь мою со всех сторон,
И счастья полосы,
И цепи огорчений.
Тобой я ранен и тобою исцелен.
Он вышел. Узкая улочка была запружена народом; многие залезли на колокольню, заняли крыши соседних домов. Даже из крепости Нарикала, как щит стоящей напротив церкви, высыпал народ, чтобы увидеть интересное зрелище — ведь не каждый день женятся принцы и цари! Тем более в наше время, их стало так мало.
Николоз свернул налево, вышел к Шах-Абасской мечети, посмотрел на гору — как гнезда, лепились один над другим дома с причудливыми, висящими и открытыми верандами или балконами с красивой резьбой. Так они вздымались Один над другим все выше по древним склонам Нарикалы. На противоположной стороне возвышался Метехский замок, внизу протекала Кура, а на скалистом левом побережье висели дома прямо над водой. Он остановился на мосту и долго стоял одинокий, смотрел вниз, будто беседуя с волнами Куры.
…Иду, расстроясь, на берег реки
Тоску развеять и уединяться.
До слез люблю я эти уголки,
Их тишину, раздолье без границы.
. . . . . . . . . . . . . . .
Свидетельница многих, многих лет,
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?
. . . . . . . . . . . . . . .
Эти строки наполнены разбитыми надеждами, несбывшимися мечтами и тяжестью разочарования.
…Нет, мне совсем не жаль сирот без дома.
Им что? Им в мир открыты все пути.
Но кто осиротел душой, такому
Взаправду душу не с кем отвести.
. . . . . . . . . . . . . . .
Но одинок уже неповторимо.
Не только люди — радости земли
Его обходят осторожно мимо,
И прочь бегут, и держатся вдали.
Энергичная натура Николоза Бараташвили ищет деятельности, а вокруг все затхло: сонное царство, изо дня в день одно и то же.
«В то время, — пишет его товарищ, Константин Мамацашвили, — в Тбилиси некуда было пойти, не было ни концертов, ни клубов, наше времяпрепровождение — это или вместе где-нибудь пообедать, или собраться вечером. Часто собирались мы, молодежь, либо у Николая Бараташвили, либо у Т. Л. Меликишвили, или же на обед в каком-нибудь пригородном саду.
Проводили время так: беседовали о современной литературе, об учебе, о разных случаях, касающихся нас… Шутили, веселились, пели. Кто хотел, играл в карты, в нарды, в шахматы. В карточной игре иногда участвовал Николоз Бараташвили, потом товарищеский ужин, и после ужина гуляние в лунную ночь на улицах, а иногда и в садах».
И Бараташвили будто плыл по течению, но в глубине души протестуя, не в силах примириться. Он еще в детстве видел настоящую жизнь крестьянина у своей горийской кормилицы, он и рос в этой среде. И в его душе рождалась, росла злая ирония. Об этом говорят коротенькие, но полные сарказма письма к родственникам.
Дяде Григолу он писал: «У полка сменили командира… У Каплана родился сын, хочет устроить великие крестины… На бакенбарды нашего большого Платона ночью легла кошка и так запутала их, что он никак не может расчесать их…»
Он словно хотел сказать: вот так мы живем, ничего особенного у нас не случается, все по-старому, но именно это страшно!
Ему кажется, что жизнь прожита. Ничего не изменится в ней к лучшему. Все зыбко и неустроенно. Думы тоже не приносят облегчения, скорее наоборот — они нагоняют тоску. В его стихах начинают преобладать мотивы скорби и «вечной печали».
Чей это странный голос внутри?
Что за причина вечной печали?
Не напрасно он писал Майко Орбелиани: «Если думаешь, — то о чем, все равно не бесконечны твои думы. Если думаешь получить что-либо, то все равно потеряешь его. Укажи человека, довольного этой жизнью… Лучше похорони красоту души, чистоту сердца… на чужое счастье взирай хладнокровно, гордо и верь, что оно преходяще!..»
И все-таки, казалось, совершенно сокрушенный жизнью поэт находит в себе силы для создания таких шедевров, как «Синий цвет». Изумительной чистотой проникнуто это стихотворение:
…Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
. . . . . . . . . . . .
Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый, зимний дым
Мглы над именем моим.
Поражает многогранность его мысли, благородство и смелость его образов, музыкальность и нежность его стиха.
Многие считают лучшим стихотворением Н. Бараташвили «Мерани». Романтика пути, вечная тема дороги раскрываются в нем с потрясающей достоверностью. Недаром эти стихи заучивались наизусть, переписывались, читались и читаются с неослабевающим интересом.
Вперед, вперед, не ведая преград,
Сквозь вихрь, и град, и снег, и непогоду!
Ты должен сохранить мне дни и годы…
……. . . . . . . . . . . . . . . . .
Я слаб, но я не раб судьбы своей,
Я с ней борюсь и замысел таю мой.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый.
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.
Но эти строки не просто романтика, не просто вечная дорога — в них отчетливо слышны искания и надежды, героическая борьба и неудержимый порыв. Герой Бараташвили готов погибнуть в схватке с врагом, если этот подвиг проложит путь грядущим поколениям. В этом весь поэт.
Его творчество положило начало реализму в грузинской поэзии — дороге, по которой пошли Важа Пшавела и Галактион Табидзе. Мир, созданный в стихах Николая Бараташвили, увиден глазами человека широкой души, намного опередившего свою эпоху, человека, познавшего всю горечь современной ему жизни и безгранично верящего в торжество светлого и красивого.
Вот почему его бессмертный Мерани по-прежнему несется в будущее.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Вадим ЧЕРНЯК ПУТЬ И ГИБЕЛЬ «НОЕВА КОВЧЕГА»
Вадим ЧЕРНЯК ПУТЬ И ГИБЕЛЬ «НОЕВА КОВЧЕГА» Воспоминания К. Герасименко возвращают нас в один из самых драматических и противоречивых периодов истории Украины — годы гражданской войны. Об авторе, к сожалению, почти ничего не известно. Судя по его собственным словам, он
МЕРАНИ
МЕРАНИ Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу любую, Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду. Мчись, Мерани [2], пока не паду я на землю сырую! С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю! Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость страстная — Над водою,
Черняк и Беляк
Черняк и Беляк В старину сказывали, что за каждым человеком, весь его век приглядывают два брата — Черняк и Беляк. Первый брат все дурные поступки считает, а второй — все хорошие запоминает.Задумал один вещий волхв разузнать, кто такие эти братья, и поведать о том людям.
Вадим Черняк
Вадим Черняк С Черняком меня познакомил в начале семидесятых годов Дима З., наш общий приятель. Незадолго до этого в «64» было напечатано одно стихотворение Черняка, и я при первой встрече прочитал его наизусть. Так, как оно мне запомнилось, хотя перечитав эти стихи сейчас,