Софья Гвелесиани ВАЖА ПШАВЕЛА
Софья Гвелесиани
ВАЖА ПШАВЕЛА
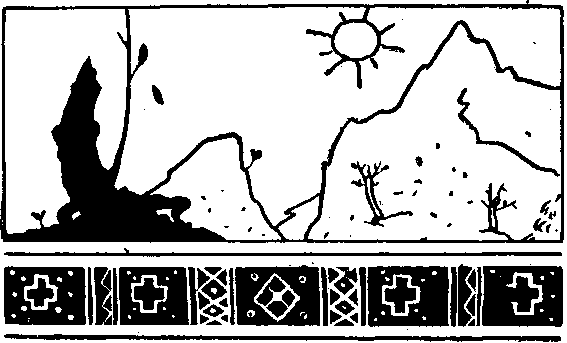
Вьется дорога. Чуть поодаль, устремляясь к ней, мечется по камням бессонная Чаргали. Кажется, вот-вот в последнем порыве оторвется она от своего вековечного ложа. Но нет, не хватает силы, разбивается о берега речушка, и только отдельные капли — слезы ее бессильной ярости — достигают исхоженной людьми дороги. И день и ночь следит за этой борьбой старый дремучий лес. Стоит, насупив брови-ветви, и само солнце не решается проникать сквозь густое сплетение его зелени. Огромным богатырским войском окружают эту местность горы. Вот уже который век на могучих плечах своих держат они само небо, то улыбчивое, синее, как горный цветок — пиримзе, то грозное, хмурое, серое, как Арагва в непогоду.
Вглядевшись в местность попристальнее, различишь тут и там селения. Но полно, селения ли? Уж если это и селения, то, верно, живут в них необыкновенные люди. Люди особой стати — богатыри и поэты.
Так и есть. Живут здесь пшавы, грузины-горцы. Каждый — богатырь; нет для каждого ничего более дорогого, чем родина и оружие, которым он ее защищает. И почти каждый — поэт, гордый своим — большим или малым — умением.
Многих поэтов знала Пшавия, Но славу всех их затмила слава одного. Его не напрасно назвали Мужем пшавским, и не напрасно он, Лука Павлович Разикашвили, прозвание это поставил как подпись к своим поэмам, стихам, пьесам и рассказам.
Важа Пшавела, великий поэт грузинской земли родился здесь, в ущелье, в селении Чаргали 14 июля 1861 года. Жизнь его и обычна и необыкновенна, словно бы лишена ярких событий и вместе с тем богата ими.
Жизнь его скромна и величественна, как его родная природа.
* * *
«Увидел Миндиа, как пожирают змеиное мясо свирепые каджи, а подумал; «Не будет мне от них пощады. Лучше смерть, чем бесславная жизнь в плену». И когда ушли каджи, подошел Миндиа к огромному котлу, где в кипящей воде варилось змеиное мясо. И решил он съесть змеиное мясо, чтобы умереть. И съел он змеиное мясо, но не умер, а набрался от него мудрости и начал понимать язык растений. Идет он и слышит, как одна травинка шепчет ему: «Сорви меня, я вылечу от лихорадки», А другая говорит: «Сорви меня — я успокаиваю зубную боль». И третья просит: «Сорви меня, съешь, и ты избавишься от простуды». И Миндиа слушался совета, и стал он врачевать болезни…»
Маленький крепыш буквально впился глазами в рассказчика. И не замечает даже, как жарко — и оттого, что сегодня в их гостеприимном доме собралось много народу, и от пылающего очага, и оттого, что нарядная одежда его слишком тепла для этого времени года.
Рассказчик давно уже умолк. Взрослые заговорили о неинтересном, братья затеяли возню, но маленький Лука думает только о Миндиа. Неужели и обыкновенный человек может понять шелест травы? Но ведь он, Лука, не совсем обыкновенный. Вот мама вспоминает, что, когда Лука родился, у него были такие длинные волосы, как у богатыря Самсона. Они падали чуть не на глаза, и пришлось их остричь.
Эх, почему она это сделала!
Лука осторожно выходит из дому. Луна, этот огромный светильник, кругла, как каменные голыши, что приносит с собой река. Мальчик прислушивается. Тихо. Молчат, заснули, наверное, травинки и деревья. Но со стороны дороги слышится злобное сопение, а порой как будто и стон. Лука, знает: это Чаргали пробивает себе путь, и это дело нелегкое.
— Лука! Лука! — раздается голос матери.
Мальчику возвращаться в дом неохота. Сладким медом тянет от сложенного неподалеку сена. И таким же сладким показалось ему коровье мычанье, словно подчеркнувшее вдруг застоявшуюся тишину.
Гулкана, мать, уже вышла на балкон.
— Мальчик мой дорогой, пора тебе кушать и спать пора.
Даже не глядя на мать, мальчик видит ее доброе, кроткое лицо. Не хватает у него духу отмалчиваться:
— Иду, мама!
А в доме беседой завладел уже брат матери, дядя Параскев. Гости весело хохочут. Уплетая хлеб со свежим овечьим сыром, маленький Лука вместе со всеми смеется над жадным купцом, которого наказала женщина. Позже, когда Лука вырастет, он сам поймет, какие умные и гордые женщины есть в пшавских селениях, он напишет о них в рассказе «Дареджан», в поэме «Бахтриони», которую посвятит борьбе за освобождение Грузии. А пока — пока Лука просто гордится своим дядей, которого так внимательно слушают степенные, суровые пшавы.
Лука уже умеет читать и писать — его научил отец. Дядя Параскев не знает грамоты, но во всей Пшавии никто не слагает стихов лучше, чем он.
«Чем он и мама», — поправляет себя мальчуган.
С этой мыслью он и засыпает. А на другой день отец отвозит мальчика в Телави, в духовное училище.
* * *
В училище было скучно. Зубрить латынь и греческий не хотелось, а к родному языку — грузинскому, что называется, не подпускали. Одна отрада — занятия русской словесностью. И учитель попался хороший. С увлечением слушает Лука былины, и русские богатыри надолго становятся одними из любимейших его героев, почти такими же, как руставелиевский Тариэл, библейский Давид, победивший Голиафа, Мзе-Чабуки, Давид Строитель… Но все же школа оставалась тюрьмой, а настоящая жизнь начиналась после уроков.
Лука проглатывает книгу за книгой. Но здесь, в Телави, его больше всего интересует астрономия. Поздними вечерами, вглядываясь в густую небесную синь, в мерцающие светила, он думает о том, как рождаются и умирают звездные миры. «Быть может, вон та огромная звезда умерла, погасла тогда, когда на земле еще не было ничего живого, а я еще вижу ее свет? А быть может, — дерзкая мысль! — там есть живые существа, есть люди, есть школы, и такой же подросток, как я, вглядывается в этот момент в землю? Быть может, мы и думаем об одном и том же?» Жутко и сладко Луке от этой мысли.
— Эй, Лука-а-а! — В вечерней тишине голос друга, неизвестно когда очутившегося рядом с ним на скамейке, показался оглушительным. — Где ты был? Завтра решили драться. Смотри запомни…
Лука кивнул головой и усмехнулся. Шота захохотал во все горло. Оба вспомнили, как на празднике алавердоба Лука уложил на обе лопатки шестерых своих соперников — взрослых! — одного за другим. Значит, и завтра победа будет за их классом. Да, ни в борьбе, ни в кулачном бою нет ему в Телави равных. Вот только с пением у него ничего не получалось. После Важа написал: «В юности у меня было обыкновение: если кому-нибудь люди приписывали какое-либо достоинство, то этим достоинством непременно должен был обладать и я…
Учеников духовного училища постоянно водили на службу в Телавский кафедральный собор, где служил один протодьякон. Этот протодьякон обладал могучим голосом, и все постоянно восхищались им: «Какой голос у Вано-протодьякона! Замечательный бас!» Меня это задело: «Если у Вано-протодьякона бас, то ведь и у меня должен быть такой же голос!» — пыжился я, убеждая себя в этом, и так насиловал свое горло, до такой степени надрывался, что у меня стала ныть грудная клетка… И вот, когда учитель пения подбирал голоса для училищного хора, у меня не обнаружилось ни баса, ни тенора. Он вообще не нашел у меня никакого голоса, чем я был страшно оскорблен. Свою обиду я умерял тем, что считал этого учителя придирой, почему-то. невзлюбившим меня, и ждал, когда придет другой учитель, который, наверное, оценит мой «бас». Уверить меня в том, что этим басом я не обладал, тогда никто не мог».
Но сейчас Луке не хотелось думать ни о своем басе, ни о борьбе. Из кармана ученических брюк он извлек карандаш и бумагу. Шота понял: Лука будет писать стихи. И осторожно отошел от товарища.
…Шесть лет проучился Важа Пшавела в Телави, после чего его перевели в Тифлисское городское училище. Пришел 1879 год. Важа Пшавела исполнилось восемнадцать лет. Училище он закончил, и возник вопрос: что делать дальше?
Теперь он понимал многое из того, что раньше казалось ему удивительным. И то, почему так радовался отец, когда маленький Лука быстро запоминал, буквы, а потом бойко выводил их на листике бумаги. В те минуты строгое лицо отца озарялось такой счастливой улыбкой, что Лука забывал о суровых отцовских выговорах, а посторонний мог бы, пожалуй, подумать, что Павле Разикашвили нашел клад и пока еще не думает, как упрятать его подальше. Когда Павле был юношей, родители запрещали ему учиться. Дед с ружьем гонялся за Павле: учение — дьявольское занятие.
— Дьявольское! — повторял про себя, сжав губы, Лука.
Назвать дьявольским то, что дарует человеку такую бескорыстную радость! Но кто мог поддержать юношу Павле? Пшавским ущельем правили в те времена хевисбери, гадалки и прорицатели. Именем святых покровителей пшавов налагали они налоги. Налоги в конечном счете шли в их же карманы. В подобных условиях грамотному человеку не порадуешься, ведь он и повредить может такому житью.
Он, Лука Разикашвили, один из немногих получивших образование пшавов. Ему нельзя останавливаться на том, чего удалось достичь.
И вот он в Гори, в учительской семинарии. Подобно тому как неудержимо тянется к земле бурлящий, клокочущий водопад, тянется к знанию Лука. Грузинская, русская, западноевропейская художественная литература… Труды по истории, социологии, философии, экономике. Юноша с гор становится высокообразованным человеком. Среди тех, кого он любит, Руставели и Гурамишвили, Белинский, Герцен и Чернышевский, французские просветители.
В семинарии было много книг — он прочел их все» он даже перевел на грузинский язык пьесу А. Островского и Н. Соловьева «Счастливый день» — перевод был послан семинарским начальством в Москву, на Российскую художественно-промышленную выставку.
В полном соответствии с поговоркой, утверждающей, что каждый грузин — поэт, в семинарии было немало «своих поэтов». Лука устраивал соревнования поэтов и выходил победителем в этих соревнованиях, как прежде в борьбе. Побежденные и после остались поэтами «для себя». — Важа Пшавела стал поэтом для народа. Правда, это было позже. Пока что его стихи помещались в рукописном журнале, издававшемся в семинарии.
В июле 1882 года Важа Пшавела заканчивает семинарию и направляется на работу в Амтнисхевскую школу села Толатсопели. Странную, на взгляд начальства, ведет он жизнь. Участвует во всех народных празднествах. В Толатсопели еще недавно можно было видеть (а может быть, можно и сейчас) огромный камень, который, соревнуясь с деревенскими парнями, поднимал Важа Пшавела. Теперь, утверждают старики, такого силача больше нет, камень этот поднимают нынче только вдвоем. На такие развлечения начальство готово было глядеть сквозь пальцы. Другое дело, что этот Лука Разикашвили не только учит детей грамоте — он обучает крестьян непокорству! Да вот вам пример. Какой-то горемыка пожаловался ему, что-де помещик требует с него да и с других крестьян большой оброк. Учитель Лука Разикашвили заявил ему, чтобы те не платили совсем. Разгневанный помещик послал одного из своих служащих угнать крестьянский скот. Лука Разикашвили так расправился с посланным, что тот теперь дрожит при одном звуке его имени! Помещик, конечно, пожаловался уездным властям. Кое-что у крестьян отобрали, но куда меньше, чем доставалось помещику раньше. Разикашвили и это не успокоило.
О происшедшем он написал в газету.
Заметка о событии, взволновавшем Толатсопели, не была тем, что теперь принято называть «письмом в редакцию». Важа давно уже писал в газеты, с 1878 года, еще в бытность учеником. Сперва это были корреспонденции о Пшавии и Хевсуретии для газеты «Дроеба», в последующие годы — фельетоны.
Братьев Разикашвили было пятеро. Старший, Георгий, учился в Петербургском университете. Оставшимся «не у дел» Важа с новой силой овладела мечта об учении. «Деньги, деньги, — вздыхал Важа, — Где взять вас?»
Случай помог ему.
Важа с приятелями-пшавами сидит в духане, который содержит известный в Грузии борец Кула Глданели. Кула узнает о мечте Важа. Он клянется: «Пусть умрет Кула, если не поможет тебе». И вот в Тианети Кула устраивает соревнования по борьбе. Он, знаменитый борец, участвует в состязании! Народу — масса. На доход с этого «матча» Важа едет в Петербург. С дипломом Горийской учительской семинарии в университет можно было поступить только вольнослушателем. Важа вносит требуемые двадцать пять рублей. Теперь он имеет право посещать лекции.
С каким интересом он это делает! Но у него есть враги — бедность и мороз; соединившись, они изгоняют пришельца. Важа покидает Петербург.
Дома все было таким же, как прежде, и новым. Грозный чаргальский лес казался приветливым и манящим, в шуме реки Важа чудились уже не стоны ярости, а радостный, ласковый смех. И небо, казалось, опустилось так низко-низко только для того, чтобы приветствовать его, своего будущего песнопевца и всегдашнего любимца. Только горы по-прежнему сурово несли свою стражу. И они любили его, но, как истинные мужи и воины, таили свои чувства. О горы! Сколько строк посвятит вам Важа Пшавела!
Туман у подножья горы
На горы глядит полусонно,
Вздымая седые вихры.
Но горы, как будто для песен,
Спокойно, расселись вокруг,
И круг их возвышенный тесен,
И выпуклы мускулы рук…
Радостной была встреча с родным селом. Но долго нельзя оставаться дома. Важа, которому суждено было стать любимейшим сыном поэзии, у жизни ходил в пасынках. Вот и сейчас ему надо было ехать в Отарашени домашним учителем в семью богатого помещика Амилахвари. Важа поехал. Но учитель и ученик быстро разонравились друг другу. Важа требователен, вспыльчив, крут, наследник Амилахвари интересуется не учением, корень которого, как известно, горек, а борьбой и охотой — развлечениями, только и достойными дворянина. Однажды, вспылив, Важа ударил дерзкого ученика.
С Амилахвари надо было расставаться. Одно веселило Важа — в этой семье, в этом доме он встретил свою будущую жену, Екатерину. Важа Пшавела писал впоследствии: «До той поры, пока, возмужав, я не решил жениться на той, кого я полюбил, я ни разу не осмелился признаться в своем чувстве кому-нибудь».
Снова — Чаргали. Но молодой паре трудно здесь. Нужен заработок. И вот Важа учительствует в селе Тонети. Нет, не «остепенила» женитьба бунтаря. Он такой же смелый и дерзкий, так же рьяно вступающийся за обиженного. Позже, на склоне лет, Важа напишет: «Талантливые писатели — врачеватели жизни, и если они отличны друг от друга, если врачуют различными лекарствами, то это дело степени их таланта и индивидуальности».
«Врачуя», Важа опять «не сработался». В 1886 году он возвращается в родное Чаргали, на этот раз навсегда. Теперь самые главные события его жизни — его поэмы. Первая из наиболее значительных — «Гоготур и Апшина» — появилась в 1887 году.
* * *
Долгие годы Важа Пшавела ощупью шел к своему призванию. Печатал корреспонденции, рассказы, стихи. О первых своих стихах сам он был невысокого мнения. Но, как известно, истинные поэты долго в «молодых» не ходят. Важа Пшавела было чуть больше двадцати лет, когда его стихи попались на глаза Илье Чавчавадзе. Этот большой поэт, замечательный мыслитель, пламенный патриот и общественный деятель сказал, прочитав впервые стихи молодого поэта: «Пора нам, старым поэтам, сложить перо и благословить путь Важа Пшавела».
Подобно тому как Пушкина заметил и благословил «старик Державин», Важа Пшавела был замечен и благословлен Ильей Чавчавадзе. Редактируя «Иверию», Илья часто печатал произведения Важа, пренебрегая анонимками, советовавшими не предоставлять «пшавским стихам» так щедро место в газете. Илья всячески ограждал самобытность поэта.
Как-то в присутствии Ильи кто-то предложил послать Важа учиться в Германию (это было уже после возвращения его из Петербурга). Илья категорически отверг это предложение: «…знаете ли вы, что из этого получится? Оставьте его в покое. — в Германии, в лучшем случае, увлечется философией и тогда повесит пандури высоко к потолку. А что, если и философа из него не выйдет?.. Назначьте ему гонорар, пусть лучше уйдет он в горы и пишет…»
* * *
Чаргали. Ранним утром, когда туман еще цепко держится за верхушки гор, когда только-только золотит заря краешек неба, Важа уже на ногах: земледелец начинает день вместе с солнцем, вместе с ним заканчивает его. Важа — в поле. Плотно охватил ручки плуга — пусть глубже врезается он в землю. Впереди идет жена. Она погоняет быков. Подходит друг. Он приехал из Тифлиса. Он удивлен.
— Что делать, брат, — говорит Важа. — Не поковыряюсь в земле, не выращу хлеб — все умрем с голоду. Мое писательство еле дает мне деньги на керосин и соль…
Но, несмотря на это, Важа не унывает.
Вечером у его очага собираются соседи. Вот один длинный как жердь горец начинает читать стихи. Читая, лукаво поглядывает то на Важа, то на сидящего рядом его брата, Бачану, Тоже поэта, приехавшего нынче погостить в родное село из Хевсуретии, где он учительствует. Братья отвечают ему такой же лукавой улыбкой. Знают, сосед хочет раззадорить их. Бачана декламирует коротенькое стихотворение — ему хочется, чтобы скорее читал Важа. У него наверняка есть что-то новое. Горцы одобрительно кивают головами.
Затем просят:
— Лука, прочти теперь ты.
Лука задумывается: что бы почитать соседям? Может, об Алуде Кетелаури? Правда, Важа еще не закончил поэмы. Притом она из хевсурской жизни…
Но поэма о доблести, героизме — значит, понятна и интересна она каждому грузину. И уж, конечно, не его земляки составят исключение. И Важа начинает:
В Шатиль ворвался верховой,
Кричит: «Беда! Кистины-воры
Чинят на пастбище разбой
И лошадей уводят в горы!»
На сходке, чтимый всем селом,
Алуда был Кетелаури —
Муж справедливый и притом
Хевсур, отважный по натуре.
Немало кистов без руки
Оставил он на поле боя.
У труса разве есть враги?
Их много только у героя.
Теперь они средь бела дня
Его похитили коня…
Важа читал о том, как жарко дрались Алуда и кистин Муцал, как то один, то другой склонял на свою сторону победу и как победил в схватке Алуда.
Но чудо! Мрачен и понур,
Не смотрит на ружье хевсур
И слезы медленные точит,
И хоть добыча дорога,
Неустрашимого врага
Обезоружить он не хочет.
Ружье с насечкой дорогой
Кладет на труп, залитый кровью,
Влагает в руку меч стальной,
Кинжал приладив к изголовью.
Заветам древним вопреки,
Не рубит правой он руки,
Грехом не хочет оскверниться.
И шепчет другу он: «Муцал,
Ты как герой в сраженьи пал,
Была крепка твоя десница!
Пускай она истлеет в прах,
Покоясь на могучем теле,
Чтобы не радовался враг,
Прибив ее в своем ущелье.
Хорошую ты мать имел,
Коль от нее таким родился!»
Кистина буркой он одел,
Покрыл щитом и удалился.
Важа остановился, передохнул. Перебрал струны лежащего рядом пандури. Один из соседей, плотный, рыжеусый, с застарелым шрамом — меткой минувших сражений, уважительно проговорил:
— Молодец, Важа, на этот раз ты точно передал нашу легенду. Выпьет Алуда водку за упокой души кистина, и конец стиху. Хорошо ты сочиняешь, складно.
Важа нахмурился, вспомнив тбилисского критика — тот тоже думал, что его произведения — только легенды, переложенные в стихи, хотя самих легенд не знал.
— Нет, Тотия, я прочел только начало поэмы.
— Так дальше читай! — Лицо Тотии выражало удивление и радость одновременно, и Важа, улыбаясь, снова провел рукой по струнам и задумался. Долго молчал он.
Молчали и гости-соседи, потом один за другим стали подниматься с мест. Они понимали: Важа думает о своей поэме, быть может, уже слагает мысленно песню. Не дай бог помешать ему. Важа слабо удерживал гостей. Он чувствовал, как кровь приливает к сердцу и мозгу, как мучительно ожидание той минуты, когда он возьмет в руки карандаш и на белом бумажном поле зачернеют, как проталины на весеннем снегу, первые строчки… Наконец-то один. Даже Бачана ушел с кем-то из гостей.
О чем думает Алуда, возвращаясь домой после битвы, после того, как он, нарушив закон предков, не отрубил руки врагу?
Кому вражда всего милей,
Кто сеет бедствия повсюду,
Тот должен в хижине своей
Людскую кровь собрать в запруду.
Пусть он ее из кубка пьет,
И в хлебе ест, и, словно в храме,
Хвалу святыне воздает,
Крестясь кровавыми руками.
Алуда возвращается домой. Рассказу его о схватке с Муцалом не верят. Другой герой едет на место схватки Алуды с Муцалом и привозит отрубленную руку убитого Алудой кистина. Алуда говорит правду, но все равно он нарушил закон общины. Как смеет говорить он:
«К чему, хевсуры, вам галдеть?
Зачем вам злиться на Алуду?
Сражаться буду я, но впредь
Бесчестить мертвых я не буду».
«Нет, будешь! С дедовских времен
Десницы рубим мы кистинам!»
«Увы, хевсуры, плох закон,
Грехом отмеченный старинным!»
Важа остановился, хотя обычно писал он, что называется, одним духом. Им овладело воспоминание. Воспоминание о том, как учил грамоте его отец. О грамоте ли идет речь или об отрубленной деснице, власть общины почти всегда предельно жестока. И есть люди, идеализирующие ее! Нет, Важа не из их числа, хотя признает, что община сделала своё положительное дело. Гуманизм Алуды — это следствие его рыцарства, община же не хочет обсуждать свои законы. Они хороши тем, что стары. Важа усмехнулся этой мысли. Как часто человек пребывает в плену ложной идеи только потому, что она долговечна, что ее разделяли предки. «Нет, не такой мой Алуда». Возвратившись мыслью к своему герою, Важа снова взялся за лежавший рядом карандаш.
Чем жарче солнце, тем больше, проталин на белом снегу. Строка за строкой пишет Важа, как Алуда приносит жертву за упокой души убитого им храбреца, как возмущает это общину, как безжалостно изгоняет она героя, которого почитала вместе со всей его семьей. И как уходят они в холоде и мраке.
Но моральная победа за ним, за Алудой! Важа оглянулся, словно хотел увидеть вокруг себя соседей. Вот бы почитать им поэму теперь, когда он закончил ее.
…Позже он скажет слова, которые будут повторять его биографы: «Воспоминания лежат у меня грудой булыжника; отбираю и отбираю их постепенно… Я помню, что было в прошлом плохого и хорошего…»
И еще: «О вашем же покорном слуге Важа Пшавела нужно сказать, что он испытал большое влияние народных сказаний. Большинство моих поэм построено на двух-трех словах, слышанных в народе».
В народном преданий существовал и хевсур Алуда, победивший доблестного кистина. Но Важа знал, что, когда он прочитает свою поэму, кто-нибудь из присутствующих обязательно скажет о том, что в поэме нет ничего общего с народным преданием. Что же, и это будет правдой, как отчасти правдой было то, что говорил Тотия. А в сущности, легенда, сказка — это лишь семя, а что за сила в нем, если оно не встретит соответствующую почву? И почвой этой является поэт, который призван это одинокое семя превратить в тысячи семян. Не всякий способен на это.
Важа смотрел на огонь. Угли чуть тлели. Надо размешать их. Важа взялся за дело, и снова запрыгали в очаге язычки пламени. Они то льнули один к другому, то вдруг, словно застигнутые врасплох, метались в разные стороны. Время от времени поленья тихо потрескивали, и тогда Важа казалось, что они прыскают от смеха, слушая какую-то веселенькую историю. «Вот бы узнать, о чем это они шепчутся! Жаль, я не Миндиа-змееед».
А что, если предположить, что кто-то в современных условиях получает этот драгоценный дар — способность слышать и понимать, о чем говорят растения, животные, камни… Но этот человек — единственный из людей, кому доступно такое знание. Какие отношения возникнут у него с другими людьми? Важа оглянулся, словно кто-то нес уже ему этот бесценный дар, но увидел только входившего в комнату Бачану. Хотел рассказать ему о том, что думал, но Бачана решительно отказался разговаривать: «Сам говоришь, что завтра с утра в поле. Будем спать». Наутро Бачана уезжал, и Важа не успел сказать ему о возникшем замысле. А потом и сам забыл о нем и возвратился к нему только через двенадцать лет.
…Спустя три дня после этого вечера Важа, перекинув через седло хурджины, верхом на коне узкой горной тропой спускается в Тифлис. В хурджине лежат рукописи, которые он отнесет в редакции, ну и, конечно, хлеб с сыром. Среди рукописей вместе с уже законченным «Алудой Кетелаури» сатирические рассказы «Смерть Баграта Захарыча» и «Автобиография урядника».
— Быть бою с цензурой, — усмехнулся Важа. — Эх, жизнь! Напишешь правду, а тебе будут доказывать, что это неправда, в лучшем случае скажут, что это случайность, а вообще-то в жизни так не бывает. Почему и печатать это не нужно. А для писателя с душой и сердцем всего важнее напечатать то, что он написал. Ведь пишешь-то кровью сердца, пишешь потому, что не можешь не делать этого.
Конечно, не все пишут так… А как узнать, есть ли у человека душа, сердце? Об этом можно судить по тому, служит ли он какому-нибудь идеалу, любит ли он в этом мире что-нибудь, хочет ли он блага миру.
Приветствия проезжавших мимо крестьян отвлекли Важа. Обернувшись им вслед, Важа улыбнулся: что бы сказали они, узнав о его размышлениях? «Согласились бы со мной, должно быть. Главную думу сынов земли составляет сама жизнь, добро и зло в ней. И поскольку мы, я и эти крестьяне, сыны одной страны, поставлены в одинаковые условия, значит страдаем мы от одной и той же боли. Нет, не нужно мне обращаться к гадалке, чтобы узнать их мысли».
— Здравствуйте, уважаемый Важа. В город?
Знакомый, встретившийся с поэтом почти у самого въезда в Тифлис, был совсем молод.
— Знаете ли вы, какие у нас новости?
Понизив голос, юнец, хотя и торопившийся, по его же словам, на важное деловое свидание, сам себя перебивая, рассказывал: разбросали прокламации. Да, да. Царя ругают. Глаза юнца округлились от восторга, и Важа уже не знал, от природы ли болтлив парень, или это он от радости.
* * *
Прошло три года. Напечатана поэма Важа Пшавела «Бахтриони». Все только о ней и говорят. Ходит много всяких слухов. Эстеты говорят, что «Бахтриони» — это величественная глыба, созданная гениальным поэтом. Народ волнует другое: «Наш Важа посвятил поэму свободе Грузии». И это в самом деле так. Бахтриони — старинная крепость — была захвачена иранским шахом. Восставший народ изгнал чужеземцев. С могучей силой утверждает Важа Пшавела тему патриотизма. Саната, Квирия, Лела, Лухуми, Зезва — имена его героев, для которых свобода родины всего важнее.
В бою погибли муж и семеро сыновей Санаты, но она оплакивает не их, а судьбу своей страны:
О, если б только до победы
Мне пособил дожить господь,
Я, позабыв былые беды,
Сумела б горе побороть…
О, если б люди отомстили
За нашу, кровь! Любая мать
О тех, кто спит в сырой могиле,
Тогда не станет горевать.
Вся Грузия собирается на врага. В стан воинов приходит красавица Лела:
Что смотрите, хевсуры, пшавы?
Зачем дивитесь вы? Ужель
Не заслужила бранной славы
Грузинка-женщина досель?
Но воины отвергают помощь Лелы. Лишь один из них, Квирия, настигнув ее в ущелье каменных высот, предлагает ей:
Кому вдомек, что Бахтриони
Простой осадою не взять,
Что там засела в обороне
Врагов бесчисленная рать?
Что вражьей крепости ворота
Нам не осилить никогда,
Что нам открыть их должен кто-то,
Коль мы хотим войти туда…
Подъехав к вражескому стану,
Скажу я страже: «Краше роз
В подарок доблестному хану
Красотку деву я привез».
И стража нас пропустит в двери,
И мы проникнем в дом к врагу,
И, обманув его доверье,
Я нашим людям помогу.
Открыть ворота я сумею.
Пускай заколот буду я.
Согласна ль ты мою затею
Осуществить, сестра моя?
Квирия и Лела гибнут, но благодаря им грузинские воины одерживают победу. Тяжело ранен предводитель грузинского войска мудрый Лухуми.
И весь народ твердил в раздумьи,
Что, исцелившись в том краю,
Еще поднимется Лухуми
К Лашари, на гору свою.
Поэма «Бахтриони» пришла в горы ничуть не позже, чем в город.
«Один малограмотный пшав, — вспоминал Важа Пшавела, — прочитав поэму «Бахтриони», которая, оказывается, очень ему понравилась, обратился ко мне с такой горячей просьбой, точно просил подарить ему по крайней мере оседланного коня; он молвил, чтобы я признался ему:
— Важа, богом тебя заклинаю, не скрывай от меня, скажи мне, правда это, что ты подразумевал свободу Грузии, когда писал в «Бахтриони»:
И весь народ твердил в раздумьи,
Что, исцелившись в том краю,
Еще поднимется Лухуми
К Лашари, на гору свою.
— Возможно, и подразумевал! — ответил я.
— Вот, вот, как раз о свободе Грузии и говорится там, — упорно повторял пшав, и пятнадцать тысяч красноречивых профессоров не смогли бы его переубедить, изменить направление его мыслей».
Важа счастлив. Народ понял его тайные думы, и, как знать, в числе тех, кто пойдет сражаться за свободу, будут, возможно, и те, кого вдохновит на этот подвиг его «Бахтриони». Свобода — это понятие, которое в комментариях не нуждается. Ради нее он готов на смерть. Да, человек больше всего любит жизнь, но он и в смерти часто обретает ее…
«Будущее рождается из настоящего. Мы, поэты, писатели, общественные деятели, — думает Важа, — должны стремиться к тому, чтобы сегодняшний день был для страны лучше, чтобы действия каждого из нас были целенаправленными. Тот, кто честно служит настоящему, тот творит величественное будущее; кто много пашет и сеет, у того будет большой урожай; пусть даже все вокруг выгорит от засухи, он. все равно получит больше других. Да, будущее Грузии прекрасно. Он верит в него, в это будущее, и без этой веры он не сумел бы жить. Но жить — означает действовать».
И Важа действует. Поистине «враги есть только у героя».
* * *
Предоставим слово врагу Важа Пшавела, царскому чиновнику, доносившему в 1907 году по начальству:
«Во главе революционного движения сего района стоит народный поэт «Важа Пшавела» (прозвище), фамилия Лука Разикашвили, проживает в селе Чаргали. Означенный Разикашвили пшавец, имеет неограниченное влияние на пшавцев, считается народным вождем… Ввиду крайней вредности, как человека умного и деятельного, Важа Пшавела в горах необходимо обдумать ряд мер, дабы его обезвредить, ибо арест его может вызвать серьезные последствия и брожение среди магароскарцев».
Сам же Важа Пшавела, ненавидевший царское самодержавие, говорил: «У меня болезненное чувство к полиции. Чувствую, что если я не возьму в руки палку, она без меня начнет гулять по их головам».
Но вернемся на несколько лет назад. Шел 1909 год. Миндиа-змееед, о котором он слышал в детстве, теперь полностью овладел мыслями Важа Пшавела. Мудрость Миндиа питается его союзом с природой.
И мир здоровается с ним,
Как с давним другом и знакомым, —
Он каждой птичкой здесь любим,
Замечен каждым насекомым.
А что творится тут с травой!
Увидев гостя дорогого,
Шумят цветы наперебой:
«Дружище Миндиа, здорово!
Взгляни, я — средство против ран!»
«А я — лекарство от падучей!»
«А я от горя талисман.
Сорви меня на всякий случай».
Если у цветов так силен дух самозабвения, то деревья — совсем иное. Эти — плачут!
И змеееда их слова
Не раз, бывало, озадачат.
Идет он к вязу с топором,
А вяз ему: «Побойся бога!
Отрадно мне в лесу глухом,
Дай мне прожить еще немного.
Пусть безоружен я вовек,
Не обрекай меня на муки!»
И вздрогнет бедный дровосек
И, потемнев, опустит руки.
Другое дерево найдет,
А то еще печальней стонет…
И так ни с чем домой уйдет,
Кусочка малого не тронет.
Миндиа и своих односельчан уговаривает не рубить деревьев, не убивать животных. Но соседи, хотя и верят ему, делают по-своему и смеются над Миндиа, хотя и глубоко уважают его как мудрого военачальника и исцелителя. И жена кричит на него — в доме нет ни дров, ни мяса. И понемногу, через силу Миндиа входит в сделку с самим собой.
Срубил он раз одну чинару,
Не слушая ее мольбы.
Потом пошел и срезал пару,
Чтоб дым струился из трубы.
Каждый союз держится и уступками с обеих сторон. Во имя узколичных интересов Миндиа, хотя и против своей воли, изменяет союзу с природой. Изменив природе, питавшей его мудрость, Миндиа перестает понимать ее язык, становится бесполезным общине, которая, собственно, и толкнула его на эту измену. В этом трагедия Миндиа, трагедия человека поступившегося собственными убеждениями, поступившегося великим ради малого.
* * *
Шли годы. Если говорить правду, это были нелегкие годы. Бедность и болезнь, болезнь и бедность сокращали дни поэта. И вот август 1915 года. Важа снова в Тифлисе, больной, на этот раз без надежды на выздоровление. С тоской вспоминает он о том, что было мило его сердцу. Из окон госпиталя нельзя увидеть ни шумливой Чаргали, ни лесных великанов, под сенью которых так хорошо думалось ему, ни гор, к которым он давно уже обратил свой прощальный привет.
Важа попросил принести ему горной травы. Он лёг в эту пахучую постель и стал чутко прислушиваться к шороху травы, словно надеясь хотя бы теперь понять ее шепот.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ВАЖА ПШАВЕЛА
ВАЖА ПШАВЕЛА 282. ЖАЛОБА ВОЛЫНЩИКА Раненный ранами родины, Взял я волынку, стеня. Горе! Украли негодные Воры ее у меня. Что вам она, непродажная, Без серебра, без затей, Только слезами украшена? Что вам, проклятые, в ней? Сам обточил ее грубо я, Высмотрев ствол бузины, В
ВАЖА ПШАВЕЛА
ВАЖА ПШАВЕЛА Важа Пшавела (1861–1915) — поэт редчайшего эпического дара, удивительной фольклорной образности. О. Мандельштам, один из его первых переводчиков, называл его «ураганом слова, пронесшимся по Грузии, с корнем вырывавшим деревья» (Мандельштам О. Слово и культура,
13. Софья Парнок
13. Софья Парнок Году в 1923-м я передала сборник стихов в издательство «Недра», где его рецензировала Софья Парнок. Она отвергла мою книгу, сказав: «Если сравнить ваши стихи с букетом цветов, то он уж слишком разнороден: кашка рядом с пионом, жасмин с ландышем».Выглядела она
Софья Милькина, режиссер
Софья Милькина, режиссер Когда наш Зяма был еще худеньким юношей и уже очень талантливым, интересным человеком искусства, мы с ним работали и учились в московском театре-студии под руководством Валентина Плучека и Алексея Арбузова. Знаменитый «Город на заре», спектакли
Софья Ковалевская
Софья Ковалевская • Софья Васильевна Ковалевская (урожденная Корвин-Круковская) (3 (15) января 1850, Москва – 29 января (10 февраля) 1891, Стокгольм) – русский математик и механик, с 1889 года иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.• Первая в России и в
ЛУИШ ВАЖА ДИ КАМОЭНС (1524 или 1525-1580)
ЛУИШ ВАЖА ДИ КАМОЭНС (1524 или 1525-1580) Когда корабли Васко да Гамы подняли паруса и направились в плавание к берегам легендарной Индии, провожавший их португальский король Мануэл I дал обет в случае благополучного возвращения путешественников возвести на месте, откуда
Софья Николаевна Карамзина
Софья Николаевна Карамзина Лермонтов чувствует себя в свете все более уверенно. Александра Осиповна Смирнова-Россет, наблюдательная и вездесущая фрейлина, замечает в письме к П. А. Вяземскому: «Софья Николаевна (Карамзина) решительно относится к Лермонтову».Он
СОФЬЯ ДЫМШИЦ-ТОЛСТАЯ
СОФЬЯ ДЫМШИЦ-ТОЛСТАЯ Софья Исааковна Дымшиц-Толстая (1889-1963) - художница, вторая жена А. Н. Толстого. Фрагменты из ее воспоминаний, написанных в 1950 году, даются по кн.: Воспоминания об А. Н. Толстом (М., 1973).
Софья Ковалевская
Софья Ковалевская Принцесса математикиЕе биография вобрала в себя все сложности того странного времени. Она стала ученым тогда, когда женщин всеми силами не допускали в науку. Более того – она стала известным математиком в те времена, когда считалось, что женщина в
Царевна Софья и стрельцы
Царевна Софья и стрельцы Келия Новодевичьего монастыря. Озаряемые тихим сиянием лампадки, из киота кротко глядят иконные лики. Ласковый полумрак лег на стены, закрыл углы… Тихо кругом. Только издалека слабо доносится ночной сторожевой стук да, заглушаемое толстыми
Софья Толстая
Софья Толстая Бениславская понимала, что ее мечта о создании для Есенина спокойного семейного быта не сбылась. Она жаждала большой любви, но не знала, как за нее бороться. Сергей Есенин беспощадно рубил связывающие их нити. В присутствии сестры Екатерины он
СОФЬЯ ПИЛЯВСКАЯ
СОФЬЯ ПИЛЯВСКАЯ Первый год моей службы в Школе-студии в 1954 году совпал с приходом Евгения Евстигнеева на 3-й курс, руководимый Павлом Владимировичем Массальским.Я хорошо помню: подтянутый, худощавый, всегда аккуратный, внешне спокойный, Евстигнеев внимательно и
Софья Петровна и Левитан
Софья Петровна и Левитан Кроме домов театральных, одним из первых домов, где я начала бывать в Москве и откуда, как из озера, вытекают по всем направлениям речки, много у меня завязалось знакомств, из которых некоторые превратились в дружбу — длящуюся и до сего дня, — был
Софья в «Хождении по мукам»
Софья в «Хождении по мукам» Отдельной большой темой является присутствие Софьи (и ситуаций, пережитых вместе с нею) в романе «Хождение по мукам». И круг общения, и сцены у Смоковниковых, и их квартира и вкусы — все точно и подробно отражает конец петербургского периода, то
Софья Близниковская. «Из воспоминаний»[34]
Софья Близниковская. «Из воспоминаний»[34] Когда вспоминаешь Смирнова-Сокольского, то не знаешь какого «предпочесть». Артист. Автор-фельетонист. Писатель. Книголюб-библиограф. Режиссер-сценарист больших эстрадных обозрений. Общественный деятель. Человек – во всем
Софья Юнкер-Крамская
Софья Юнкер-Крамская О трагической судьбе дочери великого художника Ивана Крамского стало известно лишь недавно, когда были обнародованы документы из архива ФСБ РФ. Несчастья Софью Юнкер-Крамскую (1866–1933) начнут преследовать после революции 1917 года. А до октябрьского