Н. Микава АЛЕКСАНДР ЧАВЧАВАДЗЕ
Н. Микава
АЛЕКСАНДР ЧАВЧАВАДЗЕ
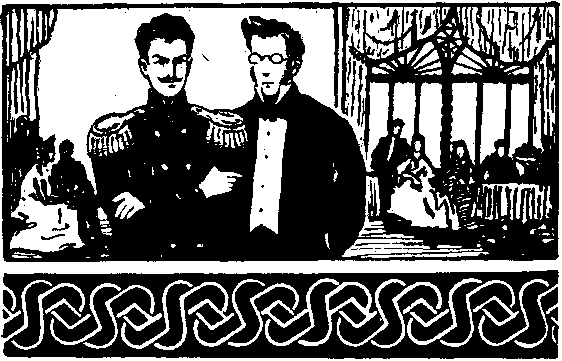
В марте русские войска вступили в Париж.
Потонувший в клочьях серого тумана, огромный город казался мертвым. Молча проходили колонны по безлюдным улицам Сент-Антуанского предместья, направляясь к центру. Скрипели колеса повозок, гулко громыхали пушки, заглушая раздававшиеся в сыром воздухе слова команды.
Но постепенно город оживал. То здесь, то там слышалась французская речь: мальчишки, любопытные и бесстрашные жители бедных кварталов, высыпали на улицы. Ветераны, прошедшие Бородино и Березину, Вильно и Лейпциг, устало улыбались в седые усы…
Среди офицеров русской армии находился двадцатишестилетний грузинский поэт, адъютант Барклая де Толли князь Александр Чавчавадзе — высокий, сухощавый юноша с гордой посадкой головы. Его бледное лицо с тонкими губами и высоким, открытым лбом (волосы он зачесывал назад) могло показаться надменным, но чистые, слегка прищуренные глаза излучали столько тепла и внутренней силы, что первое впечатление исчезало. Он чуть прихрамывал. Рана, когда-то полученная в Грузии, еще не совсем зажила, но это не мешало ему жадно знакомиться е городом. Владея французским языком не хуже родного, он был здесь как дома.
Ранняя весна не чувствовалась еще на парижских улицах; французы не щеголяли присущим им веселым остроумием, — они горделиво и молча несли тяжесть поражения.
Наполеон еще не сдался, он со своими генералами и преданным ему войском стоял в Фонтенбло. Макиавелли тех дней Талейран с ловкостью искусного мастера готовил сенат к ликвидации императорской власти. В воздухе пахло миндалем и порохом.
Но молодой поэт забыл обо всем на свете — он отправился к заутрене в Нотр-Дам и с благоговением слушал музыку Баха; никогда раньше не испытывал он такого чувства. Ему казалось, что небесные, чарующие звуки приобщают его к вечности, наполняют неземными силами; эти звуки стирали грани между бытием и бесконечностью. Куда-то далеко-далеко уходили все мирские заботы, мелочи повседневности…
В этом храме, бессмертном творении зодческого искусства, все было подчинено одной цели: сближению человека с воображаемым богом. Своды храма, как бы уходящие в небеса, его камни, поющие вместе с органом. «Не случайно, — подумал Александр, — католическая церковь имеет такое влияние на свою паству».
А вечером спектакль в «Комеди франсез». На сцене знаменитый Тальма… Сегодня он в ударе.
Молодой офицер Ширханов, искушенный в парижских; делах, нашептывает Александру анекдоты из жизни прославленного трагика,
— Однажды Тальма попросил Наполеона высказаться по поводу его игры. Император долго не отвечал, потом вдруг сказал: «Тальма, приходите иногда во дворец ко мне утром. Вы там увидите принцесс, потерявших возлюбленных, государей, которые потеряли свои государства, бывших королей, которых война лишила их высокого сана, видных генералов, которые надеются получить корону или выпрашивают себе корону. Вокруг меня — обманутое честолюбие, пылкое соперничество, вокруг меня — катастрофа, скорбь, скрытое в глубине сердца горе, которое прорывается наружу. Конечно, все это трагедия; мой дворец полон трагедий, и я сам наиболее трагическое лицо нашего времени. Что же, разве мы поднимаем руки кверху? Разве мы изучаем наши жесты? Разве мы испускаем крики? Принимаем позы? Нет, не правда ли? Мы говорим естественно, как говорит каждый, когда он воодушевлен интересом или страстью; Так поступали и те лица, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли трагедию на троне. Вот примеры, над которыми стоит подумать…»
— Ответ, достойный Наполеона… — заметил Александр.
Все здесь было удивительно — в городе, где когда-то метрдотель князя Конде заколол себя шпагой, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу, и где в грозные дни французской революции народ казнил и короля и принцев. Здесь были французы, которые до последней капли крови боролись за свободу, и французы, готовые лечь костьми за своего императора.
Это был город удивительных противоречий.
Чавчавадзе часами бродил по улицам, посещал кафе поэтов; музеи живописи. Долго стоял перед картинами Пуссена, перед «Коронованием» Давида, слушал Берлиоза и Россини, смотрел игру знаменитой Рашель, восхищался сокровищами искусства в Лувре и Версале.
Версаль!.. Здесь его соотечественник, мудрый Сулхан Саба Орбелиани, посетил «Короля-солнце» и просил о помощи своей родине.
Чавчавадзе полюбились красивые берега Сены, целые дни простаивал он на набережной, а ночами переводил на грузинский язык Гюго, Лафонтена, Корнеля, Расина и… Вольтера. Да, он чтил Вольтера, этого доброго циника.
Александру и его друзьям казалось, что они в гостях у старого просвещенного друга, с которым приятно посидеть, поговорить, выпить чашку крепкого кофе. Для него пребывание в Париже имело столь же огромное значение, как и жизнь в Петербурге, дружба и общение с блестящими представителями северной столицы.
А между тем история шла своим чередом, одни события сменялись другими. 6 апреля Наполеон подписал акт отречения.
Кто мог предполагать, что пройдут годы и служивший в то время в Тифлисе современник поэта, К. А. Бороздин, напишет в своих воспоминаниях:
«Главная заслуга Александра Чавчавадзе заключалась в том, что он успел дом свой сделать прочным звеном между обществом грузинским и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ… Князь Александр довершал в полной мере дело, начатое его отцом. Гарсеван политически приобщил Грузию к России, а сын его благодаря своему личному характеру сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом, всякий грузин шел к нему с душой нараспашку; тут они встречались и научились понимать и любить друг друга…»
А главнокомандующий на Кавказе сообщит в своем секретном донесении в Петербург: «Князь Чавчавадзе образован в Пажеском корпусе, потом, служа у нас, принял всю европейскую образованность… и, будучи тестем покойного Грибоедова, имел средство утвердиться в правилах вольнодумства…»
* * *
Небольшая площадка перед церковью с утра была запружена народом. В длинный ряд построились экипажи.
Не прошло и получаса, как на улице остановилась карета — из нее вышла императрица Екатерина II.
А в церкви была уже готова купель, и князь Гарсеван Чавчавадзе, полномочный министр царя Ираклия II при русском дворе, держал здорового голенького мальчугана в ожидании крестин.
Мальчика, родившегося в 1786 году в Петербурге, нарекли Александром. Императрица стала его крестной матерью.
Согласие быть крестной матерью младенца было исключительным знаком внимания, оказанным императрицей грузинскому министру за его особые заслуги: в 1783 году князь Гарсеван подписал в Георгиевске так называемый трактат о дружбе, по которому Кахетино-Картлийское царство приняло протекторат России.
Летописцы той эпохи, противники воссоединения е Россией Давид Багратиони и его братья под рубрикой 1811 года записали: «Апреля месяца дня пятого умер Чавчавадзе Гарсеван в Петербурге, предатель царя и неверный сын своего отечества». Так излили они свою злобу, хотя Гарсеван, подписывая трактат, выполнял волю царя Ираклия и народа Грузии.
Это мнение о родном отце черной тенью легло на всю жизнь поэта, хотя он вполне сознавал, что предки его и царь совершили дело огромной важности, они спасли родину от физического и духовного уничтожения. Мысли Александра Чавчавадзе по национальному вопросу отличались дальновидностью и глубиной. Широко образованный, воспитанный на лучших традициях России, Франции, Ирана, знакомый с немецкой философией и литературой, он знал, что Грузии нужна новая, прогрессивная культура, широкое просвещение, образование, и с этой целью делал все, чтобы сблизить передовое русское общество с грузинским. Он хорошо понимал, что только эта дружба, только эта общность может вывести его родину на широкий путь.
Александр Чавчавадзе любил Россию и нисколько этого не скрывал. Двери его тифлисского дома всегда были открыты для русских и большей частью для тех, кто за служение передовым мыслям ссылался на «дикий Кавказ».
Только этим объясняется большая дружба Александра Чавчавадзе с Грибоедовым, радушный прием Пушкина, Кюхельбекера, Одоевского, Лермонтова.
О поэте ходила слава эпикурейца, певца розы и соловья… Но это поверхностная оценка человека, чья жизнь и творчество, тесно переплетенные между собой, соединяли старую поэтическую культуру с новым направлением.
* * *
Александр Чавчавадзе до тринадцати лет жил в Петербурге. С раннего детства мать обучила его родному языку, а позднее его учителем стал дядя Георгий Авалишвили, прививший ему любовь к родной литературе.
В 1799 году семья Чавчавадзе переехала в Тифлис. Уже тогда тринадцатилетний мальчик воспринимал мир глубоко и остро, но был еще слишком молод для философских обобщений, не умел еще анализировать факты, и поэтому холодное, почти враждебное отношение многих соотечественников к его отцу воспринимал с горечью и душевной болью. Временами, теряя голову в отчаянии, он готов был считать себя обязанным «искупить вину» отца.
В 1804 году, восемнадцатилетним юношей, он примкнул к восстанию горцев в Мтиулети, которое возглавил царевич Парнаоз с целью восстановления династии Багратионов. Любопытно рассказывает об этом эпизоде Александр Орбелиани:
«Среди участников восстания находился один юноша, князь Ал. Чавчавадзе. Его отец Гарсеван Чавчавадзе» любимец и первое доверенное лицо царя
Ираклия II, отдал Грузию русским. Отец родную страну отдал чужим, а его юный сын пролил кровь, чтобы вновь завоевать свое отечество».
Эти острые противоречия необходимо постоянно иметь в виду, чтобы понять, в каких трудных условиях формировалось мировоззрение будущего поэта.
Юного повстанца простили и отдали в Пажеский корпус. Здесь он получил блестящее образование, углубил знания во французском, немецком и персидском языках. Многое он переосмыслил, многое оценил трезво и убедился в своем заблуждении. Он понял, что не этим путем нужно помогать родине.
В 1809 году Чавчавадзе окончил Пажеский корпус. Общей образованностью, воспитанностью, знанием языков он выгодно отличался от многих своих сверстников.
Годы, проведенные в северной столице, не прошли для него даром и сыграли весьма важную роль в формировании его литературно-эстетических взглядов. Именно в России, на его второй родине, он приблизился к передовой русской культуре. Достаточно сказать, что Александр Чавчавадзе одним из первых перевел на грузинский язык стихи Пушкина, и это в те времена, когда имя великого русского поэта произносилось в высших кругах общества с оглядкой. Пушкинская поэзия оказала большое влияние на творчество грузинского поэта.
В 1811 году А. Чавчавадзе — адъютант маркиза Паулуччи; в 1812 году он принимает участие в подавлении кахетинского восстания и получает тяжелое ранение. После выздоровления в том же 1812 году мы видим его уже адъютантом Барклая де Толли. Через два года в составе коалиционной армии союзников он вступает в Париж.
Молодой грузинский аристократ в этот период уже полностью разделяет освободительные идеи своего века, революционный дух которых так глубоко проник в среду передового русского офицерства в Западной Европе, особенно в Париже. Социальные моменты, волновавшие поэта, отразились и в его творчестве:
Но найдется для неправых кара.
Не уйдут злодеи от удара.
Месть заполыхает яро
Вплоть до небосвода!
Горе вам насильники народа!
Царь земной, чьи повеленья святы,
Царедворцы, что пришли в палаты,
Вам не избежать расплаты,
Не найти прохода!
Горе вам, обманщики народа!
Горе вам, хотевшим жить беспечно,
Отгулявшим в славе скоротечной!
Ваша жизнь не длится вечно,
Вянет год от года.
Будет время — смерть врагам народа!
* * *
По возвращении из Франции Александр Чавчавадзе был назначен командиром Нижегородского кавалерийского полка, стоявшего в Кахети. Он вернулся на родину. Его особняк в Тифлисе стал блестящим салоном, где собирались передовые люди того времени — грузины и русские: поэты, писатели, философы, актеры, счастливые и несчастные, вольнодумцы и гонимые.
Здесь читали свои произведения Григол и Вахтанг Орбелиани. Здесь делился новыми и интересными мыслями молодой философ Соломон Додашвили.
Сюда приходили Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер, Денис Давыдов, Лермонтов, Бороздин, художник Гагарин… Их было много, и для всех были открыты двери этого гостеприимного дома. Может быть, здесь впервые читали и даже играли в семейном кругу «Горе от ума», пели романсы Глинки, исполняли его вальсы. Здесь впервые на грузинском языке прозвучали мятежные строки Байрона и промчался во весь опор таинственный конь «Лесного царя». Здесь читались в оригинале, на певучем персидском языке, произведения Омара Хайяма, Гафиза, Саади.
Таков был этот дом. Таким был его хозяин — поэт Александр Чавчавадзе, такими были его обитатели — юные, очаровательные дочери: умная, полная женского обаяния Нина и гордая красавица Катя — Екатерина Чавчавадзе, будущая царица Мегрелии и фрейлина императорского двора.
В эти годы начался расцвет поэтического таланта Александра Чавчавадзе, бесспорно первого представителя нового, романтического направления в поэзии. Романтизм стал школой Чавчавадзе, а он его грузинским отцом.
В его творчестве можно найти и следы иранской поэзии, но только лишь следы. По существу, оно явилось синтезом восточной и западной поэтических культур. Да, он поклонялся Эпикуру, но никогда не следовал его девизу: «Проживи незаметно». Поэт далек от эпикурейской сдержанности, наоборот, он ищет бурной жизни, ищет борьбы, ищет победы. Он — один из основателей направления патриотической лирики, получившей широкое распространение в грузинской поэзии XIX века:
Я один — одной в дар принес себя,
Буду накрепко ей рабом всегда.
«Она» — это Грузия. А. Чавчавадзе не говорит об этом прямо по цензурным соображениям, но каждый читатель отлично понимает, что имеет в виду поэт: «Где бы ни был я, но с ней всегда».
«Возлюбленная» Александра Чавчавадзе — это его родина.
Интересно, что родина в образе возлюбленной стала символом и для более поздней грузинской поэзии: у Акакия Церетели, у Ильи Чавчавадзе.
Александр Чавчавадзе — глубоко гуманный поэт, остающийся всегда молодым. Традиционные темы: жизнь, любовь, смерть, земные и неземные страсти — решаются поэтом с точки зрения победы добра над злом. Жизнь для него — огромная ценность, а радость — обязательная спутница жизни, даже если путь к ней нелегок:
Пускай любовь несет страданья — отрада сладостная в ней.
Благословенна эта нега! Да разгорается сильней!
И грустно, если в ней не будет хотя бы отблеска скорбей.
Человек все должен иметь: молодость, дружбу, любовь. Поэтому:
Ароматами напоив простор,
Вам несет весна многоцветный клад.
Ты, что волею сладких чувств богат,
Всласть любовью насладись, мой брат…
Это поэтическое обоснование права человека пользоваться всеми благами жизни. Для Александра Чавчавадзе характерен своеобразный «культ красоты». Все должно быть красивым: и радости жизни и человеческие отношения. Умение чувствовать красоту, видеть ее везде делает душу человека богаче, шире, прекрасней. Особенно красива любовь. Это вершина прекрасного в человеческой жизни. Она похожа на весеннее таяние снегов, восторженна и целомудренна.
Грузинские романтики не придерживались твердой линии в вопросах политической ориентации. Они, с одной стороны, тяжело переживают потерю Грузией самостоятельности, с другой стороны — понимают историческую необходимость присоединения, понимают, что русская культура оказывает благотворное влияние на грузинскую.
Эта двойственность проявлялась и в творчестве Александра Чавчавадзе. В его стихотворении «Кавказ» исторические события начала XIX века получили уже новое освещение. Здесь он выступает выразителем мнения прогрессивной части грузинского общества, убедившейся в плодотворности укрепления экономических, политических и культурных связей с Россией, понявшей, что союз, с Россией означает для Грузии движение к прогрессу.
Но дети Иверии поняли: тут
Их в светлое завтра дороги ведут…
Глубокая, изумительно музыкальная лирика А. Чавчавадзе по своему содержанию далека от иранской поэзии, и только формой стиха он часто следует лирике персидских поэтов, Его ощущение действительности более конкретно, осязаемо, близко.
* * *
Нет, Грибоедов окончательно убедился, что не может жить без Тифлиса, без весенних берегов Арагви, без древнего Мцхета, без этих карабкающихся вверх улиц, без многобалконного, знойно-каменного города.
Он Колумб Грузии. Кто до него раскрыл, полюбил эти сказочные красоты, этот рай, затерянный в горах?
«Природу Грузии не опишешь, никакими словами нельзя изобразить ее красоты!» — в который раз повторял он про себя.
Никогда не забудет он первого впечатления, которое произвело на него Дарьяльское ущелье — эта узкая щель, пробитая между высоченными стенами гор, куда с трудом проникает- дневной свет и дно которого недосягаемо для человеческих глаз. Шум необузданной реки, храм на горе Казбеги, крутой спуск с Крестового перевала в Кайшаурскую долину, Ананурская крепость, верховья бурного Арагви, в волнах которого таятся зеркальные форели.
Да, действительно, здесь все создано для человека, для радости, для счастья. С жадностью юноши стал он изучать историю, литературу, культуру страны. Он безмерно полюбил страну, «где темные ночи были как сказки, а дни напоминали рай». Особенно любил он Восточную Грузию» Кахети, где часто бывал у своего друга и тезки — поэта Александра Чавчавадзе.
Правда, Александр был старше его на девять лет, но, пожалуй, это только способствовало усилению их дружбы, ибо, выражаясь словами А. С. Пушкина, Грибоедов, «один из образованнейших людей эпохи», часто не находил общего языка со своими сверстниками.
А пока что он спешил к своему другу, поговорить с ним о Петербурге, о Москве, о Париже… Париж, он так хотел побывать в этом городе!
Июльский день 1826 года был очень жарким. Люди ждали наступления сумерек, не покидая своих прохладных покоев и ажурных висящих балконов, утопающих во вьющихся ветвях винограда, а налитые солнцем, но еще зеленые гроздья напоминали о приближении золотой осени.
— Гаспадин дарагой, купи землю для цветов, харошая земля, — Грибоедов вдруг очнулся от дум.
Перед ним стоял кинто с осликом, нагруженным землей. Это была явная шутка. Для чего ему земля для цветов?
— Землю куплю потом, когда буду уезжать, чтобы всегда носить с собой Грузию… А пока что отсчитай-ка мне эти розы. Сколько там? — сказал он, указывая на пурпурно-красные розы.
— Что розы, их все покупают, а вот земля… — бурчал себе под нос кинто, с изысканностью рыцаря отбирая цветы.
И вот Грибоедов уже у знакомого дома. Ему открыли двери. Он бросил швейцару головной убор, перчатки, вручил хозяину розы и вошел в просторную, богато и со вкусом обставленную приемную. Здесь было прохладно.
— Ну как, что там случилось?.. — тревожно спросил хозяин.
— Не говори… — хорошее настроение исчезло. За стеклами очков затуманились серые умные глаза. — Я всегда говорил, что эта затея несерьезная…
В Тифлисе только недавно стало известно о судьбе декабристов, и Чавчавадзе был очень огорчен.
— А я надеялся. Трудно дышится.
— Я разделяю их мысли, идеи, но…
— Ты всегда скептически относился к их затее…
— Пойми, друг Саша, сто прапорщиков не могут изменить весь государственный строй… Народ не принимал участия в их деле, народ для них как будто и не существовал… А без народа такие дела не творятся…
— А ты как?.. Все в порядке? — тревожно спросил хозяин.
— Чудом, мой дорогой, чудом, — если бы мой родственник — проконсул Кавказа, — так они называли генерала Ермолова, — не предупредил меня и я бы не принял кое-каких мер, то хлебнул бы Сибири… Да, помнишь офицера Якубовича?
— Это с которым ты дрался на дуэли? — спросил князь. Ну как же, как он может забыть эту нашумевшую во всем Тифлисе светскую дуэль 1818 года! Раненного в руку Грибоедова привезли сюда, к нему домой, они с женой ухаживали за ним.
— Тот самый. Тоже оказался декабристом.
Наступила пауза. Тишину нарушил бой часов, привезенных из Парижа.
— В Петербурге я уже не вел веселой жизни со светской молодежью, да и молодость давно прошла… Мне кажется, что я глубокий старик и что тень смерти преследует меня всюду…
Александр Чавчавадзе сам был в плохом настроении, но этот человек с пылким, южным характером сумел подчинить страсти внешнему, кажущемуся спокойствию.
— Почему я так стремлюсь сюда? Почему я так люблю Грузию? — задумчиво сказал Грибоедов.
— Потому что тебя здесь любят, ждут.
— Я люблю многострадальный Картли и музыку твоей страны. Здесь как-то легко дышится. Хочу поселиться здесь навсегда, Александр. Открыть бы здесь уездные училища для лиц свободного состояния и училища восточных языков, коммерческий банк, публичную библиотеку. Издавать газету «Тифлисские ведомости»…
— А твои планы о перестройке Тифлиса? — с легкой иронией заметил Чавчавадзе.
— А ты не смейся, будет и это…
Вдруг распахнулись двери, и в комнату вошла девушка. Изумительная грациозность, женственность, все говорило о ее юности, и только глаза, большие, красивые; умные глаза выдавали в ней не по возрасту развитую женщину. Боже мой, неужели это Нина, крошка, которую Грибоедов брал на руки, ласкал, играл с ней?!. Да, это была она, и чтобы скрыть смущение от девушки, он по-французски обратился к ее отцу:
— За такой очаровательной Медеей я приплыл бы даже с севера!..
— Вы опоздали, сударь. Увы! Медеи наших дней не являются обладательницами золотого руна, — ответила девушка тоже по-французски.
— Потому что они сами обратились в золотое руно, — сказал уже по-русски Грибоедов и поцеловал ей руку.
Она присела в легком реверансе, и столько было непринужденной грации в этом движении, что Грибоедов почувствовал легкое головокружение.
— Не желаете ли прохладительного, Александр Сергеевич? — предложила девушка. — Лимонад на льду…
«Боже ты мой, Александр Сергеевич! Как важно! Да неужели это она, крошка, маленькая Нина!»
— Только цинандальского, — сказал он, улыбаясь.
Не прошло и минуты, как на большом серебряном подносе она внесла хеладу, наполненную вином, и два высоких бокала, на которых красовалась буква «Е» с короной. Чавчавадзе выпил залпом, Грибоедов пил смакуя.
— Мне кажется, что я пью солнце, — сказал, поставил бокал на поднос и подсел к фортепьяно.
— Привезли что-нибудь новое? — спросила Нина.
— Сыграй свое, ты же обещал «Там; где вьется Алазань»… — напомнил хозяин дома.
— Я привез вам новый романс Глинки, я ему напел, а он написал, называется «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…»
Он играл так, как мог играть только автор. И вдруг Нина запела красивым низким голосом, и казалось, будто она пела этот романс с рождения.
Потом пришел Денис Давыдов с Бороздиным. Вспоминали Кюхельбекера, который тоже побывал на Сенатской площади. Большой друг этой семьи, а стало быть, и друг Грузии, он тоже любил «яростный, кипящий Терек», «Берега волшебного Кира (Куры)» и ее «Живые острова» (Орточальские сады), «Высококаменный Тифлис» и крепость Аванури… Где он теперь, этот милый Кюхля, любимец друзей-лицеистов?!
Грибоедов попросил хозяина прочесть свои новые стихи. Александр встал и, держа в руках рог, начал полунапевно читать. Грибоедов тихонько переводил содержание стихотворения Денису:
Любовь, силу твою
Чувствует все живущее на свете,
Веру твою все исповедуют:
Монах, свободный человек, царь, раб;
Ты царица самодержица,
У тебя трон, с которого ты повелеваешь,
Сердца тебе подданными служат.
Это чувствую я, и чувствуют другие;
Кто не становится рабом
Силы твоей, любовь?
— За поэта Чавчавадзе, — произнес Грибоедов, одним дыханием опорожнил рог и передал Давыдову, — аллаверди к тебе, Денис, — и произнес две строчки из стихотворения Чавчавадзе, когда-то переведенные им:
У кого в руках желанье сердца,
Испытайте сладость любви…
Давыдов с хозяином пили, беседовали, читали стихи. А юная хозяйка с Грибоедовым вышла на балкон.
Наступили сумерки. Силуэт Мтацминда высился, как великан, охраняющий счастье людей. А на подоле его белел монастырь. Из дашнаты доносились звуки музыки — это Александр Чавчавадзе играл на дудуки.
Грибоедов смотрел на святую гору.
— Я бы хотел навечно поселиться в Давыдовом монастыре, на Мтацминда, — мечтательно произнес он.
— Не рано ли, поэт? — сказала Нина.
Александр Сергеевич очнулся, посмотрел на девушку.
«Боже мой! Как она хороша!..» — подумал он.
* * *
Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.
Так писал Николай Тихонов в стихотворении «Цинандали». А сто тридцать с лишним лет тому назад так же «прошел над Алазанью» Александр Грибоедов и страстно полюбил Кахети. Осенью 1826 года с семьей Чавчавадзе он снова приехал в Цинандали.
Какое очаровательное местечко выбрал себе князь Чавчавадзе! Кахетинское имение его друга было тем местом, где он мечтал жить и творить.
— К черту службу, о, как я ненавижу ее! Мне бы жить здесь рядом с тобой, душенька, и… творить, закончить трагедию «Грузинская ночь», начать другую…
Вдвоем — Нина и он — гуляли по цинандальскому парку, влюбленные, мечтающие. Он полюбил эту тонкую, хрупкую девушку и не представлял жизни без нее. Ей открывал свою душу, закрытую для всех; излагал свои мысли, такие опасные для других, рассказывал ей о своих мечтах, которые бы не поверил никому другому — даже с Александром он не был так откровенен, — и, о чудо! Эта пятнадцатилетняя девочка понимала все, понимала с полуслова.
Был вечер. Луна уже освещала Алазанскую долину и холодную Гомборскую вершину. Как будто рог изобилия опрокинулся над этим краем, над страной вина и песен.
Они встали со скамейки под огромным ореховым деревом (говорили, что это дерево помнило нашествие монголов) и побрели по кипарисовой аллее. Вечерней прохладой веяло от цветов, от редких тропических деревьев. Они направились к часовне, стоявшей на краю сада. Что-то таинственно-одинокое было в этой церквушке, призывавшее к безмолвию.
Головка девушки прислонилась к широкой груди Грибоедова. Вдруг он вспомнил, как несколько месяцев тому назад ему не хотелось жить, как он жаловался своему другу Степану Бегичеву на скуку и отвращение, на тягостную душевную пустоту.
— Почему ты печален, душа моя? Создатель Фамусова и Скалозуба должен быть веселым человеком! — вкрадчивым голосом произнесла Нина.
— Да, мне невесело, печально, отвратительно, несносно!.. И только ты, мое юное божество, даешь мне силы жить, желание творить. Ты и Цинандали… Совсем недавно я говорил, что мне пора умирать!.. Я не понимал своей тоски… Я не знал, как мне избавиться от сумасшествия или пистолета, я чувствовал, что то или иное ждет меня… И вот передо мной блеснул луч света — это ты, счастье мое!.. Теперь мне так хочется жить, как никогда!..
Он заметил слезинки на ее ресницах и умолк. Обнявшись, они молчали — молчала и церквушка, эта маленькая обитель тишины и покоя.
— Рядом с тобой, — продолжал он, — я чувствую другую, внутреннюю жизнь, нравственную и высокую, независимую от внешней…
Они пошли вперед, туда, где в огромном марани были зарыты столетние квеври с золотым цинандали. Старый винодел Мамука в маленькой войлочной шапочке зачерпнул небольшим оршимо на длинной палочке вина и преподнес им. Грибоедов дал пригубить Нине и выпил сам.
Старик держал наготове закуску — тоже золотистые дольки очищенного грецкого ореха.
— Я пойду, — Нина оставила Грибоедова с подошедшим отцом и легкой походкой направилась к дому.
— Я вижу, у тебя настроение изменилось к лучшему, старина, — заметил Чавчавадзе.
— Ты прав, Саша… к лучшему… я счастлив. И знаешь почему?..
— Почему?
— Это все Нина… Вот уже несколько дней все порываюсь тебе сказать…
— Не надо, — поднимая руку, ответил Александр, — я все понимаю, и я не менее счастлив. Говорю тебе, как другу…
* * *
Весной 1828 года Грибоедов получил новое назначение в Иран по дипломатической линии. Свою новую службу он называл со злой иронией «политической ссылкой». «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить», — отшучивался он.
В этом же году, в октябре, в маленькой часовне в Цинандали Грибоедов обвенчался с Ниной Чавчавадзе.
Осень в Кахети была исключительной. Парк в Цинандали напоминал палитру художника: такое буйство красок, цветов, оттенков…
Дорога от часовни до дома была усыпана розами. Нина и Александр шли под аркой перекрещенных сабель, которые держали юноши в белых черкесках.
В этот вечер в Цинандали собралась вся знать Тифлиса, лучшая часть аристократии, высшее чиновничество, поэты, писатели.
Александр Чавчавадзе был действительно счастлив— в лице своего друга он приобретал и сына. Он был тамадой, от души веселился, пел. Потом он поднял азарпешу, полную ярко-красного вина, прочитал свое новое стихотворение.
И, опорожнив сосуд, передал его своему зятю Александру Сергеевичу Грибоедову. А через неделю Грибоедов с женой, штатом посольства и казачьим конвоем выехал в Персию.
* * *
В жизни Александра Чавчавадзе наступила творческая зрелость. Все больше и больше проявляется его оригинальный созидательный гений. К этому времени относится его знаменитое «Озеро Гокча». В этом поэтическом шедевре он воспринимает действительность как философ, поэтическим языком выражая глубокие мысли о жизни и ее законах. Поэт рисует сложную картину исторического развития и общественного бытия своей родины.
В этом стихотворении слышны также и пессимистические мотивы. Но пессимизм его — это грусть о судьбе возлюбленной, родине. Это пессимизм патриота, но не только, нет, он вызван и мыслями о социальном неравенстве, рабском положении человека, будь он русский или грузин.
В его творчестве совершенно ясно слышны социальные мотивы. Это протест против существующего строя, против рабства; это отрицание родового неравенства.
Влияние декабристов, дружба с Грибоедовым, бунтарство Байрона и идеи Сен-Симона, отголоски французской революции и ужасающая реакция Николая I. Да, было над чем задуматься! Не в результате ли таких дум появилось его необычайное для тех времен стихотворение?
Вы, которые огорчаете жизнь бедных
И бесстыдно, без прав требуете, чтобы
они были рабами вашими,
Ждите — будете равными с ними!
Не вечно будете жить
Порабощением, хищением и угнетением простых.
Эти дерзновенные, смелые стихи до самых глубин раскрывают огромный и богатый внутренний мир Александра Чавчавадзе.
Неспроста он — лучший друг эмигрантов, ссыльных, представляющих самую передовую часть русской интеллигенции. Его дом — пороховница свободомыслия, арсенал, где, как оружие, хранились новые идеи, мысли, настроения. Неспроста он стал родственником Грибоедова, другом Пушкина, Лермонтова, Кюхельбекера, Дениса Давыдова.
* * *
Сегодня в отличие от обычного не был ярко освещен один из самых знаменитых Орточальских садов.
И безлюдная темнота майской ночи 1829 года нарушалась только желтовато-синим фосфорическим блеском светлячков, иногда освещавших черную, как деготь, бархатную поверхность реки.
Вода застыла. Иногда этот мрак и тишина нарушались размеренными ударами весел, и огонек, мерцающий на корме рыбачьей лодки, напоминал фонарь Харона.
Прямо на берегу Куры разостлан широкий персидский ковер.
Принц ашугов, так называли в Тифлисе Александра Чавчавадзе, принимал сегодня здесь сосланного на Кавказ русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Старый Вануа суетился и готов был пролезть в игольное ушко, чтобы угодить любимому ашугу и именитому клиенту. Он предупредил своего помощника Сакуа и нескольких карачогели, чтобы об этом «кутеже не болтали зря»: князь принимает какого-то русского ашуга, «нехорошо упомянувшего в своей песне русского царя», и эта таинственность еще больше усиливала любопытство простых людей.
Гости сидели в беседке из живого виноградника.
Молодой рачинец, немного припудренный мукой, разложил горячие торнис пури, точно сорванные с неба молодые луны. Тут же неподалеку, на ветке огромного орехового дерева, висел только что зарезанный баран, и Вануа отрезал от него куски для шашлыка. На столе лежали слизистые головки зеленовато-серого овечьего сыра — мотали, а рядом обрызганная росой зелень: душистый тархун, весенний цицмати, редис, душистый киндза, ниахури, праса…
Деревянная миска наполнена джонджоли. Снятые на глазах у гостей с раскаленных камней цыллята-табака лежали на больших виноградных листьях перед каждым из гостей. Тут же на ковре плетеные корзины с фруктами и гроздьями винограда прошлогоднего урожая. Льется из бурдюков в рога кроваво-красное кварели, розовое кахетинское, золотисто-янтарное цинандали.
Сидящий во главе стола красивый человек с гордой осанкой читал стихи, вернее — пел их. А все остальные слушали его, принца ашугов, точно менестреля, на шесть веков опоздавшего на этот пир. Рядом, как тополя, стояли красавцы юноши; опустив головы над азарпешами, вглядывались они в красное вино…
…Ты, нарцисс, любуешься собой и любишь себя,
Но вместо того чтобы смотреть в воду,
Ты в зеркало превратил красное вино;
Лицо твое отражается в этом вине, как роза,
радуешься ты,
Потом, зачарованный обаянием своим, готов ты
от любви к себе умереть…
Только успели гости вслед за гимном молодости осушить свои серебряные азарпеши, как из ночи выплыли фигуры карачогели, зажглись чаши в их руках, на стол посыпались живые цоцхали, и под сурдинку раздалась песня.
Это была песня в честь гостя.
Пушкин вскочил, лицо его сияло от радости, и Чавчавадзе протянул ему рог, полный вина.
…Не напрасно тянуло Пушкина в Грузию, в этот новый для него «Парнас», в страну, чей «счастливый климат не вознаграждал сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые». С благоговением, с восторгом проехал он Военно-Грузинскую дорогу. И Кавказ его принял в свое святилище. «Здесь оставался я несколько дней в любезном, веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских…» — писал он.
И вот в один из таких вечеров, когда «На холмах Грузии легла ночная тьма», он гость Александра Чавчавадзе.
Все умолкли, встали и слушали Пушкина:
— Я всегда говорил, что мой друг Грибоедов один из самых умных людей России, сегодня я лишний раз убеждаюсь в этом и понимаю, почему он сдружился и породнился с князем Александром Чавчавадзе. Мне понятно это родство душ. Грибоедов создал свое: он написал «Горе от ума», Чавчавадзе создал свои песни… Отныне эти два человека будут жить в памяти моей, как одно целое, как один образ…
Не знали они, что два месяца тому назад разъяренная толпа проволочила по грязным улицам Тегерана растерзанный труп Грибоедова… Не знали они, что по пустынным, пыльным дорогам Персии и Азербайджана уже медленно ползла арба с бездыханным телом поэта…
Юная вдова Грибоедова выполняла завет любимого мужа и друга: «…Не оставляй костей моих в Персии; если умру там, то похорони меня в Тифлисе, в монастыре Давида…»
* * *
После гибели Грибоедова траур надолго поселился в семье Александра Чавчавадзе. Сам поэт стал почти нелюдим, большей частью он жил в Цинандали. Все больше думал он о превратностях судьбы, об участи народа, о будущем.
Однажды вечером, когда он сидел на балконе своего дома и любовался величественной красотой Алазанской долины, к воротам его дома прискакал всадник. Это был Луарсаб Орбелиани, его товарищ, посланец от князей, которые просили его принять участие в заговоре против русского царя, за восстановление независимости Грузии.
Александр долго не отвечал, мучительно думал, вымеряя шагами комнату. Вспоминал он слова Грибоедова о декабристах, о том, что затея декабристов заранее была обречена — народ не шел с ними, хотя заговор декабристов был, безусловно, прогрессивным явлением. А тут! Тоже без народа, один царь сменится другим, пусть даже своим, но будет ли легче от этого грузинам? Опять маленькая страна окажется стиснутой со всех сторон врагами. А он верил, что счастье Грузии все-таки с Россией. Но, сторонник национальной независимости» он все же не мог не сочувствовать заговору.
В 1832 году Александра Чавчавадзе обвинили в причастности к тайному заговору верхушки грузинского дворянства и арестовали. На следствии он держался достойно, не выдал никого, не отрицал, что причастен к заговору, хотя эта причастность не была доказана.
В январе 1834 года, после следствия и суда, его сослали в Тамбов. Через два года он был помилован и вернулся на родину. Положение поднадзорного не помешало ему принимать у себя Лермонтова, Одоевского. В эти годы он сам был, как «демон, дух изгнанья», как мцыри в Джварском монастыре.
В 1838 году его назначили членом совета при главноначальствующем на Кавказе, в 1841 году присвоили звание генерал-лейтенанта. 6 ноября 1846 года несчастный случай нелепо оборвал жизнь Александра Чавчавадзе, жизнь, полную энергии и созидательного труда.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Н. Микава ЛЕГЕНДА О РУСТАВЕЛИ
Н. Микава ЛЕГЕНДА О РУСТАВЕЛИ …Его судьба так же печальна, как судьба Сервантеса, Шекспира, Данте, как судьба многих великих поэтов и мыслителей… Старость его прошла в изгнании, вдали от родины…Его поэма прозвучала в веках, как неповторимая музыка эпохи, прозвучала и
Н. Микава ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ
Н. Микава ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ Как объяла ночь меня, — Так и утро озарило. Д. Гурамишвили Великий грузинский поэт, углубивший и расширивший народно-национальные традиции грузинской поэзии, певец, ученый, гуманист и патриот, провозвестник дружбы народов, с именем которого
Лали Микава САЛАМУРИ
Лали Микава САЛАМУРИ Песня — душа народа.Если слова выражают мысли человека, то песня, безусловно, его душевное состояние.У каждого народа свои песни: яркие, музыкальные, чистые! Как в прозрачной озерной глубине, видна в них народная душа.Поэтому песни — второй язык
Н. Микава ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ
Н. Микава ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ 1…Нет, это название не случайно.Ладо Гудиашвили действительно создал сказочный мир красок — свою бессмертную Шехерезаду. Каждая его картина — легенда. Сказочные краски, удивительные линии карандаша. У каждой его картины,
О нарушении церковного Устава, или О том, как мы с князем Зурабом Чавчавадзе нарушали Великий пост
О нарушении церковного Устава, или О том, как мы с князем Зурабом Чавчавадзе нарушали Великий пост В 1998 году префект Центрального округа Москвы, в котором расположен наш Сретенский монастырь, Александр Ильич Музыкантский рассказывал мне о своей поездке в Грозный и о том,
АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ, известен также как АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 356-323 до н.э.
АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ, известен также как АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 356-323 до н.э. Царь Македонии с 336 года до н.э., известнейший полководец всех времён и народов, силой оружия создавший крупнейшую монархию древности.По деяниям Александра Македонского трудно сравнить с кем-либо из
Александр
Александр «А каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж? Не ожидал я этого от него», — однажды пошутил Пушкин. Так и повелось в кругу родных называть первого сына поэта «Саша рыжий». Появился он на свет Божий 6 июля 1833 года в то время, когда его отец многое передумал и пересмотрел
ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ
ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ Если вы попадете в Кахетию — благодатный виноградник, раскинувшийся во всю длину и во всю ширину Алазанской долины, потом уже никогда ее не забудете, как не забудете гор, за которыми лежит Дагестан. Голубые, акварельные на рассвете;
«Гастрольные» мужчины. Левон Мерабов, Александр Лившиц, Александр Левенбук
«Гастрольные» мужчины. Левон Мерабов, Александр Лившиц, Александр Левенбук Гастрольная деятельность певицы Аллы Пугачевой началась осенью 1965 году, и связана она была с именами сразу нескольких мужчин. Первым из них был композитор Левон Мерабов. Вспоминает А.
Как мне пригодились Сталинские премии, или Юбилей Илико Чавчавадзе
Как мне пригодились Сталинские премии, или Юбилей Илико Чавчавадзе Наш Союз был создан позже других союзов, лет на тридцать позже. В 30-х годах были созданы союзы писателей, художников, композиторов, архитекторов. Но наш Союз все как-то не создавали. Боялись, что
«Александр»
«Александр» Вскоре после завершения съемок второй части «Расхитительницы гробниц» Джоли, которая никогда не избегала участия в фильмах с преимущественно мужским актерским составом, согласилась на роль в фильме «Забирая жизни», где вместе с ней играли Итан Хоук, Оливье
Из письма Жан-Жака Мари Елене Чавчавадзе (текст получен составителем от автора)
Из письма Жан-Жака Мари Елене Чавчавадзе (текст получен составителем от автора) Е.Н. Чавчавадзе, автору фильма «Троцкий. Тайна мировой революции».Г-жа Чавчавадзе!В марте 2006 года Вы явились ко мне с командой телеоператоров. Вы заявили мне: «В России возрос интерес к
Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе
Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе Потеряв мужа, Нина Чавчавадзе до самой смерти не снимет траура по нему. Эту красивую женщину под густой черной вуалью назовут Черной розой Тифлиса. Она и впрямь была похожа на цветок – красивая, нежная, овдовевшая всего в семнадцать
Зураб Чавчавадзе Поэт, писатель, монархист…
Зураб Чавчавадзе Поэт, писатель, монархист… В середине 60-х годов минувшего столетия попался мне на глаза один из толстых московских литературных журналов с «Письмами из Русского музея» Владимира Солоухина, к тому времени уже хорошо известного советской читающей