VI
VI
Было уже темно, и высыпавшие на небе звёзды светились над головой в просветах между деревьями, когда он подошёл к резиденции герцога, спрятавшейся в роще на берегу Ильма, всего в нескольких минутах ходьбы от его дома. Собственно говоря, это пышное название «резиденция» было присвоено небольшому домику, который герцог приказал выстроить здесь, чтобы быть поближе к своему другу и любимцу. Однако в последнее время он жил в этом домике практически постоянно, пытаясь таким образом найти какой-то приемлемый для всех компромисс между своей весьма не тихой манерой жить и необходимостью сохранять хотя бы видимость мира и согласия в августейшей семье. А проще сказать — чтобы поменьше сталкиваться со своей умной, холодной и нелюбимой женой, герцогиней Луизой, вечно устраивавшей ему, особенно наедине, всякие сцены из-за его многочисленных рискованных связей и похождений... О, сколько великолепных вечеров они провели здесь вдвоём с герцогом за дружеской беседой и за стаканом вина... Или в обществе актрис Веймарского театра во главе с прелестнейшей Короной Шрётер. Или, наконец, совсем уж потаённо, когда посетительниц резиденции доставляли сюда под величайшим секретом в закрытой карете, а иной раз и с масками на лицах и закутанными с ног до головы...
Стояла полная тишина, наглухо зашторенные окна в доме почти не пропускали свет, и Гёте, естественно, вздрогнул, когда у самого крыльца в темноте вдруг блеснул штык и чей-то голос хриплым, сдавленным шёпотом окликнул его:
— Стой! Кто идёт? Пароль!
— Свои, свои... Пора бы, кажется, научиться и узнавать, — с досадой, преодолевая испуг, проворчал Гёте, никогда не любивший эту нелепую игру взрослых людей в солдатики и никогда не умевший запомнить ни одного пароля.
Часовой, хрустя гравием под ногами, выдвинулся из темноты и, узнав его, молча отдал честь. Дубовая, украшенная тяжёлой резьбой дверь подалась, петли её заскрипели, и он вошёл в маленькую, увешанную оленьими рогами прихожую, из которой другая, открытая, дверь вела прямо в гостиную. Там, в кресле у камина, под двумя ярко горевшими канделябрами, сидел герцог и, подперев голову рукой, смотрел в камин. Перед ним на маленьком столике стояла бутылка вина и рядом с ней — два столовых прибора. Герцог ждал, и ждал, несомненно, его.
— Ваше высочество...
— Вольфганг! Наконец-то! Черт побери, где ты пропадаешь целый день? Я даже сам заезжал сегодня днём в канцелярию, но мне сказали, что никто не знает, где ты, и никто тебя не видел со вчерашнего вечера. Гофмаршал даже высказал предположение, что ты, не сказавшись никому, уехал в Иену... Ну, подсаживайся же скорей, старина! И давай-ка, как подобает старым буршам, прежде всего выпьем по глотку доброго вина. А уж потом... А уж потом начнём говорить и о делах...
— Ваше высочество...
— Брось, Вольфганг! Что с тобой сегодня? Ты же знаешь, что я этого не люблю... Меня зовут Карл-Август. Карл-Август — надеюсь, ты этого не забыл?
— Ваше высочество, прежде всего я хотел бы всеподданнейше доложить, что я снимаю все свои возражения против указа о введении смертной казни за детоубийство и что я подписываю этот указ. Обстоятельно взвесив все «за» и «против», я...
— Вольфганг! Черт! Да неужели?! Подписываешь, согласен? Господи, какая же радость! Какая радость... Уф, как гора с плеч! Дьявол тебя возьми, сам-то ты хоть понимаешь, какую ты тяжесть снял с меня? Понимаешь? О, дорогой мой Вольфганг... Мой самый лучший, самый умный в мире премьер-министр!
Не будучи в силах сдержать восторга, герцог вскочил, отбросил ногой кресло и сгрёб Гёте в свои объятия. Кости господина тайного советника затрещали: герцог был рослый, крупный мужчина, обладавший поистине медвежьей силой, вспыльчивый и экспансивный, и Гёте, пытавшийся некогда тягаться с ним во всех его молодецких забавах, уже давно понял, что лучше всё-таки держаться подальше от его бурных дружеских излияний. Любой, даже самый ласковый его хлопок по плечу означал по меньшей мере нешуточный кровоподтёк на следующее утро, ну а если он всерьёз обнимет кого — считай, одно-два ребра у тебя или треснули, или сломаны, можешь сразу, не сомневаясь, вызывать врача... Удивительно всё же, как причудливо сошлись в этом человеке солдатская грубость, буйство и, с другой стороны, дальновидный ум, понимание человеческой натуры, доброта, терпимость, жажда знаний, стремление сделать как лучше, а не просто восседать на троне, пользуясь своим божественным правом не делать ничего и не думать ни о чём... Редкого размаха человек! И это в двадцать шесть-то лет! Благодарите Бога, жители герцогства Саксен-Веймарского, что судьба дала вам в монархи именно его, а не какое-нибудь сонное жвачное животное, какими издревле славятся столь многие немецкие дворы... Да-да, почтенные обитатели герцогства, благодарите Бога и судьбу, а может быть, хоть немного и меня.
Сдержанно улыбаясь, Гёте высвободился из герцогских объятий, поправил съехавшее набок жабо и обшлага парадного камзола и тихо, глядя снизу вверх в сияющие, брызжущие радостью глаза герцога, сказал:
— Вот и всё... Вот, собственно говоря, и всё... За этим, Карл-Август, я и торопился к тебе. А теперь налей мне вина. Уверяю тебя, мне это всё далось очень нелегко...
— Вот и всё? Ты говоришь, Вольфганг, вот и всё? Нет, дорогой мой! Это ещё далеко не всё. Это ещё только начало, я тебе скажу. Теперь-то уж я обломаю всю эту сволочь! Теперь-то они у меня попляшут! К чертям собачьим всех этих шептунов, всех этих мерзавцев, вознамерившихся развести нас с тобой, лишить меня твоей дружбы и твоей помощи! Ну, я им теперь покажу! Что, съели, господа? Получили? Вам нужен этот дурацкий указ? Пожалуйста! Но Гёте был и останется премьер-министром герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского, он был и останется великим поэтом Германии, нашей вершиной и нашей национальной гордостью! А вам как судил Господь Бог копошиться в вашем дерьме, так и сидите в нём по уши до скончания своих дней, задыхаясь в собственном зловонии! Коптите небо, обжирайтесь, грызите друг друга, но не мешайте нам дело делать! Не мешайте ему и мне! И можете хоть подохнуть от зависти все до одного, но завтра будет спектакль, будет празднество в честь Иоганна Вольфганга фон Гёте! И всё герцогство будет праздновать этот день!
— Ваше высочество... Мне, право, очень тяжело сознавать, что из-за меня вам приходится испытывать на себе такое постоянное давление. И мне кажется... Я давно думаю... Может быть, было бы лучше, если бы для равновесия сил в государстве я в дальнейшем сосредоточился бы на таких областях, как культура, наука, искусство...
— Равновесие?! Да будь оно проклято, это равновесие! Вот оно где у меня сидит, это твоё равновесие! Вот!.. Не равновесие, а перевес сил — вот что нам нужно! Наших с тобой сил! Я и так уже, Вольфганг, чувствую себя опутанным по рукам и ногам какими-то бесчисленными нитями... Не имеющим сил шевельнуть даже пальцем. Как Гулливер... Даже пальцем, Вольфганг! Не говоря уже рукой или ногой. Нет, Вольфганг, не равновесие. Только не равновесие... Медленное, мётодичное накопление сил и потом — удар! Безошибочный, сокрушительный удар с полной отдачей сил и полной гарантией успеха. Вот наша с тобой тактика, вот наша с тобой стратегия, пока Господь Бог нас не разлучит. Вот что нам нужно, Вольфганг! Именно так, и только так мы с тобой когда-нибудь подомнём их всех под себя. А пока... А пока мы ещё слишком слабы с тобой, Вольфганг. Слишком слабы... О, если бы ты знал, как я боялся, что ты в конце концов из каких-то там высших твоих соображений предашь меня! Если бы ты знал, сколько ночей в последнее время я просидел здесь в одиночестве, думая о нас с тобой! Ты понимаешь весь ужас, всю безвыходность моего положения? Я говорю тебе раз, и другой, и третий, что надо подписать, а ты мне каждый раз в ответ одно и то же: «Не надо, это средневековье, это шаг назад...» И я же вижу, что ты действительно искренне не понимаешь ничего! И более того — не хочешь понимать! И я знаю твоё упрямство... А на меня жмут со всех сторон, и чем дальше, тем больше... Средневековье! Как будто я сам не знаю, что это средневековье. Но у нас с тобой сегодня нет другого выхода, Вольфганг! Нет! И ты и я — мы оба сейчас рабы обстоятельств, мы оба должны или отступиться от всего, или подчиниться им... Да, шаг назад! Но за ним последуют два шага вперёд!.. И в итоге хоть один шаг, но вперёд. Вперёд, и только вперёд! Ты же должен это понимать...
— Я понимаю, Карл-Август... И я глубоко сожалею, что дал тебе повод к таким тягостным подозрениям. Будь уверен, никогда я тебя не предам, Карл-Август. Никогда! Клянусь. Я был и буду твой верный слуга, твой верный помощник во всех твоих благородных замыслах и начинаниях. И до тех пор, пока я тебе нужен, я буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь тебе устроить государство. Я верю в твоё великое будущее, герцог! В твоё, а значит, и в моё...
— Ну вот и прекрасно, Вольфганг! Вот и прекрасно... Будем считать, что инцидент исчерпан. Полностью исчерпан. А теперь садись. Садись поближе. Должен тебе признаться, Вольфганг, что у меня сейчас настроение напиться. Поможешь, а?.. О Господи, какая же гора с плеч! Какая же гора... Всё, Вольфганг! Начинаем праздновать твой день рождения. С этой минуты и герцогство, и его так называемый повелитель живут только одним — тем днём, который в Книге Судеб отмечен как праздник всех людей на земле. Твоё здоровье, дорогой мой премьер-министр! Твоё здоровье, поэт! Твоё здоровье, мой учитель и друг!
Герцог вскинул свой стакан и стоя, в рост, выпил его до дна, всё выше и выше задирая при этом шею с резко выступившим вперёд кадыком. Гёте последовал его примеру. Осушив стакан, герцог вдруг неожиданно, со всего размаху, шваркнул его об пол так, что осколки, брызнувшие от него, разлетелись по дубовому паркету во все углы. Гёте вздрогнул, но, сейчас же овладев собой, улыбнулся.
— На счастье, Вольфганг... Не пугайся. Больше сегодня бить ничего не будем. Надо же было каким-то образом поставить на всём этом точку или нет?.. Слушай, старина... А всё-таки неприятно, наверное, сознавать себя побеждённым, а? Неприятно, согласись? Да ещё такой мразью, не презирать которую не можем ни я, ни ты...
— Неприятно, Карл-Август. Признаюсь.
— Ага! Вот видишь! А я, между прочим, Вольфганг, и об этом подумал. Я и это предусмотрел... Похвали меня, старина! Мне это сейчас очень важно. Знаешь, что я предлагаю? Чтобы они не думали, что они победили? Что мы и впредь будем плясать под их дудку? Я предлагаю одновременно с этим проклятым указом представить в ландтаг и другой, который ты подготовил ещё год назад. Ну, помнишь... О запрете изгонять из храмов и молельных домов матерей внебрачных младенцев. Ты тогда, помнится, тоже много толковал о средневековье. И даже знаешь что? Знаешь что, Вольфганг? Не один этот указ. Если один, то тогда как раз и будет это твоё чёртово равновесие, о котором я уже и слышать не могу. Нет, Вольфганг... Нет, дорогой мой... Мы подсунем им и ещё один указ, тоже, как всем известно, подготовленный тобой. О запрещении пыток и допроса с пристрастием «даже применительно к простым крестьянам и безродным бродягам»... Вот это будет равновесие! Три указа, и в нашу с тобой пользу, Вольфганг, не в их!.. Да-да, господа судейские, да-да, господа чиновники, в нашу с Гёте пользу, не в вашу! Шиш! И извольте утереться, господа! Поищите теперь дураков в другом месте, не здесь!
В этот момент дверь в зал потихоньку отворилась, и в неё осторожно протиснулся невзрачный человек лет сорока, в очках, в тёмном потёртом камзоле и грубых чулках на кривых ногах. Под мышкой у него была папка для бумаг. Гёте узнал его: это был один из секретарей герцога, в ведении которого находились самые секретные дела его канцелярии. Увидев, что герцог не один, что с ним Гёте, человек сделал непроизвольный шаг назад, но было уже поздно: Карл-Август заметил его.
— А, это ты? В чём дело?
— Вы... Вы, ваше высочество, приказали представить вам вечером на подпись известное вам распоряжение, с проектом которого вы уже знакомились сегодня днём...
— А! Порвать! Уничтожить! Бросить в печку! Вместе со всеми черновиками!.. И никогда... Слышишь? Никогда больше не напоминать мне о нём! Предупреждаю — головой отвечаешь, если не уничтожишь всё вплоть до черновиков...
Человек исчез. Похоже, что его появление несколько смутило герцога. Но неловкое молчание за столом длилось недолго. Карл-Август, когда было надо, умел-таки владеть собой.
— Так что ты думаешь об этих двух указах, Вольфганг? Согласен ты со мной, внесём их тоже в ландтаг? Или нет?
— О, это прекрасная мысль, ваше высочество... Великолепная мысль! Она недвусмысленно подтверждает общую тенденцию в государстве. И не оставляет никаких сомнений относительно взглядов и дальнейших намерений вашего высочества... Я думаю, что общество по достоинству оценит эти инициативы... Принятие обоих этих постановлений будет, я убеждён, содействовать оздоровлению общего политического климата в стране. И укрепит, несомненно, юридическую базу для назревших структурных реформ в нашем государстве...
— Да-да, ты прав, Вольфганг. Назревших... Именно назревших...
— Эти инициативы, ваше высочество, как мне кажется, особенно важны в смысле продолжения процесса выравнивания политических прав и обязанностей всех граждан государства, независимо от их происхождения и имущественного состояния. И соответственно, постепенной ликвидации неоправданных привилегий отдельных слоёв... Думаю, что, отталкиваясь от этих указов, а также ряда других, не менее серьёзных и тоже ждущих своей очереди, мы смогли бы в недалёком будущем осуществить и обе ключевые идеи программы преобразований, намеченной вашим высочеством: установление юридического и фактического равенства сословий и затем — введение прямого прогрессивного налогообложения всех подданных государства без различия источников их доходов...
— Стоп, стоп, Вольфганг. Погоди. С этим, прошу тебя, погоди. Не заносись. Скажу тебе, я много думал над этими твоими проектами, особенно в последнее время... Заметь, над твоими проектами, не моими. Не надо, не делай из меня дурака! Когда мы с тобой вдвоём, это уж совсем ни к чему... И я пришёл к выводу, что с ними нам с тобой придётся обождать. Я давно хотел побеседовать с тобой подробно об этом, но всё как-то не получалось. Эти идеи прекрасны, они справедливы, более того — они разумны и, судя по всему, сулят весьма многое как в политике, так и во всей жизни государства. Но... Но сейчас они нереальны. Сегодня, пока мы ещё слабы, нам с тобой, Вольфганг, не преодолеть сопротивление тех самых социальных слоёв, положение которых ты намерен подорвать... Кончится тем, что они убьют и тебя и меня. Подложат бомбу в мою карету, или отравят меня, или устроят династический переворот и запрут меня в сумасшедший дом. А тебя пристрелят где-нибудь в лесу. Это нетрудно, зная твою неосторожность... Кстати, когда ты наконец обзаведёшься охраной? Сколько можно тебе об этом говорить?.. Вольфганг, послушай меня... Это вовсе не значит, что я хоть в малейшей степени не согласен с твоими проектами. Я согласен с ними полностью и абсолютно. Абсолютно — заметь! Но... Надо подождать, Вольфганг. Подождать... Не огорчайся, придёт и этому черёд... Мы оба с тобой ещё чертовски молоды, Вольфганг, у нас ещё всё впереди, и когда-нибудь мы их всех скрутим в бараний рог. Терпение, Вольфганг! Терпение... Выдержка, терпение, накопление сил... А пока, прошу тебя, забери ты, ради Бога, оба этих проекта из моей канцелярии. Забери! Слишком уж много о них стали говорить. Думай над ними, улучшай, разрабатывай их дальше, но дома, пожалуйста, дома! Чтобы ни одна канцелярская крыса не знала о них... И конечно же держи меня в курсе твоей работы над ними. Не думай, я сдаваться не намерен! Чего-чего, а этого они от меня не дождутся никогда...
— Забрать?! Ваше высочество... Как же так — забрать? Забрать и приостановить всю программу преобразований?.. Так я вас понял, ваше высочество? Такую задачу вы ставите передо мной?
— Так, Вольфганг. Или, вернее, — и так, и не так. Ничего приостанавливать мы не будем. Мы только снизим темп. Твои проекты — это программа-максимум. И чтобы успешнее её осуществить, мы должны избрать тактику не лобового нажима, а постепенного, шаг за шагом, приближения к цели. Вот, например, я знаю, что ты сейчас готовишь новый охотничий устав. Разве это пустяковое дело, Вольфганг? Разве это пустяковое дело — навести порядок в лесах государства?.. Или твоя эта реорганизация пожарных команд. Ведь горим же? Горим. А тушить умеем? Нет, не умеем. А надо уметь... Ты великий человек, Вольфганг. Но и у великих людей тоже есть свои недостатки. Боюсь, что самый главный твой недостаток — нетерпение... И излишняя отвага... Заметь, это говорит тебе человек, который сам готов вскочить на любую необъезженную лошадь, если ему этого захотелось... Ну что ты скис? Стыдись! Не подобает старому буршу распускать нюни из-за такой в общем-то ерунды. Мы живы, Вольфганг! Мы молоды, мы доверяем друг другу, мы умны и сильны духом — так что, мы с тобой не победим? В конце концов не победим? За нашу победу, Вольфганг! За нашу победу, дорогой мой премьер-министр!
— Виват! За победу, Карл-Август! За нашу победу... Только вот где, ваше высочество? Здесь или на небесах?
— Брось, Вольфганг, брось! Что за мысли? Гони их прочь! Мы молоды, Вольфганг, молоды! Мы ещё только начинаем жить... Нет, мне не нравится твоё настроение, дорогой мой премьер-министр. Не нравится! Я должен тебя расшевелить. Эй, кто там! Пусть принесут ещё вина, и пусть позовут музыкантов!
— Музыкантов?
— Да, а что? И их тоже. Мы будем с тобой кутить, Вольфганг. Кутить до утра. А какой же кутёж без музыки?.. Ну, где они там запропастились? Какого черта?
Никогда, когда надо, не докличешься никого. Придётся идти самому...
Герцог вскочил и вышел из гостиной. Поставив свой стакан на стол, Гёте откинулся на высокую спинку кресла, вздохнул и прикрыл глаза. Тишина и безразличие ко всему охватили его.
«Вот и всё, — думал он. — Вот и конец твоим вдохновенным планам, господин великий поэт. Конец... Удивительно, однако, как всё просто и легко. «Забери, Вольфганг!..» И все твои хитрости, твои манёвры, все твои многомудрые, сложнейшие построения рассыпались в прах. И не надо обманывать себя: никакое это не временное отступление — это вся твоя дальнейшая жизнь, это та жизнь, которой ты будешь жить до скончания своих дней... Глупости... Всё это глупости, Вольфганг. Все эти твои великие цели, планы, преобразования — все глупости! Никому это не нужно, и никогда этого не будет, и с этим и надо жить. Сегодня одни обстоятельства, завтра другие, послезавтра третьи, а ты как был бессильным их рабом, так и останешься им, каких бы высот власти и влияния ты ни достиг. Хоть ты разорвись, хоть лопни от натуги — тебе их не перебороть. Никогда не перебороть. Даже герцог, твой друг и воспитанник, даже он оказался тебе не под силу. А сколько ещё их, других, толпится там, за его спиной? И всем им нужно пить, есть, что-то делать, за что-то отвечать, кем-то быть. Герцог прав: тысячами, миллионами они повиснут у тебя на руках и не дадут даже пальцем пошевелить... А, провались ты всё пропадом... Реформы, преобразования. Хватит тебе дела и без них. Ты же уже влез в эту жизнь? Влез? А раз влез — будь любезен, не жалуйся и с достоинством тащи свой крест. Пока хватит сил... Да я не спорю, я согласен, я тащил и буду тащить. Только вот ради чего? Господи, ради чего? Слава, деньги, почёт, лента через плечо, собственный дом, собственный выезд — ах, как же это всё не важно, несущественно, как же это всё мелко, чтобы только ради этого и жил человек! А что не мелко? Цель? Великая цель? Вот она, твоя цель... Можешь теперь сидеть и любоваться на то, что осталось от неё. «Уже в мечтах сверхчеловеком став...» Ах, поэт! И это ещё не всё. Далеко ещё не всё... Кто знает, что ещё ожидает тебя впереди...»
Гёте тяжело поднялся с кресла и подошёл к окну. Плечи его обвисли, глаза потухли. За окном стояла глухая ночь, и в чёрном, непроницаемом стекле было видно только его собственное отражение да ещё маленькое дрожащее пламя свечи, одиноко горевшей на столе, у него за спиной: свет от канделябров на камине в этот угол гостиной не доставал... «Вот так-то, ваше превосходительство, господин премьер-министр... Вверх-вниз, вверх-вниз... Как на качелях. И так всю жизнь. Когда же наконец ты научишься полностью владеть собой, сохранять ровность в душе? Когда же наконец ты обрастёшь броней? Ах, трудна наука жизни! Трудна... И сколько ни приучай, ни закаливай себя, один удар, да не удар даже — один серьёзный подзатыльник от жизни, и все: вместо борца, вместо полубога опять жалкое, расслабленное существо, трепещущее от страха перед жизнью, перед судьбой, ничтожное, бессильное и не способное ничего понять ни в мире, ни в себе... Нет, работать, работать — в этом спасение! Работать и не думать, почему работа, зачем работа, какая она и кому она нужна. Пусть оно и не всесильное, это лекарство, но никакого другого у тебя нет. Благодари Бога, что у тебя хоть это есть. У других и этого нет».
Двустворчатая высокая дверь распахнулась, и в гостиную ворвался герцог, прижимая к груди серебряное ведёрко со льдом и с воткнутыми в него двумя длинными бутылками. Вид у него был сердитый, но глаза смеялись.
— Вот, Вольфганг! Добыл, достал, вырвал из зубов! Ты представляешь? Мерзавцы! Один самым нахальным образом спит, другой преспокойно раскладывает пасьянс — и это на дежурстве, а? Черт знает что! Совершенно распустились! Все до одного... О каких реформах ты говоришь, Вольфганг, когда элементарного порядка нет в государстве? Когда дежурные офицеры спят на своём посту? Когда я даже гофмаршала не могу сменить, этого старого осла? Не двор, а богадельня!.. Вот где сначала надо навести порядок, а уж потом браться и за реформы! Нет, терпение моё истощилось: клянусь, в самое ближайшее же время эта старая развалина получит от меня пинок под зад. Ты не представляешь, как он мне надоел! Уволю и назначу тебя...
Они провели вместе превосходный вечер. Герцог был мил, добр, весел, легко и с удовольствием шутил, вспоминал какие-то их совместные юношеские проказы, беспрестанно подливал ему и себе, вскакивал, бегал взад-вперёд, шумел, а иногда вдруг затихал в кресле, уходил в себя, и тогда в гостиной устанавливалась такая тишина, что можно было слышать тиканье старинных бронзовых часов, стоявших у них над головами, на мраморной каминной доске. Но такие минуты случались не часто, и за каждой из них тут же следовал новый приступ весёлости: герцог, конечно, понимал, что творилось сейчас в душе его друга, и, чувствуя себя тому причиной, всячески старался отвлечь его от печальных мыслей единственно доступным ему в такой обстановке способом — своей болтовнёй.
Как всегда, им не нужно было выискивать темы для разговора. Герцога живо интересовало всё, что думал и чем был занят его премьер-министр: и что он, Гёте, ещё написал, и чего он достиг в своих научных изысканиях, и каковы были его взгляды относительно возможности сближения средненемецких государств в противовес давлению Пруссии и Австрии, и что он может посоветовать по такому животрепещущему и важному вопросу, как необходимость окончательного устранения графини фон Вертерн из жизни герцога... Им всегда было хорошо вдвоём, без всяких усилий хорошо, и оба они давно уже не представляли себе жизни без таких вот маленьких, скрытых от всех вечеров, без этого дружеского обмена мыслями и взаимными признаниями, в котором каждый из них ничего не терял, а только приобретал и от которого у обоих потом надолго оставалось ощущение теплоты, доверия и заботы друг о друге. И даже сегодня, несмотря на потрясение, которое только что пришлось испытать, Гёте не нужно было ломать и обуздывать себя, чтобы на любое приветливое слово герцога и любое проявление его участия отвечать ему тем же: глубокие симпатии к этому шумному, доброму и порывистому человеку давно уже жили во всём его существе. Мог ли он сердиться на него, мог ли он враждовать с ним, ненавидеть его, своего ученика? Нет, не мог. Единственное, что он мог, — это грустить, печалиться, сожалеть. Но и то предпочтительно не на глазах у герцога, а без него, одному. Не было у него зла против этого человека и не могло быть: разве его, герцога, вина, что ничего нельзя в этом мире изменить? И разве он виноват в том, что все его прерогативы, все его так называемые неограниченные права были в реальности ничто в сравнении с тёмной, всепобеждающей силой тесно спаянных между собой себялюбцев, которым наплевать и на Бога, и на людей, и на всё на свете, кроме себя, и которые вдруг почувствовали, что почва уходит у них из-под ног? «Да-да, он не виноват, — думал Гёте. — Но и я не виноват. И никто не виноват. А в результате — всеобщий паралич, всеобщее оцепенение, дурной, тяжкий сон, пробуждения от которого, боюсь, уже не будет никогда. И самое ужасное в том, что за каждым добрым начинанием опять всё та же ухмыляющаяся рожа Мефистофеля, который знает наперёд, что из добрых порывов и начинаний ничего, кроме безобразия и нового зла, никогда не выходило и выйти не может. Почему? Да потому, что человек всё норовит изменить других, а не себя. А надо в первую очередь себя и уж потом, может быть, — да, может быть! — других. Так где же выход, Господи, где? Покориться, смириться? Положиться на Тебя и на Твоего верного соратника и помощника — сатану? Дескать, что-нибудь когда-нибудь из всего этого да выйдет? Что-нибудь да получится? А что, где, когда — не спрашивай, не твоего ума это дело, человек... О Господи, как же это всё тяжело... Как же тяжело...»
Дежурный офицер доложил наконец о приходе музыкантов. Робко озираясь по сторонам, они сгрудились в углу гостиной, у клавесина, достав из футляров свои скрипки и ожидая распоряжений герцога. Карл-Август предпочитал обычно бодрую, веселящую душу музыку, но на этот раз, понимая состояние своего друга, он попросил сыграть что-нибудь потише, поспокойнее, что больше бы отвечало и позднему уже времени, и тому тихому, слегка меланхоличному настроению, в которое Гёте всё-таки, несмотря на все усилия герцога, впал и из которого его, по-видимому, и не следовало теперь выводить. Капельмейстер взмахнул своей палочкой, и какая-то трогательная, бесхитростная мелодия, похоже, что итальянская, заполнила собой зал...
О многом передумал господин тайный советник, пока продолжался этот маленький концерт. О многом: о прошлом, о будущем, о герцоге, о себе. Прошлое? А что прошлое? Может быть, ему и надо было жениться на Фридерике, жить тихой деревенской жизнью, смиренно слушать голоса природы, думать о Боге и о душе, вставать с восходом, ложиться с заходом солнца, читать толстые книги, беседовать по вечерам под кувшин сидра со старым пастором, её отцом... А может быть, ему надо было запереться на всю жизнь у себя в доме, во Франкфурте, в полутёмной мансарде под самой крышей, жить отшельником, и писать своего «Фауста», и разговаривать либо с собой, либо с теми, кого он создал сам, своим воображением, будь то люди или бесплотные духи. И с ними так и дожить до самой старости, потому что они умнее и лучше любых из тех бесчисленных, из плоти и крови, с кем его сталкивала жизнь... А может быть, надо было больше прислушиваться к тому здоровому, крепкому природному началу, которым его тоже в избытке одарил Господь, плюнуть на всякое слюнтяйство, на всякие стихи и мечтания о переустройстве мира, жениться на Лили, стать обладателем одного из самых крупных в Германии состояний, купить себе должность имперского советника или даже что-нибудь повыше, потом стать, как когда-то его дед, городским старостой — президентом вольного города Франкфурта, жить просто и весело, растить детей, любить жену, пировать с друзьями, радоваться богатству, власти, почёту, уважению сограждан...
«Ах, может быть, всё может быть... Но всё сложилось так, а не иначе, и теперь уже нет никакого смысла оглядываться назад и уж тем более о чём-то сожалеть... «Прошло и не были равны между собою...» Так если о своём прошлом человек не может сказать ничего с определённостью, тогда как же можно строить догадки о будущем? Пытаться проникнуть в него, заглянуть за эту завесу, которой, по милосердию Божию, скрыта от человека его судьба? Да-да, именно по милосердию... В этом и есть самое главное свидетельство милосердия Божия, что человеку не дано знать своего будущего: что с ним случится, что его ждёт, и каков, и где, и когда будет его конец... И всё-таки... И всё-таки одно, по-видимому, ясно: надо выбираться помаленьку отсюда, из этой кучи дерьма. Долг, крест, бремя обязанностей, доверие герцога — это всё, конечно, хорошо, это всё важно и нужно. Но если ты поэт и будущее твоё — это будущее поэта, надо отсюда так или иначе выбираться... В Италию! В солнечную, тихую, мирную Италию! В Рим! И не помнить никого из вас, и всё забыть, и ни о ком и ни о чём не сожалеть... Нет, Карл-Август, нет, дорогой мой друг и воспитанник, не обольщайся: не будет такого времени, когда ты станешь хозяином в своём государстве, когда ты сможешь повелевать своим стадом овец. Не будет! По пустякам — пожалуйста! Ты монарх, у тебя власть, ты сидишь на троне, и вокруг тебя только склонённые головы и спины, и больше ничего. Но всерьёз? Но всерьёз ты раб, марионетка, кукла на верёвочках, за которые дёргает кто-то за сценой. Кто-то, кого не знаем ни ты, ни я. И у кого нет ни имени, ни лица. Сегодня благодаря тебе, Карл-Август, тебе и этому дурацкому указу я это понял полностью и окончательно. И надеюсь, понял на всю оставшуюся мне жизнь... Смешно! Подумать только: ещё сегодня утром я пыжился перед зеркалом, надувал щёки, мнил себя самым ловким, самым умелым человеком на свете, способным ради торжества добра и справедливости на земле обмануть, перехитрить всю эту свору подлецов, обложивших меня со всех сторон. Смешно!.. О, гордыня человеческая... Что я могу? Один, один как перст? Составить новый охотничий устав? Да, конечно, это я могу. И могу добиться, чтобы из церквей и молельных домов не изгоняли матерей внебрачных младенцев. Впрочем... Нет, Вольфганг, не обольщайся! Даже и этого ты не можешь. Пройдут ещё сотни лет, прежде чем люди перестанут браконьерствовать в лесах. И пройдут ещё поколения, долгие поколения, прежде чем перестанут свистеть, улюлюкать и пинать ногами женщину, осмелившуюся переступить эту веками назад проведённую черту... Да, надо выбираться, Вольфганг, из этого всего. Надо! И чем скорее это получится, тем будет лучше для тебя. А может быть, и не только для тебя. Может быть, и для других тоже. Боюсь, дорогой мой, что покойный фон Фрич был всё-таки прав: не за своё ты дело взялся, Вольфганг. Не за своё!.. «Зачем так страстно я искал пути, коль не дано мне братьев повести...» Пиши свои вирши, копайся в своих камушках, а судьбы человечества оставь Провидению. Не тебе их решать... Не мне? Да, не тебе. Не тебе. Но как же подмывает всё-таки... Как же хочется всё-таки вскочить и заорать в самое небо: не мне?! Тогда кому же, Господи? Кому?!»
Было уже около полуночи, когда герцог наконец отпустил его. Взошла луна, крупные августовские звёзды поблекли в её свете, стали мельче и отдалённее, и белая, усыпанная мелким гравием дорога между деревьями была теперь видна как на ладони. Они постояли немного в молчании на крыльце, прислушиваясь к ночной тишине и наслаждаясь прохладным, горьковатым воздухом, в котором уже чувствовалось приближение осени.
— Карл-Август... А знаешь, что ещё, мне кажется, нам надо с тобой сделать? — пожимая протянутую ему на прощание руку, сказал Гёте. — Надо отменить наконец этот варварский обычай спрашивать у входящих или въезжающих в город их имя. Да ещё заносить его потом в книгу. Согласись, дальше так нельзя. Последняя четверть восемнадцатого века, а мы...
— А, так ты не домой?! Дело! Дело, старый бурш! Желаю тебе провести приятную ночь, старина. Только не увлекайся, завтра ты мне нужен живой и здоровый. Мой совет: если хочешь избежать объяснений у ворот, надень мой плащ и треуголку. Тогда тебя примут за меня и не посмеют окликнуть. А если всё-таки окликнут, запомни пароль: Казань.
— Казань? Что такое Казань?
— А чёрт его знает что. Спроси у гофмаршала... Кажется, какой-то татарский город в России. Да какая тебе разница? Запомни только, и всё. Это мой пароль, не твой.
— Да, вы правы, ваше высочество. Вы правы, как всегда... Действительно, какая мне разница? Никакой. Доброй ночи, ваше высочество! Доброй ночи! Ваш верный и преданный слуга...
Ах, как тихо было в лесу, на пустой дороге! Как хорошо было идти ночью, одному, мимо молчаливых лесных великанов, смотреть на звёзды, на серебристую листву, прислушиваться к звукам собственных шагов, вдыхать запах прелых листьев, чувствовать на разгорячённом лице каждое дуновение лёгкого ночного ветерка... Нет, не то, а это его мир, это его жизнь, это его счастье, а всё другое, оставшееся там, за спиной, — это только тяжкий мутный сон, от которого он никак не может пробудиться, но от которого он всё-таки очнётся когда-нибудь... Очнётся? Конечно очнётся! Обязательно очнётся. Только вот где? Здесь? Или где-то там, в горних высях, в иных мирах?.. О, Господи... Опять эти попытки проникнуть туда, куда смертному входа нет и не будет никогда. Подожди, не торопись. Узнаешь... Когда-нибудь и ты всё узнаешь. Когда-нибудь и ты отдохнёшь от этого тяжкого, безобразного сна... «Подожди немного — отдохнёшь и ты...»
Господину тайному советнику повезло. То ли порядки в государстве действительно совсем расшатались, то ли хмурый, заспанный стражник, узнав его, просто не посмел ничего спросить, но его пропустили в город без всяких паролей и объяснений. Тяжёлые ворота тихо задвинулись за ним, и он остался один на узкой, мощённой булыжником улице, ведущей к рыночной площади. Утомлённый дневными трудами, измученный борьбой за жизнь, за кусок хлеба, за свои жалкие радости, Веймар спал. И только в одном старом доме в переулке у Фрауэнплан, он знал, на окне второго этажа горела свеча: там не спали и ждали его.
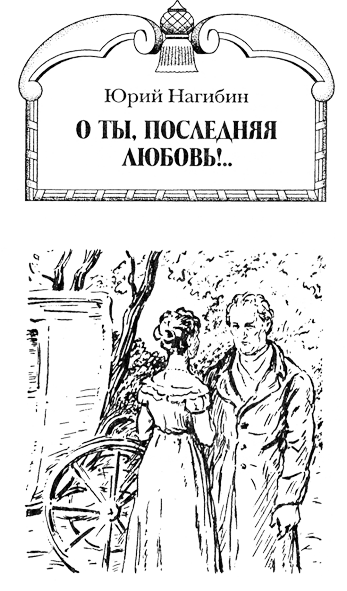
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК