Фронтовые будни
Фронтовые будни
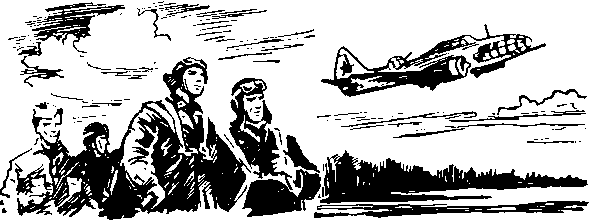
Боевая работа продолжалась без перерыва. Приходилось совершать по два вылета в ночь, и я начал сдавать. Болела спина. Сначала я не подавал вида, боялся, что меня могут отстранить от полетов, но 4 марта 1942 года случилась беда: после второго вылета я не мог выбраться из кабины. Прямо с аэродрома меня отвезли в санчасть.
Я скрыл причину болезни, сказал, что это обыкновенный радикулит, что он у меня был и до войны. Врачи, кажется, поверили. Пролежав полмесяца в санчасти и подлечившись, я почувствовал себя лучше и 18 марта снова полетел на боевое задание. Полет продолжался четыре часа, и спина опять разболелась. Экипаж знал о моих мучениях, не остались они секретом и для техников. И вот техник звена Лобанов и техник самолета Котов усовершенствовали мое кресло, расширили его, достали две пуховые подушки. Одну подушку я клал на сиденье поверх парашюта, другую — к спинке кресла. Сидеть стало удобнее, а расширенное кресло давало возможность, подобрав под себя ноги, полулежать. Если полет предстоял длительный, я, набрав высоту, бросал ножное управление и откидывался на подушки. Бывало, штурман Рогозин скажет: «Надо бы повернуть градусов на восемь». Менять позу не хочется, чуть накреняю машину, она плавно поворачивает в нужную сторону, и полет продолжается. Так мы летим большую часть маршрута. Ну, а с приближением линии фронта или при встрече с самолетами противника приходится опускать ноги и садиться нормально. Перед целью вообще забываешь про боль и смотришь в оба. А на обратном курсе снова можно полежать. Короче говоря, летать стало значительно легче, я мог теперь выдерживать более длительные полеты; всё же спина ныла почти непрерывно.
Боевая работа была очень напряженной, маршруты — самыми различными. Бомбили глубокий тыл противника, совершали налеты и на более близкие цели, в частности, на укрепрайоны у самой линии фронта. Бомбардировка укрепрайонов — дело сложное и ответственное, малейшая ошибка — и бомбы могут быть сброшены на своих. Поэтому успех операции зависел в основном от четкой организации службы наведения на цель. Перед полетами на укрепрайоны командующий воздушной армией А. Е. Голованов выезжал к линии фронта, договаривался о подробностях наведения, которые затем доводились до сведения каждого экипажа. Командующий лично следил за операцией и управлял ею по радио. Еще издали нас наводят световые маяки — прожекторы кладут лучи в направлении полета. Одновременно запущенные с земли ракеты четко, как на карте, обозначают линию фронта со всеми ее изгибами. Над самой целью уже висят САБы[9], сброшенные опытными экипажами головных самолетов, а с земли по радио летчики получают подтверждение правильности освещения цели. Иногда линию фронта дополнительно показывают «катюши». Трассы их реактивных мин очень хорошо видны с воздуха. Словом, наземные войска помогали нам как могли, а остальное уже зависело от экипажей.
В большинстве случаев мы поражали цели успешно, хотя случались, особенно на первых порах, и неудачи.
Служба наведения постоянно совершенствовалась. Мы теперь знали, что если получено задание бомбить передний край противника, то командующий уже там, у линии фронта. И результаты наших полетов были всё более ощутимы. Случалось, что после нескольких бомбовых ударов наземные войска шли на штурм, а остальным самолётам давалась команда перенести удар на другую цель.
К концу марта я имел со своим экипажем сорок боевых вылетов, сорок выполненных боевых заданий. Кое-чему мы уже научились, но далось это не сразу. Всё это время мы кропотливо и настойчиво работали, «слетывались», как говорят в авиации. Нашим девизом стало: «Всем уметь всё». Это означало, что каждый член экипажа должен знать обязанности остальных и, в случае необходимости, быть способным подменить любого из нас или оказать товарищу необходимую помощь. Например, штурман Георгий Рогозин контролировал взлет и следил за показаниями приборов на взлете и посадке. Стрелок-радист Василий Максимов мог проложить курс на свой аэродром. Кроме того, настойчиво тренируя своего стрелка-радиста, я добивался, чтобы он правильно оценивал эволюции самолета при заходе на посадку и во время самой посадки. Ведь из кабины стрелка хороший обзор. К тому же Вася немного летчик. Он учился в аэроклубе и даже летал. Но перед самой войной часть курсантов быстро переучили на радистов. Так Максимов стал стрелком-радистом.
Происходило это так:
— Вася, — говорю, бывало, с приближением к аэродрому, — сегодня сажаешь самолет ты. Без твоей команды ничего не делаю.
— Есть произвести посадку! — с готовностью откликается он.
Потом мы анализируем его команды, выясняем причины допущенных им неточностей. Очень полезное дело. Мало ли что может случиться в воздухе, тем более — в бою.
Умение Васи сажать самолет в дальнейшем часто меня выручало, особенно в периоды напряженной боевой работы. Бывали случаи, когда я начинал плохо видеть: от нервного перенапряжения расстраивалось зрение, предметы двоились в глазах. Иногда это проходило сразу, иногда — нет, и тогда я призывал на помощь Васю.
— Ничего, посадим, — спокойно говорил он и командовал — Разворот… Прямая… Выпускайте щитки… Чуть ниже… Еще ниже… Так, так… Добирайте!.. Оп-ля, сели!
Штурман тоже активно помогал, постоянно определяя высоту, скорость, направление. Так общими усилиями мы и сажали самолет. А со стороны — всё в порядке. Самолет сел. Готовьтесь ко второму вылету. Пока осматривают самолет, заправляют горючим подвешивают бомбы, экипаж передохнул, попил кофе — и снова в полет. А о подробностях полета известно только экипажу.
Стрелок Куркоткин меньше всех был занят в полете. В его распоряжении была лишь часть нижней задней полусферы для наблюдения за воздухом и для обстрела, если понадобится. Поэтому он усиленно изучал радиосвязь, чтобы в любой момент заменить радиста. В дальнейшем он был назначен стрелком-радистом на другой самолет и летом 1942 года геройски погиб…
Особенно я требовал от экипажа бдительности в воздухе.
Глаза! Я должен видеть всё, что происходит вокруг самолета, я должен смотреть зорко всеми четырьмя парами глаз моего экипажа, чтобы вражеский истребитель не смог подойти к нам незамеченным и расстрелять нас, чтобы мы могли упредить его. Самый лучший, круговой обзор был из задней турели, где находился Вася Максимов, и я учил его правильно распределять внимание, грамотно докладывать об увиденном.
— Видишь самолет в воздухе, Максимов?
— Не вижу.
— Значит, сегодня сто граммов не получишь.
Или в другой раз:
— Видишь самолет в воздухе?
— Вижу.
— Где?
— Вон там, вверху.
Такой ответ ничего не говорил мне, и дома я подробно объяснял Васе его ошибки.
— Пространство имеет три измерения, их и надо учитывать. Нужно докладывать: вижу самолет справа сзади выше на выстрел.
Пользуясь вилками, ложками, спичечными коробками и другими «наглядными пособиями», я показывал, какой маневр должен сделать летчик, чтобы турельный стрелок мог поразить цель. Эта наука отрабатывалась практически в воздушных боях.
В ночь на 29 марта мы поручили задание бомбить эшелоны противника, скопившиеся на железнодорожном узле Минск. Задание ставил уже новый, только что прибывший командир полка подполковник Н. В. Микрюков. Новодранов стал командиром нашей дивизии. Ему присвоили звание генерала. От него мы и узнали накануне вылета, что 31 марта награжденные поедут в Кремль. Побывать в Москве, получить орден из рук М. И. Калинина — это волнующее событие. Настроение у всех было приподнятое.
Несколько дней назад на самолетах сменили моторы, и на задание мы летели с приятным ощущением обладателей обновки, знакомым каждому авиатору. Будто дорогой подарок получили.
На маршруте была мощная облачность, и мы ее обошли с севера. Маршрут пролегал через район Великих Лук, затем мимо Полоцка. Полоцк был запасной целью. В районе Великих Лук облачность кончилась, ярко светила луна. И тут Максимов обнаружил на крыле какие-то подтеки. Присмотрелись — из бачка бьет масло и стекает по крылу. Левое крыло было в тени. Я развернул его к свету — и там масло, но, кажется, меньше. Что делать? Решаю идти на запасную цель — железнодорожный узел Полоцк.
Отбомбились.
Взглянув на масляный манометр правого мотора, увидел, что стрелка показывает нуль. Убрал газ, чтобы не сжечь мотор. На малых оборотах он работать еще может, в крайнем случае минуты две выдержит и на полном газу.
Летя на одном моторе, мы взяли курс к линии фронта. Если придется садиться, то на своей территории.
Быстро теряем высоту: девятьсот, восемьсот… Напоролись на позиции вражеской зенитной артиллерии, попали под обстрел. Радиосвязь вышла из строя, и мы потеряли ориентировку. Внизу проплывали какие-то речки, озера, но малая высота, на которой идем, мешает сопоставить их с картой. Левый мотор грозит с минуты на минуту остановиться, а под нами лес. Прыгать с парашютом рискованно, ведь 800 метров — это по приборам, а истинная высота еще меньше.
Справа по курсу показалось большое круглое озеро.
— Сядем на лед? — не то спрашивает, не то предлагает Рогозин.
— Нет, — отвечаю я, — пройдем еще немного.
Озеро осталось позади. Снова леса, овраги, я уже начал жалеть, что не сели на озеро, и вдруг слева показалось ровное заснеженное поле.
— Аэродром! — воскликнул Рогозин. — Заходи на посадку!
— Ты уверен, что это наш аэродром?
— Уверен. По расчету мы уже давно пролетели линию фронта.
Даю зеленую ракету: «Я свой». С земли отвечают тоже зеленой ракетой. Значит, порядок. Включаю АНО[10], иду на посадку, а в душе какое-то сомнение. Самолет уже на прямой, снижаемся, надо выпускать шасси. И в это мгновение меня словно током ударило: а вдруг немцы! Машинально даю полный газ обоим моторам, убираю огни и иду на набор высоты.
— В чем дело? — возмущается Рогозин.
Ты погляди на аэродром, — отвечаю. — Погляди, Вася, какие самолеты стоят…
— «Юнкерсы»! Ю-52! — кричит Максимов.
В эту минуту с земли запустили целую гирлянду разноцветных снарядов, и всякие сомнения относительно того, чей это аэродром, рассеялись.
Развернулся на прежний курс, убрал газ правого мотора. Минут через двадцать слева по курсу — снова аэродром. Лежит световое «Т». Посадка в направлении на юг. На траверзе аэродрома кончилось масло и в левом моторе. Опять даю ракету: «Я свой», разворачиваю самолет на посадку, прошу сигналом АНО свет, выпускаю шасси, затем щитки. На земле зажглись прожектора, но при моем приближении потухли. Неужто опять немцы? Но и уходить уже не на чем…
Приземлились. В хвост нам опять включились прожектора и снова погасли. Решаю не тормозить до конца аэродрома, до самого леса. На ходу отдаю, приказание:
— Куркоткин берет автомат, гранаты и идет в лес прямо. Мы со штурманом — влево. Максимов остается у турельного пулемета. Сейчас приедет автомашина Если враг, Максимов первым открывает огонь. Обороняться будем до последнего патрона. Последней гранатой Вася подрывает самолет.
У самого конца аэродрома останавливаемся, выключаем моторы. Тишина. Снега — по пояс. Пока с Георгием добрались до леса — запыхались. Приготовили пистолеты, гранаты. Ждем.
— А ведь послезавтра в Кремль собирались, — вздыхает Рогозин.
— И поедем, — отвечаю я, хотя сам слабо верю в это.
Подъезжает машина. Слышны голоса, но о чем говорят прибывшие и на каком языке — не разберешь. И вдруг звонкий, радостный возглас Васи:
— Командир, идите, вас зовут!
Это был аэродром советской авиационной части. А тот, на который мы чуть не сели, немецкий, находился километрах в семидесяти южнее.
Первым делом мы связались со своими.
Утром на ПО-2 прилетел комиссар Соломко с техником. Оказалось, что масло в баки заливали в горячем состоянии. Оно вспенилось и засифонило. Устранив, повреждения в радиосвязи, мы в тот же день вернулись домой.
Вот так закончился этот маленький эпизод. Ничего особенного как будто и не произошло, но до сих пор, когда вспоминаю момент посадки на немецкий аэродром, у меня холодеет в груди. Ведь больше всего была мне ненавистна мысль о плене. Что угодно, только не это!
Иногда я спрашиваю себя, что же нас выручило? И отвечаю: внутренняя мобилизованность, готовность к любым неожиданностям, интуиция. Говорят, это приходит с опытом…
А 31 марта мы с Рогозиным в составе довольно многочисленной группы летчиков были в Кремле. Ордена вручал нам А. Е. Бадаев, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Мы сфотографировались с ним, и это фото мне особенно дорого как память о первой боевой награде и о событиях, предшествовавших ее получению.
Наступил апрель — пора, когда погода часто бывает нелетной. В мирное время даже по Управлению международных воздушных линий в апреле многие рейсы отменялись, а летный состав отправлялся на юг для тренировок в вождении и посадке самолета по приводной. Должен сказать, что эти тренировки мне очень пригодились в боевой работе, и часто в сложных метеорологических условиях я с благодарностью вспоминал начальника нашего Управления Валентину Степановну Гризодубову, которая уделяла большое внимание повышению нашего летного мастерства.
Вести самолет по приводной на большом расстоянии от радиостанции — дело нехитрое, но с приближением к радиостанции задача усложняется, а если вышел из заданного сектора, то можно вообще сбиться с курса. Здесь главное — удержать заданный курс и поймать момент перехода через приводную радиостанцию.
Вторая трудность заключается в том, чтобы правильно посадить самолет. На тренировках бывало так: кажется, всё правильно, не уклонился от курса ни на волосок. Командуют посадку. Открываешь колпак кабины, смотришь — а самолет проходит поперек посадочного «Т» или вообще где-то в стороне. Приходилось по многу раз «утюжить» воздух над аэродромом, шлифуя заходы.
Я рассказываю об этом так подробно потому, что в то время полет ночью, без радио, без приводной мне казался вообще немыслимым. Но вернемся к апрельским полетам 1942 года.
От растаявшего снега и почти беспрерывных дождей поле аэродрома размокло, взлетать можно было только с бетонированной полосы. А если при этом ветер — боковой? Ничего не поделаешь. Приходилось пренебрегать подобной «мелочью», которая на самом деле могла причинить серьезные неприятности. Видимость была очень малой, а в дождь, когда ветровые стёкла забрызганы, на взлёте вообще ничего не видно. Лишь когда самолет отрывается от земли и струя воздуха сдувает со стекол капли, начинаешь что-то различать вокруг.
Не менее сложным был и сам полёт, от начала до конца проходивший в сплошной облачности. Поэтому на боевые задания посылались только самые опытные экипажи. В их число попали и мы. Я втайне считал такую честь преждевременной, но вида, конечно, не подавал, потому что любое сомнение, замеченное командованием, было достаточным для того, чтобы отменить полёт того или иного летчика, а мне не хотелось отставать от других. Видимо, и остальные летчики испытывали то же самое, потому что никто никогда не жаловался на трудности полёта.
Информацию о погоде приходилось добывать самим. Обычно посылали сначала разведчика погоды. В этой роли выступал иногда и я. Пройдешь, бывало, километров 150–200 на запад и видишь вдруг ясное небо. Сообщаешь на аэродром: «Вылет возможен». Чаще же цель оказывалась закрытой сплошной облачностью, запасная — тоже, и приходилось возвращаться обратно, в некоторых случаях даже с боевым грузом. После того, как разведчик передал, что погоды нет, цель закрыта, командование высылает следующего разведчика на другую цель, и так почти всю ночь. На КП всегда соблюдалась боевая готовность № 1.
Полёты в облаках… Сколько неожиданного они таили в себе! Сколько былей и небылиц рассказывали о них, сколько загадочных явлений и необъяснимых происшествий остались тайной воздушной стихии. До войны мне очень мало приходилось летать в облаках, особенно в тяжелых, циклонных. Больше того, заход в облака считался нарушением летной дисциплины. Особенно после одного случая.
На самолете ТБ-3 летчик Гуров выполнял летное задание по маршруту. Теплый летний погожий день. В такие дни небо покрывается причудливой формы кучевыми облаками. И вот капитан Гуров, выполнив задание, на обратном пути решил потренироваться в настоящих облаках. Зашел в одно облако, в другое — понравилось. Какое-то особое ощущение испытываешь и в технике пилотирования, и особенно в самом факте пребывания в облаках. Эта прохлада, влажность, необычная темень, легкое потряхивание самолета. Настоящий слепой полёт, по приборам. Впереди, чуть в стороне от маршрута, виднелось огромное конусообразное обособленное облако, и летчик решил воспользоваться случаем более продолжительного пребывания в облаках и направился к нему.
Сначала всё было нормально, только какими-то резкими толчками потряхивало самолет. Дальше — больше. Стало до необычного темно. Холодно. Кабину залепляло снегом, тряска усиливалась. Самолет не слушался рулей. И вдруг… Не стало приборной доски: передняя часть самолета отвалилась, от мощных хаотических потоков воздуха самолет разрушился. Экипаж воспользовался парашютами…
Вспоминается и такой случай. Лето 1940 года, обычный рейсовый полёт по маршруту Берлин — Москва. В Минске к нам на борт села В. С. Гризодубова, находившаяся там по служебным делам. Погода стояла прекрасная, но впереди грудились кучевые облака с длинными дождевыми «метелками». Еще с детства я любил наблюдать эти туманные полосы, подсвеченные солнцем, то прямые, то искривленные книзу. При их приближении в воздухе появляется какой-то неуловимый пьянящий, запах, на душе становится легко и радостно. Так было и на этот раз, и я, помнится, даже замурлыкал какую-то песенку.
Облака становились всё гуще. Я направил самолет в проем, напоминающий пространство, образованное раздвинутым посредине голубовато-серым со стальным отливом занавесом. Удивительное было зрелище: сказочный занавес словно раскрывал фрагмент гигантской панорамы — ослепительной голубизны небо, зеленое поле с речушкой, белые домики… И вдруг при входе в эти «врата рая» перед самыми стеклами кабины вспыхнул ослепительно-белый огненный шар диаметром в полметра и раздался оглушительный тупой взрыв.
В кабине образовалась какая-то дымка. Штурман и радист засуетились — всё ли в порядке? Но самолет шел по-прежнему нормально, приборы работали исправно, горелым не пахло, чувствовался резкий запах озона.
Мы осмотрели кабину — ничего подозрительного. «Врата» пройдены. Слышим, из салона стучат в кабину. Открываю дверь — на пороге взволнованная Валентина Степановна.
— Все живы? Что случилось? Я уже несколько минут стучусь к вам.
— Живы, всё в порядке, — доложил я и рассказал о случившемся. Валентина Степановна в свою очередь рассказала, что произошло в салоне.
Здесь раздался сухой треск, и сразу же из-под двери, ведущей в кабину пилотов, появилось светло-голубое пламя; оно протянулось по полу над ковровой дорожкой через весь самолет, так что дорожки не стало видно — сплошная огненная полоса. Пассажиры оцепенели. Полоса, как живая, проползла через салон и исчезла в хвосте. Первой опомнилась Валентина Степановна и направилась к нам.
После посадки мы обнаружили, что тросик заземления, которым пользуются при заправке, чтобы избежать случайной искры, оплавился на конце вместе со штырем и все смотровые лючки в самолете были открыты, несмотря на очень тугие защелки. Вот какие «шутки» вытворяет атмосферное электричество. Вероятно, самолет, попав между двумя различно заряженными облаками, замкнул их.
С тех пор, если случалось залетать в грозовые облака, я руководствовался правилом: направлять самолет на вспышки молний, туда, где облака уже разрядились.
Точно так же я поступал впоследствии и в боевых полетах. Мы словно бы гнались за молниями. Машина вся наэлектризована, к концам крыльев скатываются голубоватые огненные кольца причудливой спиральной формы. «Командир! — кричит Вася. — Посмотрите, какая красотища!» Зрелище действительно фантастически красивое.
Сейчас, когда случается слышать электромузыкальные инструменты, по странной ассоциации вспоминаю полеты в той загадочной наэлектризованной стихии. Полеты, которые на земле кажутся сном. Шутка ли: протянешь руку, а с кончиков пальцев тоже скатываются голубые искорки. Вот измерить бы, под каким напряжением мы находились в эти мгновения…
Но я опять отвлёкся. Грозы — явление летнее, а речь идет об апрельских полетах, когда одной из главных помех было обледенение. Штука эта очень неприятная, знаю по опыту. В первую очередь обледенению подвергаются все лобовые части самолета: ветровые стёкла, нос, кромки крыльев, кромки винтов.
Первые признаки обледенения заметны на ветровых стёклах кабины. Сразу ухудшается передний обзор, что особенно опасно при посадке. Далее обледенение захватывает сначала переднюю кромку, а затем и обе поверхности крыла, изменяет его аэродинамическую форму. Самолет делается более тяжелым, ухудшается его маневренность. Обледенение винтов приводит к уменьшению тяги, нарушает равновесие лопастей, а при скалывании льда с какой-либо лопасти возникает сильная тряска, способная даже разрушить машину.
Все эти неприятности, связанные с обледенением, давно известны, изучены, и для борьбы с ними существует антиобледенитель, попросту говоря — спирт.
Обычно мы почти не пользовались антиобледенителем, потому что избегали летать в облаках, а кроме того, забота о нём — дело техников. Они его заливают, они его сливают, «колдуют», в общем, и я никогда их не проверял. Но недаром сложена пословица «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
В одном из апрельских полетов мы попали в обледенение. Включили антиобледенитель, покапало — и всё, спирта нет. То ли его и не было в бачке, то ли отверстия слишком большие и он быстро вытек. Задание было выполнено, но самолет так обледенел, что едва держался в воздухе. На аэродром я привёз не меньше тонны льда. Все удивлялись, как мы вообще не разбились, и сочли этот полет чуть ли не — доблестью, я же понял свой промах и принялся немедленно его исправлять.
На следующий день утром я попросил техника по спецоборудованию Ивана Федоровича Максимова, отличного мастера своего дела, отрегулировать в моем самолете всю систему антиобледенителя, вместе с ним проверил её на земле и в воздухе. Затем летал ночью в облаках больше часа.
Несмотря на то, что антиобледенитель был включен всё время, спирта хватило и еще осталось. Значит, сделал я для себя вывод, нет такой мелочи, в которую не обязан был бы вникать командир экипажа.
Приблизительно в то же время мне пришлось столкнуться с одним странным явлением, которое я про себя назвал шутя «кознями нечистой силы». Как-то в середине апреля, возвращаясь с задания, мы попали в довольно мощную облачность.
Началось легкое обледенение. Я решил подняться выше, чтобы идти над облаками, но чувствую, что самолет высоту не набирает. Мощность моторов почему-то постепенно падает, и мы даже понемногу снижаемся. Вдруг вижу, секторы газа отходят назад. Такое бывает только тогда, когда в кабине штурмана убирают газ (там находится дублированное управление самолетом и моторами).
Штурман, — кричу, — не трогай газ!
— Какой газ? — недоумевает Рогозин.
— Не трогай секторы газа, зачем убираешь газ?
— Да я лежу впереди и смотрю вниз, не появятся ли окна в облаках. Секторы позади меня.
И ведь верно. Тогда кто же убирает газ?
Я послал секторы вперёд, но они не идут. Отпустил — снова отходят, и мощность моторов соответственно падает. Что за чертовщина?
Самолет снижается, облачность всё гуще, начинается обледенение. Включил антиобледенитель — никакого эффекта. Появилось чувство беспомощности, самое опасное для летчика. Что делать? Наверх не выбраться, а высота нижней кромки облаков неизвестна. Пока пробьешь их, можно обледенеть, как костяшка, и упасть.
— Да долго ли ты будешь шутить со мной? — обращаюсь я к воображаемой «нечистой силе» и рывком толкаю секторы газа вперёд. Впечатление такое, будто что-то оборвалось, секторы подались, моторы взревели. Полет продолжался, и мне стало как-то неловко перед собой от недавней растерянности. Моторы работали нормально, домой мы пришли благополучно.
На аэродроме я сказал технику, что секторы газа в воздухе заедало, и надо проверить всю систему.
На следующий день злоключение повторилось. Я выразил недовольство работой техника, хотя знал Котова как человека добросовестного.
Через несколько дней мне пришлось лететь на другом самолете в район Демянска — и снова та же беда. Не могло случиться, чтобы на двух разных самолетах оказалась одна и та же неисправность, тем более что обнаруживалась она только при полете в облаках.
Гадали, гадали, но так ничего и не придумали. Затем «нечистая сила» шутить перестала, и о неприятных эпизодах почти забыли.
Спустя некоторое время, кажется, в июне, это явление повторилось в массовом порядке. Летчик А. Гаранин на КП докладывал о неисправности в самолете — заело секторы газа, и он еле дошел домой, так и сел на малой мощности. Оказалось, что он не одинок, то же происходило и у Борисенко, Клебанова, Краснухина и других.
Большая загадка. И разгадать её взялся инженер-полковник Дороговин. Он с пристрастием расспрашивал всех: и как вёл себя самолет, и какая была обстановка, и что пытался предпринять летчик. И тут я ему подробно рассказал о случае на моем самолете еще в апреле, о «нечистой силе», которая со мной пошутила, о рывке… И он очень серьезно отнесся к моему рассказу о рывке секторов.
— Ну, а теперь мне нужно обработать информацию. Мне нужно крепко подумать, — сказал в заключение Дороговин и ушел.
Он не сомкнул глаз до утра: ломал голову над разгадкой этого необычного явления, а на второй день на разборе полетов дал теоретическое обоснование загадочного явления и его предотвращения. Оказалось, это не что иное, как обледенение карбюратора. Переохлажденный влажный воздух с большой скоростью попадает в карбюратор, стенки диффузоров обледеневают, сечение уменьшается, мощность падает. Автомат срабатывает, чтобы увеличить сечение, но заслонка примерзла, и действие автомата передается на секторы газа — они отходят назад. Рывок секторов помог сколоть лед в диффузоре, и мощность восстановилась. Если же опоздать и дать заслонке сильно примерзнуть, тогда никакие силы не помогут, скорее можно порвать тягу управления газом.
В дальнейшем мы так и боролись с «нечистой силой»:.начинает заедать — двигаешь рывком секторы вперёд-назад, затем быстро возвращаешь их в прежнее положение.
Вот теперь почти всё об апрельских полетах. Должен только добавить, что апрельские полеты научили еще и сажать самолеты на узкую бетонированную полосу. Редко кто до этого мог посадить самолет так, чтобы он не скатился с полосы. Но скатиться с неё в апреле! Это значило бы получить капот, то есть перевернуть самолет через нос на спину или поставить его на нос и тем самым задержать посадку других.
И представьте себе, ночью, при плохой видимости, порой с боковым ветром ни разу ни один самолет при посадке не скатился с полосы за всё время работы при размокшем поле аэродрома.
Многому нас научили апрельские полеты…
Апрельскими полетами заканчивается зимний период боевой работы полка. В основном вся боевая работа велась в интересах обороны Москвы, в которой наш 748-й полк занимал не последнее место. Вот что пишет об этом А. Г. Федоров в своей монографии «Авиация в битве под Москвой»[11]: «Наибольшей эффективностью бомбовых ударов выделялся 748-й дальнебомбардировочный авиационный полк под командованием майора Н. В. Микрюкова. С переходом наших войск в наступление на Ржевском направлении полк разрушал узлы сопротивления противника и уничтожал его авиацию на аэродромах. Поддерживая наступательные действия Калининского и Западного фронтов на направлении Ржев, Сычевка, Вязьма, полк за период с 14 января по апрель произвел около 800 самолето-вылетов. Систематическими бомбовыми ударами он нарушал железнодорожные перевозки на участках Ржев — Вязьма, Вязьма — Гжатск и препятствовал переброске резервов противника к линии фронта. Полк наносил последовательные удары по железнодорожным узлам Витебск, Смоленск и Ярцево через каждые 4–5 дней. В дни интенсивных перевозок эти узлы бомбардировались ежедневно. Железнодорожный участок Витебск — Смоленск — Ярцево за несколько месяцев до 40 раз подвергся бомбардировке полком».
Всего за период с половины января по апрель полк совершил свыше 900 боевых вылетов. На моем счету за этот период — 52 боевых вылета, из них 21 дневной.
Незаметно подошел май — прекрасная весенняя пора. В природе всё живое пробуждалось от зимней спячки, радовалось теплу, солнцу а у меня на душе кошки скребли, одолела тоска по семье.
Я вспоминал, как мы с женой любили гулять в эту пору в степи, замечать появление первой зелени, первых цветов, подставлять лицо ласковому майскому ветерку. Вспоминались последний предвоенный Первомай, праздничная демонстрация на Красной площади, оживленные лица москвичей…
Гоню прочь грустные мысли о семье, пытаюсь вспомнить всё хорошее, вспомнить жизнерадостную, улыбающуюся жену, но такое лицо её почему-то «спрятано», не вспоминается. Страшно стало… Осталось в памяти выражение лица такое, каким оно было в день провожания, на вокзале, и ничем его не подменишь, не устранишь. Этот образ преследует меня, усиливает тоску…
Боевая работа шла своим чередом. Задания были очень сложными и разнообразными. Но ничто не могло отвлечь меня от тоски по жене и дочурке. Я крепился, считал своё настроение признаком малодушия и поэтому тщательно скрывал его от друзей. Но однажды не выдержал и поделился своим душевным состоянием с Георгием Рогозиным.
Я был уверен, что он станет посмеиваться надо мной — так обычно и случалось среди фронтовых друзей, но Жора отнёсся к моей исповеди с неожиданным участием.
— Знаешь что, — предложил он, — пойди к генералу, попроси его, может, отпустит на побывку. За какую-нибудь неделю справишься — туда и обратно.
— Да ну тебя, — отмахнулся я. — С тобой серьезно, а ты…
— И я серьезно. Верно говорю: отпустит.
— Неудобно, да и вообще… чем я лучше других?
— Вот именно! — сказал Георгий. — Других-то некоторых отпускали…
— У тех, наверно, побольше заслуг.
— Ну, наши заслуги пусть начальство считает, — решил Георгий. — Знаешь что? Была не была! Пойдем вместе.
Несмотря на прошлые неурядицы, генерал Новодранов относился ко мне хорошо. Часто перед вылетом он приходил к моему самолету, осведомлялся о самочувствии, даже советовался относительно погоды. И вот, набравшись смелости, я решил рискнуть. Тщательно побрился, нагладился и вместе с Рогозиным утром 16 мая был у знакомой двери.
Я постучался.
— Да, да. Войдите!
Я вздрогнул. Это «Да, да. Войдите» я уже слышал, когда решалась судьба моя как летчика. На миг я замер. Не вернуться ли?..
Но нет. Этот визит другой, в другой обстановке и по другому делу. И, пересилив временное колебание, я переступил порог. Это был мой второй визит к Новодранову.
— Слушаю вас, — дружелюбно сказал генерал, когда мы вошли.
— Товарищ генерал! — выпалил я. — Мы так соскучились по своим семьям, что решили просить вас, нельзя ли получить отпуск на одну неделю?
Генерал усмехнулся..
— Откровенно и без предисловий. А где ваши семьи?
— Моя — под Челябинском в Тамакуле, а его — в Чкалове.
— Что вы за недельку успеете? Не выйдет.
Мы восприняли эти слова как отказ, переглянулись невесело и хотели уже просить разрешение идти, но генерал, помедлив, добавил:
— Вот что. Сегодня полетите на задание, очень серьезное. Под Харьков. Нужно разбомбить одну дачу, там важные птицы обитают. А пока идите оформляйте отпуск. — Он что-то прикинул в уме: — До одиннадцатого июня включительно. Двенадцатого — в воздух.
— Есть! — бодро ответили мы и, поблагодарив генерала, пулей выскочили из кабинета. Когда мы выходили из штаба, нас окликнул посыльный:
— К генералу.
Мы в недоумении переглянулись. Неужели передумал?
— Вот что, ребята, — сказал Новодранов, когда мы вновь предстали перед ним. — Завтра в семь ноль-ноль я вылетаю в Свердловск. Если успеете — можете воспользоваться: в моем самолете найдутся места.
Мы оформили отпускные документы, приготовили чемоданчики и в ночь пошли на боевое задание. Последнее боевое задание перед отпуском.
— Ну, Степан, держись! — сказал Георгий, когда мы взлетели. — Отпускные в кармане…
— Держусь. Будем надеяться — отбомбимся на славу.
Задание было ответственным и сложным. Всего три самолета выполняли его — экипажи Молодчего, Гаранина и мой. Наведение осуществлял Молодчий со своим опытным штурманом Куликовым, но в ночных условиях полет строем исключался. Летели поодиночке и не знали, кто первым окажется над целью. В пути встретилась мощная облачность со всеми её каверзами, но цель всё-таки была обнаружена и поражена.
По возвращении с задания Рогозин быстро сдал донесение, которое написал еще в самолете, потом мы переоделись, схватили чемоданы — и бегом на аэродром. Моторы уже были запущены. Мы вскочили в самолет, дверь захлопнулась, и машина пошла на взлёт.
Давно я не летал днем, да еще и в качестве пассажира. Говорить не хотелось, в груди теснились самые различные чувства — и радость от предстоящей встречи с семьей, и опасения, здоровы ли жена и дочь, и невольные угрызения совести перед товарищами, которые будут продолжать боевые полеты…
В Чкалове я распрощался с Рогозиным и до Свердловска летел уже один. В Свердловске жили в эвакуации семьи многих летчиков международных авиалиний. По просьбе товарищей нужно было посетить их, рассказать о житье-бытье фронтовиков. Разумеется, я выполнил все поручения.
От Свердловска мне предстояло ехать поездом до станции Долматово, а там до Тамакула — чем придется. В Долматово я приехал утром. На вокзале было много молодых военных — очень подтянутых и строгих. Орден Красного Знамени на моей груди магически действовал на них, и они лихо мне отдавали честь. От такого внимания сделалось как-то не по себе, и я поспешил уйти.
До Тамакула пришлось — добираться пешком: правда, несколько километров меня подвёз на телеге неразговорчивый крестьянин. Село оказалось большим, разбросанным. Я остановился на околице у трёх дорог, не зная, куда идти. Озираюсь по сторонам. Вдруг вижу — бежит ко мне какая-то незнакомая женщина в телогрейке. Обозналась, наверно, думаю.
— Вы к кому? — спрашивает она, а глаза так и светятся радостью. Не успел я ответить, как меня, оглашая воздух возгласами: «С фронта! С фронта!» — окружили несколько женщин и стали расспрашивать о том, как мы воюем. Все они были эвакуированными, у многих мужья на передовой, и главное в их жизни — вести оттуда, с переднего края. Женщины старались не пропустить ни одной передачи Совинформбюро. А тут — живой фронтовик.
Узнав, к кому я, мои собеседницы любезно проводили меня до самой квартиры жены. Жена была в поле, но посылать за ней не понадобилось — с быстротой, поистине невероятной, по селу разнеслась весть:
— К Полине Антоновне муж приехал!
И не успел я умыться и причесаться, как прибежала жена, а следом и дочурка — повзрослевшая, похорошевшая…
Встречи и расставания — удел всей нашей жизни. Когда кончилась война, мы подсчитали, что из прошедших двадцати лет мы находились в разлуке около пятнадцати. Да, много было расставаний, много встреч, но такой, как эта, — долгожданной, выстраданной — такой встречи у нас еще не было. Столько накопилось у каждого, так много хотелось рассказать друг другу, что суток не хватало.
На время моего пребывания в гостях колхоз предоставил жене отпуск. Она надевала свое лучшее платье, и мы уходили в степь. Издавна это было наше любимое времяпрепровождение. Степь не наша — украинская, привычная, от горизонта до горизонта, а с холмами и перелесками. Но и она обладала своеобразным очарованием. А погода все дни стояла чудесная — теплая, тихая, солнечная. Жена показывала мне места, где ей приходилось работать. Вот поле, где поздней осенью убирали уже полегшую рожь, разгребая снег руками… Здесь весной откапывали неубранную с осени картошку и пекли из неё вкусные оладьи… У этого овина, рассказывала жена, зимой веяли зерно, и один бывший кулак толкнул её за то, что она сделала ему замечание: в полове остаётся много зерна. А на той полянке она проводила беседу с колхозниками о событиях на фронте… О тревожных событиях.
Рассказывала жена легко, даже весело, но за этой веселостью угадывалась тяжелая доля эвакуированных, которых военное лихолетье разбросало далеко от родных мест, разлучило с мужьями, сыновьями…
Но сейчас моя жена была самой счастливой, и ей по-хорошему завидовали. Подруги приходили поздравить её, а заодно и порасспросить гостя, скоро ли разобьют врага.
— Ты уж извини, Антоновна, — говорили женщины. — Не серчай, что мужика от тебя отвлекаем.
И начиналась беседа, в которой приезжему приходилось выполнять роль и военного обозревателя, и комментатора международных событий.
Приглашали в гости и нас. Хозяйка дома, у которой жена зимовала, спросила, когда мы пришли:
— Хотите печенки?
— С удовольствием, — отвечаю.
Хозяйка подает на стол горшок, открывает его, а там… обыкновенная печеная картошка. Заметив, что предложенное блюдо не произвело особенного впечатления, хозяйка предлагает:
— А может, каравая отведаете?
Каравай на Украине — это большой-пребольшой сдобный хлеб, разукрашенный всевозможными шишками и вензелями. Его пекут к свадьбе, ставят в центре стола, а к концу торжества разрезают на куски и раздают гостям. Принести домой кусок каравая — значит, засвидетельствовать, что ты был на свадьбе. Но откуда здесь взяться караваю, когда обыкновенного-то хлеба не хватает?
— С удовольствием, — ответил я.
— Наконец-то угодила, — сказала хозяйка, доставая из печи следующий горшок и ставя его на стол. Оказалось, что это та же картошка, только запеченная в молоке…
Правление колхоза выделило жене как примерной труженице огород. Там она посадила картофель, овощи и разбила цветник. Каждое утро я вставал вместе с солнцем и возился на огороде. Запахи земли и свежей зелени возвращали меня к далекому детству, и порой мне начинало казаться, что сейчас меня окликнет мама и позовет завтракать…
В комнате, которую занимала моя семья, на окне в ящиках уже цвели помидоры. Потом жена писала мне, что высадила их в грунт и вырастила. И когда к концу лета в поле в обеденный перерыв она доставала из сумочки хлеб и красный помидор, местные колхозники удивлялись:
— Нет, ты не городская…
— Почему же я не городская? — отвечала жена. — В Москве жила.
— Москвичом любой может стать, пускай попробует стать колхозником.
— Я и есть колхозница. Моя молодость прошла в колхозе…
Промелькнули дни отпуска, пришла пора расставаться, а мы, кажется, только вчера встретились и еще не переговорили обо всём, что волновало нас обоих в томительные дни разлуки. Время, время… Как медленно оно тянется, когда сидишь на вокзале в ожидании поезда, и как оно почти совсем останавливается, когда находишься над целью, особенно когда тебя поймают скрещенные лучи прожекторов и прекратится зенитный огонь. Ослепленный, висишь, как на привязи, и ждешь, что вот-вот тебя атакует истребитель. Штурман всё колдует у прицела, а щелчков бомбосбрасывателей почему-то не слышно. Потом начнешь считать эти щелчки, держа строго заданный курс, и краткие мгновенья между щелчками кажутся часами…
В день моего отъезда председатель сельсовета снарядил подводу в Долматово. В ожидании её мы с женой и дочерью сидели на бревнах около сельсовета. Делали вид, что нам весело, говорили о всяких пустяках, лишь бы не молчать.
На душе, как говорят, кошки скребут, а мы стараемся быть веселыми. После моего рассказа жене, какой она засела мне в памяти, — плачущей, она решила не выдавать своего внутреннего состояния. Шутила, улыбалась.
Подъехала подвода. Мы обнялись, распрощались.
— Пиши, а лучше — телеграфируй, что жив…
Лошадь тронулась. Расстояние, разделявшее нас, всё увеличивалось. Мы продолжали махать друг другу руками. Жена крепилась. Но едва подвода успела скрыться за угол, как она разрыдалась. Больше сдерживаться — сил не хватило. Да и я тоже (что греха таить?) только они скрылись — не удержался. Заплакал беззвучно, как умеют плакать мужчины…
До Свердловска я добрался поездом, а там друзья устроили меня на самолет — и вот я уже в своей части. Поездка в Тамакул, десятидневный отпуск — всё это отошло, как целительный сон. Я испытал свежий прилив бодрости. Я снова встал в строй.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 5. Фронтовые будни
Глава 5. Фронтовые будни «…1944 год начался на Восточном фронте упорными атаками русских в середине января. Вначале русские были отброшены от Кировограда. 24 и 26 января они начали брать в клещи наши выступавшие дугой позиции западнее Черкасс, 30 января последовал удар по
Будни
Будни Мы стоим с тобою у окна, смотрим мы на город предрассветный. Улица в снегу как сон мутна, но в снегу мы видим взгляд ответный. Это взгляд немеркнущих огней города, лежащего под нами. Он живет и ночью, как ручей, что течет, невидимый, под льдами. Думаю о дне, что к нам
Фронтовые церемонии вручения наград
Фронтовые церемонии вручения наград Я знал, что ПНШ-4 получил несколько знаков ордена Отечественной войны и посоветовал Кошелеву поехать и получить знак ордена в штабе полка, а я останусь на «хозяйстве» в батальоне как дублер. Он уехал и вернулся через несколько часов.
XVI БУДНИ УБИЙЦЫ, БУДНИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 1985–1987
XVI БУДНИ УБИЙЦЫ, БУДНИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 1985–1987 Тоталитарные системы падки до лозунгов и призывов.В фашистской Германии концентрационные лагеря украшала назидательная фраза «Труд делает свободным». Наши родные тюремщики изобрели свой, вполне советский лагерный лозунг,
Фронтовые летчики
Фронтовые летчики Качества самолета проверяются в бою. — Профессия истребителя. — Асы — воздушные снайперы. — Трижды Герой Александр Покрышкин. — Братья Глинки. — ДБ и ББ. — ЯК для Покрышева. — Письма с фронта. — Ибрагим Дзусов: «На подступах к Берлину небо наше». —
Дороги фронтовые
Дороги фронтовые После войны Мария Егоровна Панова с мужем Александром Павловичем приехали жить в Челябинск. Она вернулась к довоенной своей профессии медика и работала старшей хирургической сестрой. К боевой награде прибавилась другая — орден «Знак Почета» — за
ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ Войдя в комнату, где заседала отборочная комиссия, я сразу узнала Раскову, которую видела только на снимках. На ней была военная форма с голубыми петлицами, а на гимнастерке — Золотая Звезда Героя Советского Союза.— Из МАИ? Летали когда-нибудь? —
Будни
Будни Я не сгущаю красок. Их не было. Кроме одной — серой.Серые шинели, серые гимнастерки, серые дощатые бараки, серые глухие заборы у домов, серо-зеленые стены в казарме, темно-серый лес за снежными полями, свинцовое тусклое небо над Чувашией…Одним серым движущимся пятном
Фронтовые будни
Фронтовые будни Боевая работа продолжалась без перерыва. Приходилось совершать по два вылета в ночь, и я начал сдавать. Болела спина. Сначала я не подавал вида, боялся, что меня могут отстранить от полетов, но 4 марта 1942 года случилась беда: после второго вылета я не мог
Фронтовые истории 1942–1943
Фронтовые истории 1942–1943 Фронтовые истории Арсения Тарковского… Их было много, и каждая выразительна по-своему. Взять хотя бы рассказ о капитане Маросанове, ответственном редакторе газеты 16-й армии «Боевая тревога», где поэт служил в качестве «писателя служебной
Фронтовые будни
Фронтовые будни Встреча с противником изменила наш лагерный быт. Казалось бы, на аэродроме не произошло никаких изменений, но люди стали гораздо собраннее и внимательнее. Техники, оружейники, прибористы словно прилипли к самолетам, чувствуя всю глубину ответственности
БУДНИ
БУДНИ Чем ближе подходило время к зиме, тем холоднее становилось в двух занимаемых нами комнатах и тёмной прихожей, служившей мне спальней. Иней в углах комнат прирастал, а в те недолгие часы, когда печка достаточно накалялась, снег таял, и на полу появлялись лужи. Я
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ Дела в полку шли благополучно, потерь не было, машины с заданий приходили потрепанные, но после ремонта снова поднимались в небо. Люди хорошо сработались, не стало суеты на старте, в паузах между полетами штурманы перестали бегать за
ФРОНТОВЫЕ ЦВЕТЫ
ФРОНТОВЫЕ ЦВЕТЫ …Мы сидели вдвоем на склоне холма. Приближалась ночь. Южный темно-фиолетовый горизонт расцвечивался розовым светом. Где-то вокруг Санока и за Бирчей продолжалась канонада. Доносилось глухое эхо разрывов — это стреляли дальнобойные орудия.У подножия