Под комендантским флагом
Под комендантским флагом
Рано утром Фадеев и я выезжаем вместе с замполитом в Великие Луки. Выезжаем. Одно это слово о многом уже говорит. Хотя нам настоятельно рекомендуют идти пешком. На полном газу Петрович, однако, благополучно проскакивает кусок шоссе, который держат под обстрелом пулеметы крепости, и мы опрометью влетаем в город, дрожащий от канонады и одетый дымами пожаров.
Дальше ехать нельзя. Обломки разбитых домов. Два обгорелых танка. Подкошенные телефонные столбы. Все это преграждает дорогу. Спрятали машину в развалинах кирпичного дома и дальше продолжали путь на своих двоих.
Проходим несколько кварталов. Отсюда враг не бежал. Нет, он пятился, цепляясь за каждый дом и используя любую возможность удержаться. Дело здесь было жаркое. Врага приходилось вырывать, так сказать, с корнем. Вот почему, вероятно, на этой окраине, среди разбитых и искрошенных артиллерией домов, лежит немало неубранных трупов с восковыми, окаменевшими лицами. Особенно много на перекрестке. Один мы видим даже в окне — как бы переломившись, он свешивается через подоконник на улицу. Из домов неприятеля выкуривает артиллерия. Вот и сейчас на боковой улице мы видим тяжелый танк КВ, который бьет в упор, возможно, именно в тот приземистый массивный дом, о котором докладывал ночью капитан. Но и танку нелегко. В него бьют из минометов, бросают гранаты. Это-то, впрочем, напрасно. Что может мина или граната сделать колоссальной машине? Под-калиберный снаряд или бутылка с горючим — иное дело. Но бьют именно из миномета. И это можно воспринять как акт отчаяния.
Вот и дом двадцать девять по улице Садовой. Впрочем, он и единственный совершенно почему-то сохранившийся в шеренге разбитой, обгорелой, а местами еще дымящейся улицы. Он стоит между двух старых, обглоданных разрывами тополей. На воротах рукописная фанерная вывеска:
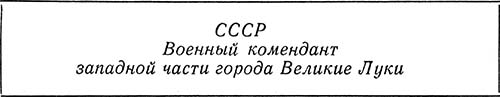
Есть и флаг. Сначала было его прикрепили на крыше. Но он оказался слишком видной мишенью. Неприятель сразу же открыл по нему огонь из крепости. Теперь флаг висит во дворе, над крыльцом. И хотя бой за город не затихает, хотя снаряды той и другой стороны летят над домом и шальные пули, цвикая, как воробьи, нет-нет да и склевывают со стены штукатурку, сюда, под защиту этого флага, сходятся жители, на которых тяжело смотреть. Не только приемная коменданта, не только прихожая, но и просторные сени набиты людьми. В большинстве окон нет стекол. Они кое-как заделаны. Ветер гуляет по помещению. Несмотря на это, в комнате тяжелый смрад.
Военный комендант, капитан Приходько, крепкий человек с красными от недосыпания глазами. Он и военком медсанбата Сметанников получили задание навести порядок в этой отвоеванной у врага части города и наладить медицинскую помощь населению. Ох и нелегко это сделать в городе, где полтора года хозяйничали нацисты.
Мы усаживаемся в приемной Приходько, смотрим, слушаем. Сколько сцен можно увидеть здесь, сидя в сторонке, в темном углу, в маленькой комнатке этого первого советского коменданта. Люди приходят, уходят, снова приходят. И общее количество их не убывает даже в минуты артиллерийских дуэлей, когда от близких разрывов дом ходит ходуном и пол дрожит, как листок на осине.
В сенях на узлах группа граждан, ожидающих эвакуации. Фадеев, всегда жадный до всего, что касается душ человеческих, уже среди них. Он говорит с женой паровозного машиниста из великолукского депо Клавдией Смородиной, женщиной до того истощенной, что истинный возраст ее сейчас трудно определить. У нее в ногах на полушубке, подстеленном часовым, четырехлетний сынишка. Как только он оказался здесь, в относительном тепле, он приладился на полу в ногах у матери и тотчас же уснул. Полушубок под него подложили уже потом. Женщина гладит бледный лобик сына и монотонным голосом ко всему привыкшего и ничему не удивляющегося человека рассказывает о жизни в оккупации… Да, это правда, на вокзальной площади стояли четыре виселицы, и на них висели люди. Разные люди. Их меняли — то одни, то другие. Хоронить было запрещено, и, куда увозили тела, она не знает… Первые месяцы после занятия города немцы по ночам прямо с постели хватали мирных граждан, куда-то их уводили, куда — никто не знает. И видеть их больше не видали… Когда весной тронулась Ловать, меж льдин всплывали покойники. Женщины выходили на перекат смотреть, не их ли мужья. Иные находили.
Женщина рассказывает о пяти девушках, которые были расстреляны во дворе гостиницы за то, что отказались идти в солдатский бордель, организованный в здании школы, недалеко от госпиталя. Потом было написано, что расстреляли их за неподчинение военным властям.
Сейчас в городе голод. Голод и холод. Печи нечем топить. Мебель, наверное, уже всю сожгли. А есть квартиры, где месяцами лежат замерзшие тела хозяев. Замерзли, и никто их не убирает. Только крысы над трупами измываются.
Клавдия Ивановна рассказывает об этом равнодушным голосом. А сидящий возле нее раненый артиллерист то постанывает, то скрипит зубами, и не поймешь — от какой боли, от физической или от душевной.
Дверь с треском распахивается. На пороге женская фигура в темном пальто.
На мгновение вошедшая застывает в неподвижности, как человек, попавший из мрака в светлую комнату, а потом с рыданиями бросается к стоящему в дверях красноармейцу, зарывает лицо в его шинель и начинает эту шинель целовать.
— Пришли… Милые вы мои! Пришли. Все-таки вот пришли…
Часовой смущенно переступает с ноги на ногу.
— К чему это вы, гражданка?.. Я часовой, мне не положено.
— Пришли… Голубчики вы мои! Как мы вас ждали-то! — плачет женщина. Потом, будто бы вспомнив цель прихода, бросается к коменданту и начинает сбивчиво рассказывать, как они, пять женщин с ребятишками, не дожидаясь, пока наши войска окончательно очистят город, «под туман» решили по льду перебежать Ловать. Как пулеметчики открыли по ним огонь. Как некоторые из переходивших пали на льду. А те, кому посчастливилось добежать до этого берега, забились в подвал ближайшего дома. И ее, как она выражается, «красноармейку» Марию Кудрявцеву, послали разыскивать Советскую власть. Просить подмогу. Ведь в том подвале и у нее тоже двое ребят.
Комендант посылает вместе с женщиной двух автоматчиков из взвода охраны. Им поручается отыскать и вывести через дворы перебежавших.
Не успевают они уйти, как в комнате появляются два подростка, очень толково рекомендующиеся: Володя и Вася Кошкины, когда-то учились в седьмом классе. Они тоже перешли с той стороны, занятой противником. Им четырнадцать и пятнадцать лет. Но с серьезностью вполне зрелых людей оба они, оглядевшись, требуют, чтобы все гражданские немедленно покинули комнату. Они должны говорить только с военными.
Комендант удивленно посматривает на них, но отдает приказ. Остаются военные. Тогда Володя деловито вынимает из-за пазухи тетрадку с грубо начерченным планом города и начинает рассказывать о вражеских укреплениях, огневых точках, складах, расположенных у немцев на той стороне. Оказывается, поняв, что город окружен и предстоит штурм, они, братья Кошкины, собрали все возможные для них сведения о расположении немецкого гарнизона. Этим делом они занимались трое. Но третий в последнюю минуту струсил переходить реку. Хороший парень, но вот что сделаешь, струсил. И братья пренебрежительно говорят о нем:
— Дерьмо.
Капитан рассматривает этот самодельный план. Ребятам дают еды, провожатого и направляют в тыл. Кто знает, может быть, и окажется полезным этот мальчишеский разведплан.
— Смотри, осторожней, не погуби орлов, — напутствует комендант выделенного для них провожатого.
Уходит в тыл несколько подвод с эвакуированными. При этом происходит заминка. Смородина отказывается уезжать без «бабушки», ее матери, оставленной в городе, в укрытии. Долго и шумно торгуются. Женщина непреклонна. Наконец комендант посылает за старухой, и потом уже увозят всех.
В маленьком домике под красным флагом наконец настает тишина, если, разумеется, может настать тишина в городе, где не прекращается артиллерийская перестрелка. Веки капитана начинают смыкаться. Голова клонится к столу. Но на улице шаги, и вот он уже снова сидит на своем месте, деловитый, официальный.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Под флагом парламентаризма
Под флагом парламентаризма В. И. Ленин, большевики всегда, во все периоды своей истории – и в годы становления партии, и во время нарастания, подъема и спада революции, и в годы реакции, и после завоевания власти главной своей задачей считали связь с массами; политическую
Под флагом Аэрофлота
Под флагом Аэрофлота Поступлению в ГВФ лайнера Ту-104 предшествовала эксплуатация бомбардировщика Ту-16 (заводской № 1881301) с демонтированным вооружением. Машина, получившая в Аэрофлоте обозначение Ту-104Г (самолет «Н») и опознавательный знак СССР – Л5411, имела много общего с
Глава XXX. Под флагом германской разведки
Глава XXX. Под флагом германской разведки Прошло около месяца со дня приезда Аксельрода, благодаря уже протоптанным мною дорожкам и имевшимся связям, сравнительно быстро удалось легализизовать его пребывание в Константинополе. Повсюду я рекомендовал его как моего
Глава 21 РЕЙДЕР ПОД АМЕРИКАНСКИМ ФЛАГОМ
Глава 21 РЕЙДЕР ПОД АМЕРИКАНСКИМ ФЛАГОМ «Арадо» снова отправился на поиски новой добычи. Матросы, протирая глаза, смотрели, как он взлетает в небо. «Капитан ни минуты не теряет даром», — ворчали они. Предыдущей ночью никто не сомкнул глаз. В 9.15 «арадо» вернулся, покачивая
ГЛАВА 15 ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ
ГЛАВА 15 ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ В главной команде страныС 1970 года я храню открытку: «Поздравляю с Новым годом, 1970 годом! Желаю хороших успехов в учебе, железного здоровья, счастья в жизни и золотых медалей в футболе. Е. Лядин».Лаконичный, вроде бы ничем не примечательный текст.
Любовь под «колпаком» и… черным флагом
Любовь под «колпаком» и… черным флагом Когда в марте 1968 года Влади приехала в Москву, чтобы сниматься в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» (16 марта в «Правде» об этом был фоторепортаж), Высоцкий попытался возобновить их отношения, но из этого ничего не вышло — на тот
Под красным флагом
Под красным флагом Крах самодержавия. — Бурлящая провинция. — В большевистской ячейке. — Памятный май. — Становлюсь красногвардейцем. — Пришел Октябрь. — Первые шаги военкома.Главным поставщиком новостей во Владимирской губернии считалась газета «Старый
Под гвардейским флагом
Под гвардейским флагом Экипаж подводной лодки Щ-309, воодушевленный своим первым боевым успехом, готовился к новым походам. Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны быстро менялась в нашу пользу. В сентябре — октябре 1944 года войсками Ленинградского, 3, 2 и 1-го
Под флагом члена правительства
Под флагом члена правительства «В море – дома, на берегу – в гостях», – внушают молодым морякам командиры. Не всякому эта формула нравится, но учеба действительно проходит на более высоком уровне, когда корабль вдали от берега, от своей базы. Все на месте, береговые дела
ПОД ГВАРДЕЙСКИМ ФЛАГОМ
ПОД ГВАРДЕЙСКИМ ФЛАГОМ Экипаж подводной лодки «Щ-309», воодушевленный своим первым боевым успехом, готовился к новым боевым походам.Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны быстро менялась в пользу наших Вооруженных Сил. В сентябре — октябре 1944 года войсками
"Это — ветер с красным флагом…"
"Это — ветер с красным флагом…" Юлия Евстафьевна наклонилась к мужу, сидевшему в кресле-каталке, поправила одеяло. На коленях у него мурлыкала кошка с целым выводком котят: Кет-ти перетаскала их по одному из холодного угла комнаты и обосновалась на коленях у хозяина. Борис
Четыре часа под красным флагом
Четыре часа под красным флагом Люди ходили по берегу и смотрели на море. На рейде стоял пароход с невиданным флагом — красным. Он пришел сюда два дня назад, потому что Мачадо приказал не пускать его в гаванскую бухту. Теперь он на виду у всего Карденаса. Грузчики, что возили
ПОД ФЛАГОМ ЮБИЛЕЯ ПО ТАЙГЕ
ПОД ФЛАГОМ ЮБИЛЕЯ ПО ТАЙГЕ В 1908 году П.Ф. Унтербергер в третий раз снарядил отряд во главе со штабс-капитаном В.К. Арсеньевым в экспедицию, более масштабную и продолжительную, чем предыдущие, — в северную часть Уссурийского края. Первой в путь отправилась группа
ПОД ФЛАГОМ ЮБИЛЕЯ ПО ТАЙГЕ
ПОД ФЛАГОМ ЮБИЛЕЯ ПО ТАЙГЕ В 1908 году П.Ф. Унтербергер в третий раз снарядил отряд во главе со штабс-капитаном В.К. Арсеньевым в экспедицию, более масштабную и продолжительную, чем предыдущие, — в северную часть Уссурийского края. Первой в путь отправилась группа
Под флагом члена правительства
Под флагом члена правительства «В море — дома, на берегу — в гостях», — внушают молодым морякам командиры. Не всякому эта формула нравится, но учеба действительно проходит на более высоком уровне, когда корабль вдали от берега, от своей базы. Все на месте, береговые дела