Глава 10 Перемена участи
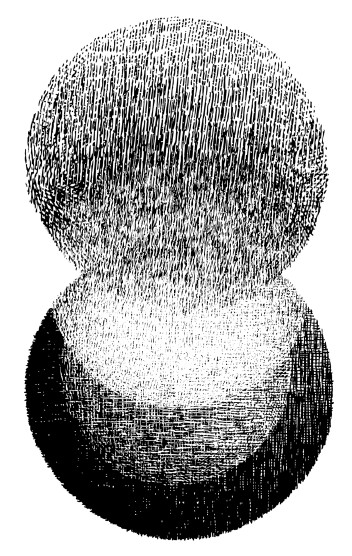
Этого молодого человека в желтом пиджаке, с набриолиненными волосами, зачесанными назад, в шляпе «борсалино» и стильном пальто «в елочку», в Замоскворечье знали, конечно, многие. Андрей являлся «звездой» школьного драмкружка, а впоследствии и театральной студии, репетиции которой проходили на сцене Дома пионеров на Большой Полянке.
По воспоминаниям студийцев, на сцене «Андрей был действительно хорош – во фраке и бабочке, с бледным лицом и длинными темными волосами, он держался аристократически свободно и непринужденно. Какая-то прирожденная светская небрежность проявлялась и в том, как он говорил, как провожал свою даму и даже в том, как он отбрасывал свесившиеся на лоб волосы».
Театральность, «игра на публику» были свойственны Тарковскому-младшему не только на сцене. Об этом ему все говорили, да и сам он это прекрасно чувствовал, находя неизъяснимое удовольствие в актерствовании как оборотной стороне вальяжности, расслабленности и чувственности, восходящих к полузабытому и полузапрещенному в начале 50-х Серебряному веку.
Худое нервное лицо.
Надменная отстраненность.
Затуманенный взгляд.
Загадочная полуулыбка на тонких, словно подрезанных бритвой губах.
– Тарковский, вы красите губы?
– Нет! Вот, глядите! – точно так же 26 лет назад отвечал сокурсницам Арсений Тарковский и принимался тереть губы рукавом рубашки, отчего губы становились еще ярче.
Особенно Андрей был великолепен в роли белоэмигранта Нецветаева из пьесы Анатолия Барянова «На той стороне», а также графа Ламперти в «Острове мира» Евгения Петрова и казака Левко в «Майской ночи, или Утопленнице» Николая Гоголя.
Другое дело, что учебный процесс мало интересовал начинающего, но уже знаменитого актера школьной самодеятельности.
Марина Арсеньевна Тарковская вспоминала: «Мы с Андреем учились в разных школах, он – в знаменитой на все Замоскворечье 554-й, в Стремянном переулке. Как говорится, каков поп, таков и приход. Директор школы № 554 не был твердых правил и любил выпить, поэтому успеваемость и дисциплина в школе хромали. Во время большой перемены школа являла собой подобие ада. Из дверей уборных вырывались клубы табачного дыма, который пластами стелился по коридорам. В этом ядовитом тумане носились ученики, сметая всех, кто попадался на их пути, – первоклассников, учителей и случайных посетителей вроде меня.
Я думаю, что среди грешников, обретавшихся в этом аду, Андрей был одним из самых злостных. Весь его дневник был исписан учителями, взывавшими к маме: «Мешал работать на уроке», «Вертелся и разговаривал с соседом», «Читал постороннюю книгу», «Опоздал на урок», «Пел на уроке».
Разумеется, это была нарочитая поза, игра в свободу и раскрепощенность, которая производила сильное впечатление на одноклассников и, особенно, на девочек из параллельных классов женской школы № 559 в Казачьем переулке, где училась Марина, и которые посещали театральную студию во Дворце пионеров.
Однако отец к увлечению сына отнесся скептически. В письме Андрею он недоумевал: «Что за будущее у тебя тогда? Что может быть ужасней пустоты и никчемности жизни второразрядного, допустим, актера?»
Эти вопросы, пожалуй, порождали совсем другие вопросы.
Подсознательно сын, конечно, повторял поведение отца, но лишь в значительно более гипертрофированной форме. Так, поэтический Олимп, к которому принадлежал Арсений, виделся Андрею миром изысканного лицедейства, когда неистовые чувства, испепеляющая страсть и безумная любовь были не просто своего рода питательной средой творца, но и необходимыми атрибутами, сменяющими друг друга масками, без которых уже невозможно было жить. Почему отец не почувствовал этого, а если и почувствовал, то почему не захотел, чтобы сын повторил его путь? Причина в том (и для Андрея весьма обидная), что Арсений Александрович не видел тогда особых дарований своего сына – ни литературных, ни художественных, ни музыкальных, ни научных: обычный московский пижон из Замоскворечья, доставляющий своим разведенным родителям массу беспокойств, желающий проявить себя, но делающий это неумело, а порой и просто глупо.
В письме Андрею отец восклицал: «Ведь никому не известно, есть ли у тебя талант, который стоил бы траты стольких сил, чтобы пожертвовать ему всем! А вдруг – нет!» И далее следовал закономерный в таких случаях, а потому навязший в зубах призыв к благопристойности, а также совет продолжить учебу в школе, «поступить в высшее учебное заведение, получить любое образование и хоть год поработать в этой (точных знаний) области, а потом, если потребность в искусстве останется (останется, если талант превышает способность любительского сорта) – заняться, чем угодно, хоть обучением в актерском ВУЗе».
Итак, вопросы отца повисли в воздухе, но породили совсем другие вопросы, на которые должен был отвечать сын, причем делать это самостоятельно, по собственному разумению, растянув эту мучительную процедуру на долгие годы.
Что такое талант и как ощутить его наличие?
Впоследствии Андрей Тарковский хоть и косвенно, но все-таки ответит на этот «проклятый вопрос»: «Талант не дается Богом, а Богом человек обрекается на то, чтобы нести крест таланта, ибо художник – существо, стремящееся к владению истиной в конечной инстанции».
Однако уже сама по себе обреченность (это слово довольно часто встречается в текстах Андрея Тарковского) есть приговор, есть синоним страдания и несвободы, есть испытание несением креста, выдержать которое могут немногие. Вернее, немногие могут его пережить.
Ведь, как сказано в «Дневнике писателя»: «самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается».
Эти слова крутятся в голове Андрея, когда он бредет по пустым школьным коридорам, а вослед ему со стен не без укоризны смотрят бородатые русские писатели. Федор Михайлович же Достоевский смотрит с особым значением.
Потом Андрей выходит в школьный двор, почему-то пустой в тот момент, садится здесь на лавку.
На втором этаже в кабинете директора горит свет.
Сумерки постепенно заволакивают переулок, здание школы, двор, деревья, посаженные в прошлом году на первое сентября, кирпичные оштукатуренные ворота. Все меняется быстро, на глазах, и уже вспыхивают уличные фонари, которые начинают медленно разгораться.
Меняется настроение, время года, время суток.
Происходит перемена участи.
«Чувства и души быть не должно – должен быть дух!» – это и есть ответ на вопросы, заданные отцом.
Прозвучит он спустя годы, но созреет тогда, в 1951 году, когда Андрей закончил среднюю школу № 554 и поступил на арабское отделение Института востоковедения, который через полтора года бросил безо всякого сожаления, просто потому что понял – он не будет этим заниматься никогда.
Кстати сказать, отец отнесся к этому поступку сына с пониманием, мать же, напротив, была в ужасе. Забирать документы из института Андрей идти не захотел и отправил за ними сестру.
Показательный эпизод для понимания сформировавшегося мировоззрения Тарковского-младшего: идти от обратного, когда чем хуже, тем лучше.
Марина Арсеньевна Тарковская вспоминала, что «Андрей очень гордился тем, что не был комсомольцем. Хотя вначале очень хотел в комсомол. Потому что все вступали. Это было как… ну совершенно элементарная и необходимая вещь, обязательное и совершенно заурядное правило. Вот тебе, например, четырнадцать лет, ты хорошо учишься, не хулиган, не двоечник, значит, ты должен вступать в комсомол, писать заявление… Андрея обижало, что все комсомольцы, а он нет. Он хотел быть, как все. Вообще очень часто, понимая, что не такой, как все, он очень хотел быть обычным, заурядным мальчишкой, подростком. И тоже подал заявление в комсомол. Но на собрании выступил его друг – теперь уже покойный – и сказал, что Тарковский недостоин быть членом ВЛКСМ. Андрея не приняли, он был очень огорчен».
Понимание, что ты не такой, как все, и желание стать таким, как все, весьма и весьма искусительно в своей основе. В годы юности оно подвигает к дерзновению и самому радикальному проявлению внутренней свободы.
Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Драма заключается в том, что мы не умеем быть свободными – мы требуем свободы для себя за счет других и не желаем поступиться ничем ради другого, полагая, что в этом ущемление моих личностных прав и свобод. Невероятный эгоизм характеризует сегодня всех нас! Но не в этом свобода – свобода в том, чтобы научиться ничего не требовать от жизни и от окружающих, но требовать от себя и легко отдавать. Свобода – в жертве во имя любви… Сталкер кажется слаб, но, по существу, именно он непобедим в силу своей веры и своей воли служения людям… Меня поражают художники, полагающие, что они свободно творят самих себя, что это возможно делать, – художник обречен на то, чтобы понять, что его создает время, люди, среди которых он живет».
Итак, это было даже не ощущение, но предощущение 19-летнего Андрея того, что будущее должно быть другим, и это предощущение оказалось сильнее обязательств перед родителями, да и перед самим собой, когда после длительных и тяжелых выяснений отношений с матерью он давал себе слово делать все правильно и «встать на путь исправления», но в самый решающий момент (как второгодник по прозвищу Гондурас) оступался и падал не по неумению ходить и кривоногости, а по острому пониманию того, что этот путь не твой.
Я и молод, и стар, я и мудр, и глуп,
Смертью пахнет левкой, флоксы – грецким орехом.
А брезгливая складка у обиженных губ
Словно шепчет «не нужно» с натянутым смехом.
Но любил или нет, я не знаю, зато
Что я вспомнил, запело расстроенным ладом,
И, лохматый двойник с пистолетом в пальто,
Неотвязно и честно ты шествовал рядом.
Если рядом стена – ты скользил по стене,
Если лужа – подрагивал в солнечной луже…
Можно б в темной квартире и так… на ремне…
Не могу без тебя! Ты мне, право же, нужен!
Ты поможешь в кармане нащупать курок
И поднять к голове черный ствол вороненый,
И останешься ты навсегда одинок,
Верный друг мой, безмолвный, слепой и покорный.
Это стихотворение «Тень» абсолютно в стиле отца Андрей Тарковский написал в апреле 1955 года. К этому моменту в его жизни произошли события, которые, по словам будущего режиссера, во многом изменили его, стали чуть ли не важнейшими в формировании личности, в осмыслении собственной участи.
Зимой 1953 года стараниями Марии Ивановны Андрей был зачислен коллектором Люмаканской партии Туруханской экспедиции при Московском научно-исследовательском институте «НИГРИзолото» (ныне Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов), а в мае того же года он на четыре месяца уехал в экспедицию на Курейку (приток Енисея в Туруханском крае). Интересное и многообещающее начало новых жизненных испытаний и перипетий!
Марина Тарковская вспоминала: «Андрей был стилягой, как сказал один из его одноклассников, первого набора: увлекался джазом, который был запрещен в Советском Союзе, соответственно одевался. Это был, конечно, в какой-то мере социальный протест против серости, однообразия – в одежде, мышлении и т. д. Были группы молодежи, которые дружили и одинаково одевались, носили одинаковые прически, слушали одинаковый джаз… Танцевали твист. Андрей прекрасно танцевал, прекрасно знал музыку и вообще был очень музыкальным, с абсолютным слухом. Он мог даже быть человеком-оркестром – на ударнике играть, на пианино.
Маме все это страшно не нравилось. Во-первых, ей казалось, что это безделье. Во-вторых, это было опасно. Стиляг ловили, стригли, сажали в кутузку, разрезали узкие брюки. Комсомольские патрули ходили по улицам, в одинаковых костюмах».
Мы можем лишь догадываться о том, как отреагировал «стиляга» на неожиданный поворот событий. Он не мог не понимать, что эту своеобразную «ссылку» в Туруханский край (в марте 1953 года скончался товарищ Сталин, который тоже в свое время отбывал ссылку в тех краях) мать ему организовала сознательно. Ведь он признавал впоследствии, что после ухода из Института востоковедения попал в «плохую компанию» на «вонючей Серпуховке», нигде не работал, не учился, и если бы не радикальные меры по его «депортации» на Курейку, то неизвестно, чем бы вообще закончилось дело, ведь шпана замоскворецкая в этом смысле предоставляла выбор небогатый: либо «на перо», либо на нары.
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года: «В результате упрочения советского общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего общественного долга укрепились законность и социалистический правопорядок, а также значительно сократилась преступность в стране.
Президиум Верховного Совета СССР считает, что в этих условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших преступления, не представляющие большой опасности для государства, и своим добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества».
В объяснительной записке к Указу член Президиума Политбюро, министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия сообщал, что мера эта является актом советского гуманизма, что из 2 526 402 заключенных ГУЛАГа только 221 435 человек являются «особо опасными преступниками». Тогда же было упразднено Особое совещание при МВД СССР, что означало, что никто не может быть осужден без решения суда.
Стало быть, в Туруханский край Андрей поехал именно тогда, когда в обратном направлении двинулись тысячи бывших зэков.
Вероятно, было выбрано не самое лучшее время для перевоспитания своего взрослого сына именно таким образом, хотя бы потому, что возможность не вернуться из этой поездки была велика. Так, по воспоминаниям инженера-картографа (а в 1953 году практиканта-геодезиста) Ольги Ганчиной, по Енисею шли пароходы, захваченные освобожденными заключенными, в райцентрах, по сути, не было советской власти, милиция бездействовала, громились магазины и сберкассы, а в крупные города были введены регулярные армейские части. Однако, что было сделано, то было сделано, и Андрей оказался именно в это время именно в этих местах.
Мария Ивановна Вишнякова-Тарковская писала в своем дневнике: «В понедельник Андрей едет. Конечно, не выход, но, все-таки, выход. Обозлен, бросается, груб, но я одна… Нужна хорошая семья с мужчиной во главе и полное благорастворение чувств в доме».
На бывалых геодезистов, геологов и картографов Тарковский произвел сначала не самое приятное впечатление. Столичные замашки молодого коллектора, постоянная игра на публику («считал себя похожим на какого-то французского актера»), образ стиляги с Серпуховки раздражали, но со временем стало ясно, что это своего рода защитная реакция, желание спрятать что-то сокровенное очень глубоко, боязнь, что его внутреннее переживание станет предметом издевательств или глупых шуток.
Ольга Тимофеевна Ганчина рассказывала, что при всем своем напускном снобизме Андрей никогда не прятался за чужие спины в сложных ситуациях, всегда был готов прийти на помощь, был ответственен и всегда держал данное им слово. Эти качества делали ему честь, и довольно быстро от прежней неприязни к нему не осталось и следа.
Другое дело, что Тарковский был заложником собственной эмоциональности и склонности к рефлексии. Это пришло из военного детства, из пережитых страданий, болезни, из постоянного нахождения на острие семейного конфликта между отцом и матерью, между отцом и его второй семьей, между отцом и его третьей семьей, между матерью и им самим. Коллеги по экспедиции вспоминали, что порой заставали Андрея плачущим, впавшим в «какую-то сильную тоску… когда он садился на берегу над самой водой, и не раз… приходилось выводить его из этого состояния… брать за рукав и уводить подальше от воды».
Суицидальное состояние, которому уже после возвращения из Туруханского края Андрей посвятил свое стихотворение «Тень», вероятно, было следствием сумеречных переживаний собственного одиночества, которое именно здесь, вдали от цивилизации, родных и друзей стало наиболее явным и от того невыносимым.
Конечно, Андрей знал и о желании отца (он не скрывал этого) свести счеты с жизнью в конце сороковых, когда он, безногий инвалид, должен был начинать все сызнова.
Ты поможешь в кармане нащупать курок
И поднять к голове черный ствол вороненый,
И останешься ты навсегда одинок,
Верный друг мой, безмолвный, слепой и покорный.
Лирический герой Андрея Арсеньевича взаимодействует с безмолвной, слепой и покорной тенью, но если в Москве это было лишь частью поэтической условности, имиджа, если угодно, то на Курейке пустота перед мрачным величием природы обрела черты бездонной, громадной пропасти, переступить которую невозможно, и потому мысли о смерти пришли сами собой.
Известно, что Андрей мало рассказывал о той экспедиции.
Насильное погружение сына в экстремальные условия, организованное матерью, попытка заставить самому «перетирать свои камни», было актом отчаяния и милосердия одновременно. Мария Ивановна как женщина имела свое представление о том, каким должен быть настоящий мужчина – смелым, решительным, готовым на поступок, умеющим и костер разжечь под дождем, и дрова наколоть, ведь всеми этими качествами она обладала сама, однако находила это не вполне правильным (потому что она была женщиной, а не мужчиной), но другого пути у нее не было, выбор был сделан давно и обжалованию не подлежал.
С одной стороны, мать видела в сыне отражение отца и страшилась этого, потому что знала, как тяжела жизнь ее бывшего мужа, каковы страдания, которые он приносит окружающим его людям. С другой же стороны, Мария Ивановна, со всей своей строгостью, непреклонностью и жесткостью, горячо любила своего сына, стремилась отдать ему все, что у нее было, прекрасно понимая при этом, что стена непонимания между ними растет и с каждым днем ее усилия становятся все менее и менее продуктивными. Наверное, это было отчуждение и отчаянная (на грани безумия) попытка преодолеть его.
По воспоминаниям друзей Андрея, из экспедиции он вернулся совсем другим человеком – помудревшим, прошедшим многие серьезные испытания (сердечные в том числе, о его первом «взрослом» бурном романе с Ольгой Ганчиной знали только близкие), пережившим одиночество и страх.
Об одной весьма странной, даже таинственной истории, случившейся с братом, вспоминала Марина Тарковская, впрочем, находя ее выдумкой: «Я, хорошо его зная, чувствовала, что врет. Но когда он рассказывал, казалось, мурашки бегут по спине. Он был хорошим артистом, умел рассказывать».
Однажды преподобный Кирилл Белозерский, томимый странным сном, лег уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Только успел преподобный Кирилл восстать ото сна и уйти, как сосна рухнула на то место, где он спал. Из этой сосны подвижник сделал крест. В другой раз преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал лес, но Бог хранил Своего угодника и вывел его из пожара.
Некий купец Иоанн пришел к преподобному Савватию Соловецкому и просил дать ему благословение отплыть на остров. Савватий такое благословение не дал, а посему Иоанн был вынужден остаться ночевать на материке. Ночью же на море разразилась великая буря, и многие ладьи вместе с людьми были потоплены.
Семилетний мальчик Прохор Мошнин, взошедший на колокольню Сергиево-Казанского собора, оступился и упал вниз. Видевшие это в ужасе готовились увидеть страшную смерть ребенка. Однако у самой земли воздушные массы неожиданно сгустились, приняли Прохора в свои объятия и осторожно положили на землю. Мальчик остался жив и невредим. Все увидели в этом чудо, а сам ребенок так и не понял, что с ним произошло.
Поздней осенью иконописец Кирилл, сотрудник Феофана Грека и Андрея Рублева, возвращался в Спасский монастырь, но заблудился и был окружен стаей волков. Когда же стало ясно, что спастись от них невозможно, то Кириллу было явлено лесное озеро, войдя в которое иконописец стал недоступен для лютых зверей. Всю ночь волки провели на берегах озера, но приступить к Кириллу так и не решились, а утром они ушли.
Горячая молитва не только спасла иконописца от хищников, но и согревала его в ледяной воде всю ночь.
Однажды начальник экспедиции отправил Андрея на дальнюю заимку, что располагалась в трех днях пути от основного лагеря. Ночевать приходилась в охотничьих шалашах или землянках, выкопанных в корневищах вековых деревьев. Когда Андрей уснул в одной из таких землянок, то во сне он услышал неизвестный голос: «Вставай и уходи!» Только после третьего призыва он проснулся и выбрался из землянки. Ровно в тот же момент, не устояв под порывами ветра, рухнула гигантская сосна, полностью уничтожив место ночлега Андрея.
Конечно, все знали эту историю, потому что она была весьма популярна среди геологов и геодезистов, проводивших в тайге не только месяцы, но и годы. Однако Андрей и на Курейке, и в Москве всех с жаром уверял, что она произошла именно с ним, что это он слышал неведомый голос троекратно, и великий ужас объял его, когда увидел он падающее дерево, под которым он мог быть погребен.
Дерево, в основании которого устроено жилище и из которого исходит жизнь, как из пещеры Патриархов в Хевроне, где погребены Авраам, Исаак и Иаков.
Так мыслит Леонардо на своем незавершенном полотне Adorazione dei Magi, на котором под высоким деревом с занимающей полнеба кроной сидит женщина и держит в руках младенца.
Мы видим корни, что, как змеи, уходят глубоко в землю, мы видим ясли, мы видим выглядывающих из-за могучего ствола людей, с удивлением смотрящих на молодую женщину, мы видим всадников и каменные ступени, а еще мы видим стариков, стоящих на коленях, кажется даже юродствующих и ожидающих своей участи, потому что они пришли поклониться Младенцу Христу.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК