Глава 7 Странный угол чувств
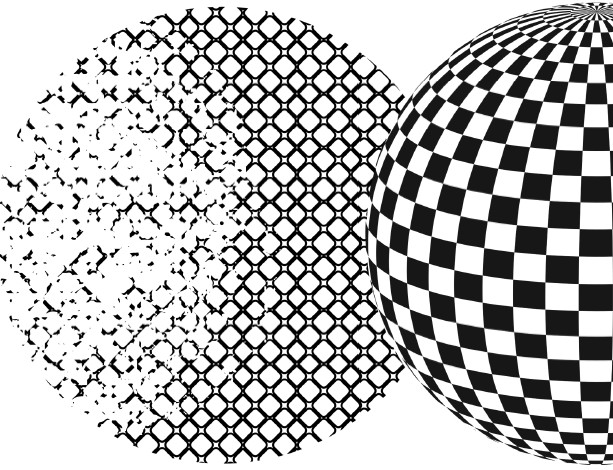
Это началось еще в Юрьевце, когда на глаза Марии Ивановне попалась адресованная ее 11-летнему сыну записка:
«Милый Андрей! Ты на меня не обижайся. Ты думаешь, что я тебе изменила, а на самом деле это неправда. Я тебе не изменила и не буду. Ты, скорее, мне изменил потому, что ты сначала гнался за И.К., а потом она уехала, и ты стал гнаться за Т.Г., потом ты меня спросил, за кем я гонюсь, я сказала, что за тобой, и ты стал гнаться за мной. Тебе, наверное, захотелось мне изменить. Из-за того ты и сказал, что я тебя изменила, а я не изменила, я тебя люблю. Милый Андрей, я тебе не изменила, я тебя люблю… Ты очень красивый, я таких красивых еще никогда не видала, только вижу двоих, тебя и Берштейна. Я тебя очень люблю».
Как это письмо попало в руки Марии Ивановне, мы не знаем – отдал ли его своей матери сам Андрей (во что верится с трудом) или она обнаружила его в вещах сына? Теперь это уже не столь важно, факт остается фактом – в истории взаимоотношений сына и его разведенных родителей наступал новый период.
Послание неизвестной юной воздыхательницы Андрея Маруся нашла, по словам Марины Тарковской, «пошлым». Она была в ужасе, о чем немедленно сообщила бывшему мужу, отцу ее детей. Ответ Арсения не принес умиротворения в эту абсолютно невинную и совершенно узнаваемую ситуацию, когда еще совсем дети – мальчик и девочка – восхищаются друг другом, смело испытывая свое первое чувство, будучи в полной уверенности, что это любовь.
Однако Тарковский писал с фронта: «Что делать с этим – я не знаю. Раз уж это началось, то остановить – невозможно, даже если ты будешь действовать самым осторожным образом… Может быть, было бы хорошо объяснить ему, что любовь не только то, что у них ребята имеют в виду, а чувство и благородное, и ведущее к самоотверженным поступкам, и к «немому восхищению», заставляющее становиться лучше – и прочее… Раз у него это уже началось, то надо устремить его страсти-мордасти по хорошему пути, а задерживать водопад – дело пустое.
У меня волосы зашевелились на голове, когда я прочел твою копию с этого произведения, уж очень страшно за него стало и обидно как-то. Я понял, что это будет совсем как у меня, ранние страсти и мучения. Боюсь только, что у меня они были романтичней, чем будут у него, а безудержность и очертя-голову-бросание такое же. И так как я думаю о своем опыте, то знаю, что важно воспитать в Андрюшке умение считаться с окружающими, бросаясь в любовь, и полагать, что не все дозволено. Постарайся внушить ему, что нельзя доставлять людям страдания ради своих любовей, – к несчастью, я понял это слишком поздно. Объясни ему, что хуже всего позднее сожаление о том, что кому-то сделал больно. Если он не эгоист в самой худшей форме, то он это должен понять.
А что делать теперь – кроме этого – не знаю, может быть потому, что не представляю себе форм нынешнего флирта в Юрьевце среди этих – не моих романтических времен – ребят. Не надо все-таки пугаться Андрюшкиных страстей и делать так, что все это станет соблазнительным запретным плодом. Скоро и Мышь, должно быть, начнет получать любовные письма, и тогда мое сердце окончательно сожмется от боли».
Конечно, спустя годы Андрей прочитал это письмо. Вероятно, улыбнулся, потому что все события, откомментированные в нем, давно канули в Лету. Опечалило, думается, другое – недоверие, заведомая уверенность в порочности, в «меньшей романтичности» и в «худшей форме» при том, что известные события в жизни Арсения Александровича развивались на глазах его детей, его первой и второй жены. А запоздалое покаяние – «к несчастью, я понял это слишком поздно», уже никому не было нужно. Слова и дидактический пафос только и оставались словами и дидактическим пафосом, которым было трудно поверить.
Написав это письмо, Тарковский, скорее всего, даже и не понял, что описал в нем вовсе не своего сына, которого, откровенно говоря, мало знал, а самого себя, и единственный на тот момент его адресат – Маруся Вишнякова прекрасно поняла это. Вполне возможно, что скоропалительный отъезд в Москву летом 1943 года (в Юрьевце к этому времени быт более или менее налажен, а Андрей очень неплохо учился в местной школе) и возвращение сына в школу № 557 в Стремянном переулке стал результатом исступленной попытки изменить в Андрее что-то главное, что-то таинственно связывающее его с его отцом, оградить сына от тех страданий, которые Арсений испытывал сам и приносил окружающим его людям. О последнем качестве своего бывшего супруга Маруся, пожалуй, знала лучше многих.
Рубеж 1943–1944 годов прошел под знаком метания между Переделкином и Москвой. Школу вновь пришлось оставить, а потом вновь в нее вернуться. Казалось, что мать не понимала, что происходит с ее сыном, который рос по каким-то только ему (и ей) ведомым законам, в общении был груб, скрытен, а порой и неистов в проявлении эмоций. Если до отъезда в Юрьевец, да и в самом приволжском городке учеба увлекала Андрея, то теперь он почти бросил учиться, много времени проводил на улице с друзьями – «ножички», «пристеночек», карты на деньги… Занятия музыкой, разумеется, были заброшены. Зашла речь о переводе мальчика в ремесленное училище, что по сути означало его автоматическое зачисление в ряды «гопников» из «ремеслухи» со всеми вытекающими отсюда последствиями (уголовными в том числе).
Впоследствии Андрей Тарковский вспоминал: «Мое детство я помню очень хорошо. Для меня это самое главное – самые главные годы в моей жизни… Мы жили с мамой, бабушкой, сестрой. Семья без мужчины. Это существенно повлияло на мой характер… Это было тяжелое время. Мне всегда не хватало отца. Когда отец ушел из нашей семьи, мне было три года. Жизнь была необычайно трудной во всех смыслах… В свое время я пережил очень трудный момент. В общем, я попал в дурную компанию, будучи молодым… У меня в детстве был довольно растительный образ жизни. Я мало размышлял. Я больше чувствовал и воспринимал. Однако воспоминания детства никогда не делали человека художником. Отсылаю вас к рассказам Анны Ахматовой о ее детстве. Или к Марселю Прусту. Мы придаем несколько чрезмерное значение роли детства. Манера психоаналитиков смотреть на жизнь сквозь детство, находить в нем объяснения всему – это один из способов инфантилизации личности… Подход к художественному процессу, к творчеству с этой точки зрения, если хотите, даже удручает. Удручает потому, что мотивы и суть творчества гораздо сложнее, намного неуловимее, чем просто воспоминания о детстве и его объяснения».
Вероятно, неспособность постичь эту «неуловимость», осмысление того, что она столкнулась с чем-то таким, о чем не написано в учебниках по подростковой педагогике, повергали Марию Ивановну в состояние паники. И вновь перед лицом тяжелых испытаний она была одна, лишенная всяческой поддержки, совета, помощи.
Меж тем, как известно, беда не приходит одна.
13 декабря 1943 года Арсений Тарковский получил тяжелое ранение в ногу разрывной пулей, что привело к развитию газовой гангрены и последующей ампутации.
В 1964 году Арсений Александрович так описал происходившее с ним в те долгие месяцы:
Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей…
И далее:
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.
Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида…
Первая операция была проведена сразу в полевом госпитале, после чего Арсения Александровича вывезли в Калинин (Тверь) и вновь прооперировали уже в прифронтовом госпитале. Однако положение ухудшалось с каждым днем. Из письма Тарковского жене Антонине Александровне: «Родная Тоня! Нужно немедленно выхлопотать разрешение мне на отъезд в Москву. Если ты еще не выслала мне его, может быть, приедешь за мной в Калинин? Ради Бога, скорей, моя девочка. Я очень устал и хочу в настоящий госпиталь…».
Благодаря нечеловеческим усилиям Антонины Александровны, которая тоже на тот момент разрывалась между Чистополем и Москвой, удалось с помощью секретаря Союза писателей СССР А.А. Фадеева перевезти Тарковского в Москву и положить в эвакогоспиталь № 5002 – Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) к профессору Александру Васильевичу Вишневскому. В результате очередной реампутации левого бедра в средней кости гвардии капитан Тарковский Арсений Александрович был оставлен на излечении в хирургической клинике с определением ему второй группы инвалидности.
В своей книге «Осколки зеркала» Марина Тарковская писала: «После тяжелейших операций (отец) оказался в непривычном для него состоянии крайней беспомощности. Кроме всего, боль страшная от ампутированной ноги… произошел какой-то психический перелом». Теперь страдание носило не какой-то отвлеченно-выспренний характер, но было самой жизнью, ежедневным, ежечасным, ежеминутным переживанием, рутиной, как ни странно это звучит, когда ни о чем другом не было ни сил, ни желания думать. Боль меняла сознание, внешность, учила жить по-другому.
После той последней встречи с отцом осенью 1943 года в Переделкино Андрей теперь (а ведь не прошло и года) увидел перед собой совсем другого человека – раздавленного, не желающего ни с кем говорить, с бледным, осунувшимся лицом, ввалившимися щеками, вместо левой ноги у которого лежало перекрученное одеяло с больничной, поплывшей от бесконечных стирок маркировкой. Конечно, его было жалко, но сын не знал, как проявить свою жалость к отцу. И ему оставалось только наблюдать за тем, как его мать и Антонина Александровна из последних сил окружают его отца заботой. Это было тягостное и глубоко драматическое зрелище.
Больничные запахи – бинты, кафельный пол, стоящие на тумбочке у изголовья лекарства, вежливые и немногословные медсестры, нескончаемый желтый свет, выкрашенные белой масляной краской каталки в коридоре, приглушенные голоса, закрытые из-за боязни сквозняков форточки. Духота.
Андрей не мог и предположить тогда, что совсем скоро он, пятнадцатилетний мальчик, окажется в такой же обстановке и проведет в детской туберкулезной больнице почти год.
Летом 1944 года Арсения Александровича выписали из госпиталя. Из книги Марины Тарковской «Осколки зеркала»: «Папа со своей женой Антониной Александровной и ее дочкой Лялей приехал на какое-то время в Дом творчества писателей, в тот, старый Дом, потом сгоревший, что стоял ближе к пруду. Папа тогда только что выписался из госпиталя, привыкал к костылям…»
Он выглядел усталым, но сосредоточенным, было видно, что новый способ передвижения давался ему с трудом. Опять же ни для кого уже не было секретом, что его отношения с Антониной Александровной переживали не самый лучший период. Нечеловеческие трудности, которые им пришлось пережить вместе, видимо, остудили сердечное горение, переломили что-то внутри. Тарковский был немногословен, что ему в принципе не было свойственно, постоянно раздражался и томился от собственной беспомощности и бытовых неурядиц: туалет во дворе, один рукомойник на всех, общая кухня, шум и грязь коммунальной квартиры. Казалось, что все в доме на Партийном было против него.
Антонина Александровна старалась облегчить жизнь Арсения как могла, но, и это выглядело необъяснимым парадоксом, все эти усилия еще больше раздражали мужа, хотя, конечно, он прекрасно понимал, что благодаря именно этой женщине он вообще остался жив. Но, увы, ничего поделать с собой не мог. Это было выше его сил, которые Арсений без остатка отдал борьбе со своей болью. И он вновь ощущал себя одиноким, всеми оставленным, всеми непонятым и забытым. Это был страх после страха.
Война подходила к концу, и с каждым днем, которые Арсений Александрович встречал со своей женой в крохотной комнате без окон, укреплялось глубокое и осмысленное понимание того, что великие победы и массовый героизм, многомиллионные жертвы и трудовые подвиги не отменили мелочных склок и кухонных скандалов, сцен ревности и измен, семейного вранья и предательства, ежедневной рутины и нищеты.
Все осталось по-прежнему, как и до войны, как и сто, и двести лет назад, потому что нет ничего нового под солнцем, и что делалось, то и будет делаться.
В стихотворении «После войны» у Тарковского есть такие слова:
Бывает, в летнюю жару лежишь
И смотришь в небо, и горячий воздух
Качается, как люлька, над тобой,
И вдруг находишь странный угол чувств:
Есть в этой люльке щель, и сквозь нее
Проходит холод запредельный, будто
Какая-то иголка ледяная…
Эпизод в вагоне из сценария фильма «Зеркало», не вошедший в окончательный вариант картины:
«В вагоне было темно и стояла такая духота, что, несмотря на открытые окна, у меня кружилась голова и перед глазами плавали радужные круги. Мы с матерью стояли в проходе, а Антонина Александровна с моей сестрой сидели у окна, притиснутые огромным человеком с потным лицом.
Поезд с грохотом проносился мимо запыленных полустанков, пакгаузов и дымящихся свалок, огороженных колючей проволокой. Потом пошли леса. Но даже это не приносило облегчения, и вагонные сквозняки лишь усиливали во мне сосущую тошноту. В вагоне кричали, смеялись, пели. Сквозь шум и грохот поезда было слышно, как в дальнем конце вагона кто-то с тупой настойчивостью терзал гармошку.
У меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что бледнею. В этот момент я словно увидел себя со стороны и поразился своему внезапно позеленевшему лицу и провалившимся щекам. Мать вопросительно взглянула на меня.
– Тошнит что-то… Я пойду в тамбур… – пробормотал я и стал протискиваться по забитому проходу.
Мать двинулась за мной. У меня тряслись колени, ноги были как ватные, я ничего не видел вокруг и из последних сил рвался к спасительной площадке. «Только бы не упасть, – думал я. – Только бы не упасть».
Потом я стоял на верхней ступеньке подножки, придерживаясь за поручень.
Мать сзади держала меня за ремень. Поезд мчался вдоль зеленого склона с выложенной белым кирпичом надписью: «Наше дело правое – мы победим».
Я подставлял лицо ветру и, стараясь глубоко дышать, понемногу приходил в себя.
– Чего ж это он? – услышал я позади сочувственный женский голос.
Мать что-то ответила. Отдышавшись, я повернулся к ней и попытался улыбнуться.
– Ничего, нам скоро выходить, – сказала она.
– Ну-ка, на, выпей, – услышал я тот же голос.
Пожилая женщина, одетая, несмотря на жару, в ватник и резиновые сапоги, наклонилась над большим бидоном и налила в крышку молока. Я посмотрел на мать. Она кивнула и отвернулась.
– Спасибо, – сказал я бабе в резиновых сапогах и, стараясь не расплескать молоко, принял из ее рук глубокую жестяную крышку. Пока я пил, она весело смотрела на меня. Мать повернулась и пошла обратно в вагон.
– Мы сейчас… Я пойду за нашими…
Когда поезд ушел, мы долго стояли на деревянной платформе и слушали, как замирает вдали его грохот. Потом наступила оглушительная тишина, и в мои легкие ворвался пахнущий смолой чистый кислород».
В 1946 году Марии Ивановне выдали в Литфонде ордер на пошив пальто. Арсений заплатил, и Андрею пошили драповое пальто на вате с меховым воротником. На Щипке это было воистину грандиозным событием.
Пальто висело на зеркальной дверце бабушкиного шкафа, и каждый мог его потрогать, но надеть мог только Андрей. Так как драповое пальто висело на зеркале и загораживало его, то было дозволительно отодвигать лишь его рукава, чтобы увидеть свое отражение.
Чем-то оно напоминало гоголевскую шинель «на толстой вате, на крепкой подкладке без износу». О подкладке и воротнике, как мы помним, у Николая Васильевича было сказано отдельно: «На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу».
Наконец настал день, когда Андрей надел пальто и пошел в школу. Вот как описала последовавшие за этим события Марина Арсеньевна Тарковская: «Из школы он пришел по морозу раздетый – пальто украли. Андрей лег на кровать и отвернулся к стене. Мне казалось, что он плачет, и я тоже плакала. К вечеру у Андрея поднялась температура, и он серьезно заболел. Его положили в детскую больницу в Орлово-Давыдовском переулке. А в нашем доме поселилась тревога. Не знать бы никогда этих слов – туберкулез, рентген, поддувание…
В больницу к Андрею мама ездила часто, но меня взяла только один раз, боялась, как бы я не заразилась. К поездкам она готовилась заранее и обстоятельно. Приносила из магазина сливочное масло и сметану. Из геркулеса, провернутого через мясорубку, мама пекла сдобное овсяное печенье. А потом варился клюквенный кисель. Мама давила через дуршлаг клюкву, выжимки кипятила, отцеживала, вливала разведенный крахмал, клала сахар и только потом добавляла клюквенный сок. Кисель получался с «живыми» витаминами и был очень вкусный. Но у мамы был точный глаз. Она варила киселя ровно столько, сколько помещалось в литровую банку. Я стояла у стола и смотрела, как льется густая красная жидкость. Я надеялась, что в миске останется хоть немного для меня. Но чаще всего мне доставалась лишь пустая миска, которую я выскабливала до блеска. Так мама воспитывала во мне характер, и отсутствие лишней копейки ей хорошо помогало. Мама гордилась мной – ведь я никогда не хныкала и не клянчила ничего из Андреевой передачи.
Когда я сама стала взрослой, я поняла, как было трудно маме не налить мне чашку киселя и не дать печенья».
И все повторилось: больничные запахи, бинты, кафельный пол, стоящие на тумбочке у изголовья лекарства, вежливые и немногословные медсестры, нескончаемый желтый свет, выкрашенные белой масляной краской каталки в коридоре, приглушенные голоса, закрытые из-за боязни сквозняков форточки. Духота.
В туберкулезной больнице Андрей провел без малого год.
В детстве время воспринимается иначе, нежели в годы зрелости или в старости. Кажущаяся вечность при ближайшем рассмотрении оказывается мгновением, превратившим выверенную последовательность событий в хаос, из которого память выхватывает самое неожиданное, впоследствии и оказывающееся главным.
Птицы, сидящие на подоконнике, рыжая девочка с потрескавшимися губами из соседней палаты, прилипшие ко лбу вспотевшие волосы, кружка с горячим чаем, после которой на столе остается запотевший круг, что вскоре исчезнет, печальное лицо матери. Конечно, Андрей ждал отца, надеялся, что он придет навестить его, как они с сестрой ходили к нему больницу, но отец не пришел (по крайней мере, нет никакой информации об этом визите).
И вот он лежит под деревом на здоровом боку, под который медсестра подложила войлочный валик. Доктор наклоняется к нему и специальной тупоскошенной иглой делает прокол в четвертом-шестом межреберье под одной из подмышечных линий. Стрелка манометра оживает, вздрагивает и начинает повторять сиплый треск вдоха и выдоха. Сестра при этом неотрывно следит за действиями доктора и, убедившись, что пришло время, постепенно откручивает вентиль баллона. Начинает поступать воздух.
Едва шевеля пересохшими губами, Андрей говорит: «Потом наступила оглушительная тишина, и в мои легкие ворвался пахнущий смолой чистый кислород». И сразу же крона высокого дерева начинала шевелиться на ветру, шуметь пожухлой листовой, а откуда-то из-за пологих холмов доносились при этом голоса, лай собак, паровозные гудки и бряканье колокольчиков.
После процедуры поддувания мальчика отвозили в палату, и он засыпал.
Ему снился его отец, который читал молитву: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».
Читал ее громко, настойчиво, словно требовал от Того, к Кому обращался, незамедлительного ответа и скорой помощи – хлеба жаждал, прощения, и избавления от лукавого.
Андрей просыпался в страхе, потому что был абсолютно уверен в том, что с Богом нельзя разговаривать в таком тоне.
Андрей Вознесенский, «Белый свитер»:
«К нам в 9-й «Б» 554-й школы пришел странный новенький: Тарковский Андрей Арсеньевич. Рассеянный. Волос крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за туберкулеза. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Я пару раз видел его ранее во дворе, мы даже однажды играли в футбол, но познакомились мы лишь в школе.
Мы с ним в классе были ближе других. Он жил в деревянном домишке, едва сводя концы с концами, на материнскую зарплату корректора. Его сестра Марина прибегала позировать мне для акварельных портретов – у нее была ренуаровская головка. Из школы нам было по дороге…
Так вот, однажды мы во дворе стукали в одни ворота. Воротами была бетонная стенка. На асфальте стояли лужи. Скучая по проходящей вечности, с нами играл Шка – взрослый лоб, блатной из 3-го корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии.
Его боялись. И постоянно отдавали ему мяч. Около нас остановился чужой бледный мальчик, комплексуя своей авоськой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер, крупной, грубой, наверное, домашней вязки.
«Становись на ворота», – добродушно бросил ему Шка. Фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой».
Играли до наступления темноты, пока белый свитер Андрея, перемазанный дворовой грязью, уже невозможно было различить на фоне бетонной стены брандмауэра. Когда игра закончилась, Андрей взял авоську с обкусанным батоном и побрел домой. Кашлял, прикрывая рот кулаком, и было видно, как бьется в судорогах его спина.
Знал, что дома мать будет его ругать, потому что она отправила его за хлебом, а он исчез на два часа, при этом изорвал и вымазал новый свитер, да и хлеб принес весь какой-то обглоданный. Он огрызался в ответ, хамил, понимая при этом, что виноват, что запросто мог пройти мимо блатного из 3-го корпуса, но не прошел, зачем-то встал на ворота и до исступления, до одури отбивал футбольный мяч, который вылетал из мглистой темноты, как пушечное ядро.
А закончилось все как всегда – мать ушла курить на кухню, закрыв за собой дверь, Марина забилась в угол, не проронив ни единого слова, может быть, даже и заплакала, а он лег на кровать, отвернувшись лицом к стене, и уставился на однообразный орнамент вздувшихся от сырости обоев. Ощущал себя загнанным в какой-то «странный угол чувств», из которого нет выхода, прислушивался к тлеющей внутри боли и обиде до слез на то, что никто не оценил его, как ему казалось, мужского поступка, ведь он не испугался и выстоял на воротах перед блатным по кличке Шка.
Только и оставалось уверять себя в ту минуту, что если бы отец узнал об этом, то наверняка гордился бы им, своим сыном.
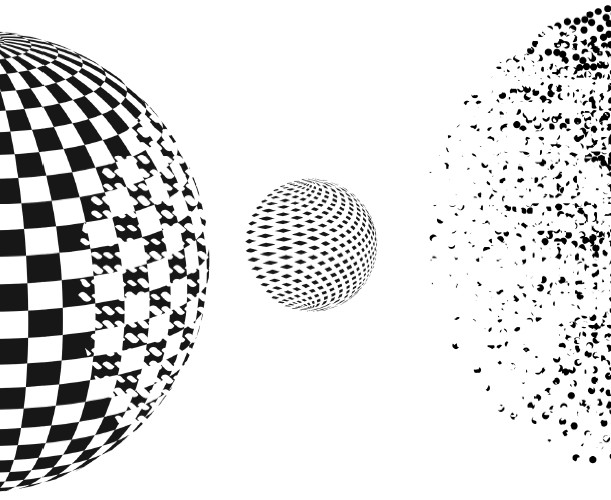
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК