Глава 18 Кукольный дом
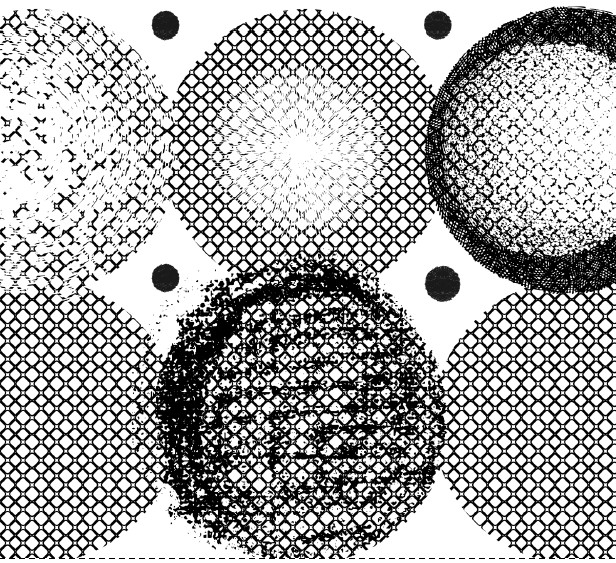
Андрей включает магнитофон, и откуда-то из его пластмассовой глубины начинает звучать голос.
Андрей слушает этот голос и вспоминает Переделкино, вспоминает, как они гуляли с отцом в парке, и отец показывал ему деревянный дом, куда он в 1943 году, еще до ранения, приезжал с фронта, и где они жили – Маруся, Марина, Андрей. А потом его провожали на платформу. Отец тогда нес Марину на руках, а Андрей плакал.
Голос отца звучит как-то надтреснуто, он то нарастает, то затихает, словно блуждает в недрах магнитофона, как и прежде блуждал в недрах двухэтажного корпуса Дома творчества писателей.
Отец читает стихотворение «Эвридика»:
У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей – шрам на шраме,
Надетой на костяк.
Андрей выключает магнитофон и представляет себе, как оно могло бы звучать в кадре.
Наверно, это должна быть лесная река с заболоченными, заросшими ракитой берегами, со стоячей водой, совершенно неподвижная, которая больше напоминает торфяное озеро.
И вдруг неожиданно лес, нависающий над водой, начинает раскачиваться под порывами ветра, а высокая густая трава стелется волнами, как бывает перед штормом на море.
По земле катятся пустые стеклянные стаканы, керосиновая лампа.
Голос отца при этом должен звучать как будто с неба и сопровождаться раскатами грома.
Хотя, нет!
Просто звучит в пустой комнате.
Темень леса и черной торфяной воды оказываются отраженными в зеркале, висящем в старом деревянном доме в коридоре.
Сквозняк раскачивает занавески.
На столе стоит банка с молоком.
В этом доме прошло детство Андрея.
Это может быть Завражье или Тучково, Юрьевец или Малоярославец.
«Не надо было ездить в Юрьевец! Пусть бы он остался в моей памяти прекрасной, счастливой страной, родиной моего детства. Как пусто в душе! Как грустно! Вот я потерял еще одну иллюзию. Может быть, самую важную для сохранения в душе мира и покоя», – напишет в 1973 году Андрей Тарковский.
Впрочем, говорить о мире и покое на душе в ту пору не приходилось.
Уже три года как Андрей в разводе с Ирмой Рауш (от которой у него сын Арсений) и уже три года как он женат на Ларисе Кизиловой (от которой у него сын Андрей).
Взаимоотношения с родителями, и без того не самые простые, категорически не складываются в формате новой семьи. Из дневника Андрея Тарковского: «Вы (сестра Марина. – Прим. авт.) с мамой всегда чего-то от меня хотели, считая, что я сильнее вас, а я, между прочим, был самым слабым в семье, но вы этого не понимали». И еще: «Странно… у меня новая, другая жизнь, а они делают вид, что ничего не замечают. Даже сейчас, когда родился Андрюшка… Достоевщина какая-то…».
Итак, лишь в 1972 году, на свое сорокалетие, Андрей впервые пригласил отца и мать в дом Ларисы Павловны. В дом, который находился в Орлово-Давыдовском переулке и по странному совпадению соседствовал с Ольгинской детской туберкулезной больницей, пациентом которой в 1947–1948 годах был 16-летний Андрей Тарковский.
На юбилее 4 апреля 1972 года присутствовали: Арсений Александрович Тарковский с супругой Татьяной Алексеевной, Мария Ивановна Вишнякова, мать Ларисы Павловны – Анна Семеновна и ее дочь Ольга.
По воспоминаниям участников мероприятия, Андрей находился в крайне возбужденном состоянии. Что-то было в этом собрании в Орлово-Давыдовском переулке от сцены, описанной любимым писателем Марии Ивановны Вишняковой в романе «Идиот», когда князь Мышкин восклицал:
«О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать… а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…».
А потом, как известно, с князем случился эпилептический припадок, потому что он не сумел сказать о счастье больше того, что сказал, и он упал на пол.
Так и Андрей нестерпимо мучился, ведь прекрасно понимал, что пытается сопрячь несопрягаемое, срежиссировать некую идеальную, мифическую семью так, как видит ее он, и так, как он мечтал о ней в детстве. Может быть, поэтому Тарковский стал рассказывать родственникам (и в первую очередь отцу) о своем замысле сделать картину о своем детстве, о семье, о доме, в котором живут близкие ему люди.
Реакция на слова юбиляра была неоднозначной.
Например, Лариса Павловна в восхищении слушала своего мужа, комментируя его рассказ уже давно вошедшим в обиход (по отношению к Андрею) эпитетом – «гениально». Арсений Александрович, напротив, недоумевал, зачем историю семьи (причем, далеко не самой идеальной семьи) делать достоянием общественности, а Мария Ивановна сокрушалась: «Ах, Андрей, все это так нескромно… Дал бы ты нам сначала умереть спокойно».
Спустя годы, когда «Зеркало» уже было снято, мнение отца о замысле, да и о самой картине не изменилось. Так, например, Арсений Александрович не понимал, почему его и Марусю играют «какие-то» актеры.
То есть Тарковский-старший увидел себя на экране таким, каким его видел сын. И это было роковое несовпадение и, скорее всего, разочарование.
Об Арсении Александровиче той поры поэт и переводчик Александр Михайлович Ревич писал: «У него очень сильной была связь с истоками, которую он, к сожалению, потерял в этой жуткой жизни. Он остался один, он остался в разоре и блуждании, потому у него появились дети. Дома он не умел делать, потому что он был сыном, а не отцом. Такая его природа была – сын, а не отец».
Но сын Андрей хотел (это вполне естественно) видеть в нем именно отца (в картине его сыграл Олег Иванович Янковский (1944–2009 гг.), и понимание «связи с истоками» у него было связано в первую очередь с неутоленной жаждой внимания Арсения Александровича. Показательно, что во время своего сорокалетия Андрей апеллировал в первую очередь именно к нему, надеясь на то, что, выстроив диалог с отцом, он сможет выстроить взаимоотношения в этом ибсеновском «кукольном доме» в Орлово-Давыдовском переулке.
Как уже было сказано, разговор с отцом тогда не сложился (Арсений Александрович оказался против замысла «семейного» фильма), а дальше «снежный ком» покатился вниз, сметая все на своем пути – произошла ссора Ларисы Павловны с Татьяной Алексеевной Озерской (по квартирному вопросу), а перед запуском «Зеркала» произошел разрыв Андрея с Вадимом Юсовым, оператором, с которым они начинали и которого Андрей считал своим учителем.
Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Прочитав сценарий «Зеркала», Юсов отказался его снимать. Свой отказ он мотивировал тем, что ему претит с этической точки зрения его откровенная автобиографичность, смущает и раздражает лирическая интонация всего повествования, желание автора говорить только о себе самом… Юсов, конечно, поступил по-своему честно и откровенно – он, видимо, действительно считал мою позицию нескромной. Правда, позднее, когда картина была уже снята другим оператором, Георгием Рербергом (у Тарковского с Рербергом взаимоотношения были крайне напряженными. – Прим. авт.), он как-то признался мне: «Как это ни прискорбно, Андрей, но это твоя лучшая картина». Надеюсь, что это тоже было сказано откровенно. Может быть, именно потому, что я знал Вадима Юсова очень давно, мне следовало бы быть немного хитрее: не открывать ему все свои замыслы до конца с самого начала, а давать ему сценарий кусками… Не знаю… Не умею кривить душой. Не умею быть дипломатом с друзьями».
Действительно умение быть дипломатом и вполне естественное желание автора говорить о себе (в разумных пределах, разумеется) едва ли сопоставимы.
Особенно трудно себе представить нервного, порывистого Андрея Тарковского, который затаился и выжидает, идет на компромиссы, делает «шаг вперед и два шага назад». О взрывном характере брата, проявлявшемся еще в раннем детстве, писала Марина Арсеньевна Тарковская. Он был непримирим и на дворовом футболе, и дома, когда непослушание матери находил естественной реализацией своей свободы, вернее, того, что он называл свободой. И теперь, когда Андрей был кинорежиссером с мировым именем, дипломатично отмалчиваться, хитрить и угождать отдельным «нужным» людям было совершенно немыслимо.
Тем более, что рядом с ним был человек, который восхищался каждым его шагом, жестом, поступком и словом, за которым Андрей Арсеньевич был как за «каменной стеной», – его супруга Лариса Павловна Кизилова.
Лариса Павловна происходила из деревни Авдотьинка Рязанской области, из зажиточной крестьянской семьи. Даже внешне она кардинально отличалась от Тарковских, вернее сказать, от людей круга Тарковских, что буквально бросалось в глаза. Она была эдакая обильная кустодиевская женщина – громкая, решительная, из тех, что не лезет за словом в карман.
Киновед Ольга Суркова так описывала Ларису Павловну: «Лариса любила чистоту, и все вокруг нее было по-купечески взбито-пушистым, каким-то славненьким, почти что таким, как в том домике, куда в «Зеркале» мама с сыном понесли продавать сережки. Мечта голодного детства почти сбылась и воплотилась в сноровисто выскобленных дощатых полах, светлых комнатах, вкусных трапезах в обширном уютном доме… А вот по деревне, особенно с гостями, Лариса разгуливала прямо-таки в образе своей неплохо обустроенной героини фильма: все более по-хозяйски, точно снисходительная барыня среди крепостных… Помню ее горделивую осанку и соответствующий разворот головы: «Дядя Коля, как там у вас с яичками, дадите? Курочку резать не собираетесь?» Мне казалось, что на ее интонации должны выскочить и с придыханием, в полпоклона, оповестить: «Как же, как же… Будем вам любезны… натеть…».
Ровно с того момента, когда они познакомились на съемках «Рублева» (Лариса Кизилова была помощником режиссера), Андрей стал смыслом ее жизни. Порой ее внимание и опека были назойливыми, даже грубыми, это признавали многие, но, совершенно полагаясь на них (внимание и опеку), Тарковский успокоился, растворился в них, находя такое положение вещей естественным и правильным. Впоследствии Андрей заметит: «Мне трудно представить себе внутренний мир женщины, но мне кажется, что он должен быть связан с миром мужчины. Если мир женщины отделен от мира мужчины – это значит, что между ними нет ничего общего».
Вспоминая слова Тарковского о том, что он самый слабый в женской семье, а также о том, что мать и сестра не понимают его, можно предположить, почему теперь он требует от женщины подчинения. Именно этим, думается, можно объяснить скрытый упрек матери, который звучит в «Зеркале», в том, что она не смогла удержать отца, не захотела принести себя ему в жертву, оставив тем самым детей (сына) без отца.
На примере Ларисы Павловны Андрей видел прямо противоположное – готовность помогать во всем, обеспечивать его быт, истинную (как казалось Тарковскому) жертвенность, которой он всегда восхищался и на которую не был способен сам.
Однако надо понимать, что женщина проявляет качества своего характера в зависимости от отношения к ней, усваивая жизненные обстоятельства и условия быта много изобретательней и оперативней, нежели мужчина. На ласку она отвечает лаской, на грубость – грубостью, на давление – скрытым давлением, потому как женский инстинкт самосохранения много глубже, чем мужской, ведь она мать. В психологии эта схема хорошо известна – угнетая другого, сам попадаешь в зависимость.
Именно на этом душевном и духовном сломе Андрей Тарковский и приступил к съемкам «Зеркала».
Из книги Марины Тарковской «Осколки зеркала»: «…(душа Андрея) продолжала страдать и мучиться оттого, что после неравной борьбы он предал дорогой мир близких ему людей. Встретившись со своей будущей женой, он оказался один на один с другим миром – миром увлекательных психологических поединков и темных страстей, совсем по Достоевскому. И никто ему не помог в этом неравном поединке, как никто не помог папе в подобной ситуации в 1947 году. Да Андрей и отказался бы от любой помощи. Доверяя лишь своему собственному опыту, он повторил папин путь. Смирившись с неизбежностью, а может быть, полюбив эту неизбежность, он поверил в возможность семейного счастья и построил дом, который развалился под ветром его судьбы».
Похожесть на отца была очевидной, надо полагать, и самому Андрею. Это угнетало, потому что он, как мы помним, всю жизнь стремился изжить в себе определенные качества Арсения Александровича, но получалось наоборот, чем он более отрицал их, тем они крепче въедались в его стиль, в его образ жизни, в его миросозерцание.
Находясь теперь под постоянным присмотром Ларисы Павловны, которая за него «перетирала его камни», он ощущал себя сыном (хотя был отцом двух мальчиков), как и его отец, которого решительно и бескомпромиссно опекала Татьяна Александровна Озерская. Он, как и его отец, не мог и шага ступить без своей жены, причем, в прямом смысле этого слова. Например, если Лариса Павловна уезжала со съемочной площадки, то съемка (так было на «Зеркале») останавливалась. Андрей впадал в депрессию, чувствовал себя совершенно беспомощным, презирал себя за это слабоволие, за эту роковую зависимость, но ничего не мог с собой поделать.
Или не хотел…
Уже покинув СССР, на вопрос американского журналиста «Откуда вы черпаете свою духовную силу? Где ваши корни?», Тарковский ответит: «Мои корни в том, что я не люблю сам себя, что я себе очень не нравлюсь».
Теперь мы понимаем, что в этом не было жеманства, хотя амбиции и самомнение режиссера были хорошо известны всем. В этом он отличался от отца, став в определенном смысле пародией на страдающего одинокого поэта, безропотно переводящего с азербайджанского поэму Расула Ибрагима оглы Рзаева «Ленин» или с трепетом ожидающего выхода своей первой поэтической книги, когда его сын только что вернулся из Венеции, увенчанный всеми возможными кинематографическими лаврами.
Нелюбовь к самому себе тоже, как представляется, имеет оборотную сторону. А именно: в поисках духовной силы, вдохновения, корней (о чем идет речь в интервью) художник пытается вычерпать до дна свое несовершенство, парадоксальным образом испытывая при этом удовольствие от этого болезненного и унизительного для самого себя самокопания. Но самое главное, что в этом творческом экзорцизме не находится места любви к тем, кто тебя окружает. Болезненные ощущения порождают надменность, холодность, резкость, склонность к препарированию страдания в той надежде, что зритель, заглянув в этот бездонный колодец (например, в колодец из «Иванова детства»), что-то поймет в высказывании художника или, что более вероятно, безропотно ужаснется собственному скудоумию и несовершенству.
Иной вид диалога со зрителем, актером, сценаристом или оператором Тарковскому был элементарно неинтересен.
Например, в 1982 году, после смерти Анатолия Солоницына, Андрей неожиданно сказал: «Солоницын строил свою жизнь в неуважении к своему таланту. В жизни играл какого-то придурка. Вел этакий безответственный образ жизни. Художникам так нельзя! Нужно осознавать свою миссию».
И это было сказано о человеке, который боготворил его как режиссера и художника и которого он сам называл своим любимым актером.
Стало быть, нет ничего, кроме миссии, высокого предназначения, в жертву которому принесено все (много лет назад подобный обряд жертвоприношения совершил и Арсений Александрович Тарковский).
Итак, ощущение собственного мессианства является единственной возможностью слушать только себя, свой талант и не слышать доносящиеся откуда-то, из худсоветовской преисподней, голоса.
Например, такие.
Марлен Хуциев: «Он безумец. Своими фильмами он делает себе рекламу. Он высокомерен. Все, что он делает, советскому народу без пользы. Он работает на трансценденцию. Совершенно слабоумен. Поэтому все у него такое выспреннее, ходульное. Все только тени, никаких характеров. Риторические фразы, декларации в устах изнасилованных актеров. Псевдофилософия. Те, кто в него верят, должны были призвать его к порядку, поставить его на место».
Наступает полная тишина.
Все ждут, что в ответ скажет Тарковский.
Он медленно встает.
Он бледен.
Какое-то время он молчит, но вдруг произносит резко и громко:
– Я ничего не понял из сегодняшнего разговора, кроме того, что самое дорогое в этой работе не понято никем.
Да, теперь они редко видятся.
Разве что во снах: «Мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева: то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова».
Андрей перестает слушать магнитофон, потому что уже наизусть выучил всю речь отца, и нет никакой надежды услышать в ней что-то новое.
Он все знает.
Он помнит все его рассказы, повторенные сотни, если не тысячи раз.
Он уже не знает наверняка, с кем это произошло – с ним или с его отцом, до такой степени это стало частью его сознания (подсознания?).
О том, что отец болеет, он узнает не потому, что часто звонит ему или приезжает в гости, а потому, что болеет сам.
Андрей же объясняет себе это сумеречное состояние необычайно тяжелой работой над «Зеркалом» (а потом еще более тяжелой ситуацией на площадке «Сталкера»). Причем, как на стадии съемок, так и на стадии монтажа.
Из воспоминаний кинооператора Георгия Ивановича Рерберга (1932–1999 гг.):
«В данном фильме («Зеркало». – Прим. авт.) нам важно добиться субъективного взгляда на мир, передать ощущение того, что видел в детстве, юности, видел недавно, вижу теперь… Наши взгляды – то есть мой и Андрея – должны совместиться и стать единым и субъективным авторским взглядом. Задача непростая. Поэтому чем дальше, тем труднее работать: мы все меньше радуемся. Нам нужно получить в изображении точный эквивалент ощущений, которые должны быть выражены скупо, без сантиментов… Если сравнивать Тарковского с режиссерами, с которыми мне приходилось работать раньше, он мне кажется наиболее серьезным в своем подходе к проблемам, от идеи произведения и до самых мелких деталей, ее реализующих».
Порой кажется, что этот поиск зашел в тупик, и режиссер признается в том, что уже сам запутался и не знает, что делать дальше – переписывать сценарий, переснимать сцену, перемонтировать уже готовый материал, брать других актеров.
Алла Демидова утверждала, что все актеры Тарковского в той или иной степени должны были играть его самого, но так как режиссер «всегда нервничал и до конца никогда ничего не объяснял», сделать это было очень трудно, а порой так и просто невозможно.
Но мог ли Андрей объяснить самому себе, что с ним происходит?
Создавая «иллюзию самоощущения демиурга» (слова Тарковского), режиссер априори соглашается с тем, что иллюзия выше реальности, что мир, созданный творческим воображением художника, и является основным предметом искусства. С другой же стороны, искусство невозможно препарировать, нельзя на пальцах объяснить подсознательное и таинственное, следовательно, речь идет об интонациях, неуловимых токах, которые воспринимаются (актерами, художниками, сценаристами, зрителями) или нет.
Уже работая на «Сталкере», Тарковский пришел к убеждению, что «нет».
Не воспринимаются, не считываются, не понимаются в полной мере.
Тогда, в конце 70-х, много думал о потустороннем, о недоступном опытному познанию, о том, что у Дионисия Ареопагита, ученика святого Апостола Павла, называется апофатическим, то есть отрицающим все доступные смертному человечеству определения Божественного. Бог – непостижим, немыслим, невидим, безгрешен, бессмертен, бесконечен.
Однако при этом не считал себя человеком религиозным, даже был склонен к атеистическим эскападам, зная лишь одного творца – себя.
До глубокой ночи, а то и до утра засиживался в монтажной «Мосфильма», вновь и вновь складывая эпизоды «Сталкера», находя получившуюся сборку хорошей, потом удовлетворительной, наконец, неудовлетворительной находя ее. Искал логику в переходе от эпизода к эпизоду, от склейки к склейке, от крупности к крупности. Но в то же время приходил к убеждению в том, что поиск этой логики противоречит самому замыслу картины, которая должна рождаться на подсознательном уровне, потому как описать чувственное невозможно, неправильно, соблюдая лишь примитивную арифметику схем и правил, следуя за буквой сценария.
И тогда все вновь рассыпалось.
И тогда приходилось все вновь начинать сначала, выискивая в километрах пленочного материала отправную точку, первый такт звучания, который слышен только ему.
Впрочем, нет.
Есть один человек, который (и вопреки всему Андрей верит в это) слышит этот первый такт звучания.
Это отец.
Вот он сидит в полудреме, а на его коленях лежит книга, на титульном листе которой написано Герман Йозеф Клейн «Астрономические вечера. Astronomische Abende».
Отец очень устал.
Он всегда повторял, что очень устал от самого себя.
Периодически он открывает глаза, и может показаться, что он прислушивается к чему-то, едва улыбается, потому что, конечно, узнает это вихляющее патефонное исполнение «Девушки из Мадрида» Толчарда Эванса, столько раз слышанное им на Щипке.
1988 год.
Из воспоминаний Александра Кривомазова: «Приехал в Матвеевское. Меня узнает в лицо вахтерша и говорит: «Арсений Александрович в парке на скамейке…»
Иду в парк и нахожу его на залитой нежарким осенним солнцем голубой скамье. У него страшно одинокий, запущенный вид. Вокруг него несколько пустых скамеек. А подальше – все скамейки заняты, на них обитатели Дома ветеранов кино сидят на солнышке втроем, вчетвером, впятером… Видно, они побаиваются общения с ним, считают его доходягой… а может быть, им просто страшно смотреть в его глаза?.. Он в сером плащике и синем берете, костыли лежат рядом, смотрит слезящимися глазами равнодушно и рассеянно. (Горничная довела, посадила, ушла… он сидит – и ничего не видит…).
– У меня к вам есть… своя просьба… легкая… пообещайте исполнить…
– О чем говорим, Арсений Александрович? Если в моих силах, обязательно исполню!
– Я могу умереть теперь в любой день… Саша… так трудно… Сашенька… должен вам сказать…. это так важно для меня… Вы должны понять… У нас же дружба!.. Вы еще так молоды… Бывайте у меня на могиле, Сашенька!.. Хоть изредка, но бывайте, не забывайте… Я сейчас несчастный, больной, одинокий старик… Я чувствую… я задержался… не знаю, зачем… Я знаю… я буду – камень на могиле… Приедете, коснитесь камня, поцелуйте его – мне от этого будет великое облегчение. В любой мороз… мой камень… для моего друга… будет теплым… А если после вашей смерти вы превратитесь в птицу – прилетайте… потрите клювом о камень… и я вас пойму правильно! Так обещайте же!
– Обещаю, Арсений Александрович! Буду приходить, приезжать… прилетать… буду гладить и целовать ваш камень… Пока жив – вы всегда во мне, всегда живы, всегда буду вас любить и помнить… Мы же настоящие друзья – мы будем вместе всегда…
Сижу рядом с ним, держу его ладони в своих… Осмелевшие старики занимают близкие скамейки, изредка тревожно посматривая на нас. Он не отнимает ладони, сурово и хмуро смотрит вперед, думая о своем… Что он видит сейчас? Телегу Мертвых? Белые слепые глаза Смерти? Свои похороны? Камень на могиле и наши встречи? Свою жизнь? Свои стихи? Цветаеву? Заболоцкого? Ахматову? Лежащую в постели больную Татьяну Алексеевну? Своего гениального сына? Дочь? Внуков? Кого-то из своих врагов? Войну? Отнятую у него библиотеку и пластинки? Свою обожаемую мать? Своего отца? Украину? Туркменистан? Грузию? Дагестан? Свою первую любовь? Свою первую жену? Фильмы Андрея? Своих старых друзей-поэтов? Кого-то неизвестного мне? Город, в котором он родился и в котором прошло его детство? Свои несчастья? Свое одиночество?»
Хотя, нет, Андрей никогда не любил эту легкомысленную вещицу Толчарда Эванса.
В его доме всегда звучала другая музыка.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК