Глава 15 Иди и смотри
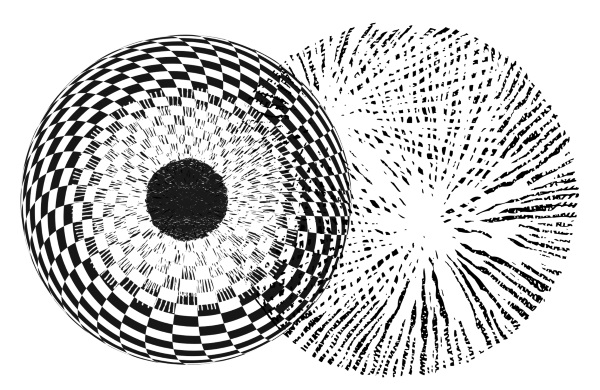
Всадники спешиваются и отпускают лошадей.
Лошади бредут вдоль воды и пьют ее.
На берегу рассыпаны яблоки.
Кто эти всадники – неизвестно.
Вернее, можно догадаться, но в это верится с трудом.
Дело в том, что их уже на протяжении не одной сотни лет изображают несущимися по земле и сеющими смерть, а здесь они почему-то спешились.
У одного из них в руке меч, у другого весы, у третьего коса, а у четвертого снаряженный арбалет, который еще в Средние века был признан варварским оружием.
Лица всадников измождены, они устали от бесконечной погони, но у них нет другого выбора.
Мальчик пристально рассматривает одно из их изображений, сделанных Альбрехтом Дюрером из Нюрнберга в 1498 году, и глаза его наполняются ненавистью, потому что он узнал их, это всадники Апокалипсиса.
Его губы искривляет улыбка, увидев которую на закрытом просмотре «Иванова детства» в Москве, французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр воскликнул: «Безумие? Реальность? И то, и другое: на войне все солдаты безумны; этот ребенок-чудовище является объективным свидетельством их безумия, потому что он самый безумный из них. Так что речи нет тут ни об экспрессионизме, ни о символизме, но лишь о манере рассказывать, востребованной самим сюжетом… война убивает тех, кто ее ведет, даже если они выживают. И в еще более глубоком смысле: история одной и той же волной вызывает своих героев к жизни, творит их и разрушает, лишая их способности жить, не испытывая страданий в обществе, которое они помогли сохранить… Истина заключается в том, что для этого ребенка весь мир становится галлюцинацией, и даже сам он, чудовище и мученик, является в этом мире галлюцинацией для других».
Действительно, все происходит как во сне.
Лошади пьют воду из реки и едят разбросанные по берегу яблоки.
Здесь на излучине стоит огромное, разбитое молнией дерево.
Всадники отдыхают под ним.
Если уж один раз молния ударила в дерево, то в другой раз точно не ударит в него, это как авиационная бомба, которая дважды не падает в одну воронку.
Другое дело, что на дереве нет листвы, а потому и нет тени.
Из открытых ртов всадников исходит смрад.
Они мучимы жаждой.
И сказано в Главе 6 «Откровения Иоанна Богослова»:
1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
5 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
6 И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
Мальчик, тот самый, что рассматривал гравюру Альбрехта Дюрера из Нюрнберга, теперь вместе с мамой идет по берегу реки.
Вернее сказать, идет мать, а он носится по от– мели, кричит, смеется, прячется в прибрежных зарослях.
– Что с тобой, Иван? – мать останавливается и прикрывает ладонью глаза от палящего солнца.
– Ничего, ничего, мама, просто нервенность во мне какая, – звучит в ответ.
Наконец мать и сын подходят к колодцу, расположенному в пойме реки.
Заглядывают в него.
Там, в глубине, мерцает матовая, напоминающая холодец звезда, которую даже можно потрогать руками, если спуститься вниз, в преисподнюю.
Мать вращает рукоятку барабана и вытаскивает из колодца ведро ледяной прозрачной воды.
Иван пьет эту воду и смеется.
Сидящие под мертвым деревом всадники Апокалипсиса наблюдают за мальчиком и завидуют ему, потому что нет такого количества воды, которое утолило бы их жажду.
Губы их потрескались и покрылись соляной коркой.
Мария Ивановна открыла книгу и прочитала с выражением:
«– Послушайте, господин Лебедев, правду про вас говорят, что вы Апокалипсис толкуете? – спросила Аглая.
– Истинная правда… пятнадцатый год.
– Я о вас слышала. О вас и в газетах печатали, кажется?
– Нет, это о другом толкователе, о другом-с, и тот помер, а я за него остался, – вне себя от радости проговорил Лебедев.
– Сделайте одолжение, растолкуйте мне когда-нибудь на днях, по соседству. Я ничего не понимаю в Апокалипсисе.
– Не могу не предупредить вас, Аглая Ивановна, что все это с его стороны одно шарлатанство, поверьте, – быстро ввернул вдруг генерал Иволгин, ждавший точно на иголочках и желавший изо всех сил как-нибудь начать разговор; он уселся рядом с Аглаей Ивановной, – конечно, дача имеет свои права, – продолжал он, – и свои удовольствия, и прием такого необычайного интруса для толкования Апокалипсиса есть затея как и другая, и даже затея замечательная по уму, но я… Вы, кажется, смотрите на меня с удивлением? Генерал Иволгин, имею честь рекомендоваться. Я вас на руках носил, Аглая Ивановна».
Мать отложила книгу, подошла к окну, открыла его, села на подоконник, закурила и подумала о том, что давно не видела Андрея, хотя это и понятно, ведь он уже взрослый, у него своя семья, он много работает.
Какое-то время Мария Ивановна жила в Бирюлево, а потом, после убийства шкафа, переехала в Теплый Стан: и там, и здесь одни типовые панельные девятиэтажки, и кажется, что жизнь на Щипке проходила в каком-то другом, далеком городе.
Она возвращается к столу, берет книгу, но уже не находит в себе сил читать ее вслух. Нет, конечно, она любит Достоевского, особенно его «Подростка», «Идиота» и «Бесов», но сейчас почему-то чувствует смертельную усталость.
Захлопнув книгу, она идет в комнату, ложится на кровать и отворачивается лицом к стене, на которой висит репродукция портрета Джиневры д›Америго де Бенчи.
Мария Ивановна закрывает глаза и улыбается сама себе, потому что вчера звонил Арсений и долго рассказывал, как трудно ему живется, потому что Таня совершенно не понимает его, а она слушала его, жалела и думала о том, что это и есть ее жизнь, которая годами собиралась из разрозненных, взаимоисключающих событий, получувств, из совершенной дисгармонии и непрестанного напряжения, когда очередной прожитый день вызывал радость тем, что он наконец завершился, что он преодолен.
Наверное, Андрей понимал это…
По крайней мере в интервью 1967 года он косвенно коснулся этой темы: «Целое рождается из соединения противоречивых явлений и гармоний. Жизнь рождается из дисгармонии. И, в свою очередь, из раздробленности жизни создается нечто гармоническое, заключающее в себе существование борющихся явлений… Когда мир расколот войной, вдруг появляется надежда на счастье, на изменение времени… У меня одна проблема – преодоление. Мне трудно говорить о том, какова моя тема, но основная, которую хотел бы постоянно разрабатывать, это умение преодолеть самого себя, не вступить в конфликт с природой, гармонией. Но все это только в том случае, если человек находится в постоянной дисгармонии со средой. Преодолев эту дисгармонию, можно прийти к осмыслению жизни не через созерцательность, а через страдание».
Страдание, насилие над собой в смысле преодоления самого себя – темы, уже в «Ивановом детстве» ставшие для Тарковского ключевыми именно в творчестве. Последняя оговорка тут принципиальная, потому как в жизни терпеть страдание, заниматься самокопаниями и рефлексировать Андрей приучил себя с детства. Однако, с другой стороны, декларируемый аскетизм входил в глубокое и драматическое противоречие со свободным самовыражением художника, который в принципе не терпит никаких рамок и никаких ограничений.
Так, после триумфа в Венеции Андрей (и без того человек с изрядным самомнением) вел себя не то что предельно, но запредельно раскрепощенно.
Из письма Арсения Тарковского киноведу, другу семьи Ростиславу Юреневу: «Значит, тебе понравилось, что натворил мой мальчик? Да и мне, не скрою, понравилось. Только боюсь, как бы ему не вышел боком этот лев (главная награда Венецианского кинофестиваля. – Прим. авт.), не оказался бы змием или драконом. Да и не загордился бы Андрей. Впрочем, ты знаешь, как меня всю жизнь это самое «признание» обходило… так пусть хоть ему».
Александр Гордон и художник-постановщик Шавкат Абдусаламов рассказывали о том, что с классиками советского кинематографа Тарковский держался надменно и отчужденно, а с ровесниками высокомерно. Правда, во втором случае резкие замечания и дружеские шутки довольно быстро возвращали Андрея на землю.
Конечно, он загордился, конечно, он метался, страдал от этих метаний, но при этом находил в них какое-то особенное удовольствие, доступное только ему, как герой Достоевского, что надрывается в восхищении самим собой, совершенно зная свои дурные стороны и втайне ненавидя себя.
Николай Трофимович Гибу, кинорежиссер, знавший Тарковского еще по ВГИКу, вспоминал: «В общении (с Андреем. – Прим. авт.) ощущалась какая-то молодецкая небрежность. Скорее всего, из-за возраста, веры и неверия в светлое будущее. Это потом мы страдаем, пройдя через пороги бесправия, множество унижений. Тогда и познаем мы цену и нежность этих случайных встреч и безвозвратность».
Случайные встречи: медсестра и солдат («Иваново детство»), Кирилл и Андрей («Андрей Рублев»), мать и прохожий («Зеркало») – как реализация случайности как таковой, ее неповторимости, безвозвратности и есть очевидное воплощение веры и неверия. Веры в то, что все предопределено, неверия в свои силы и правильность своего выбора.
Неверие повергает человека в грех уныния и, по слову Святителя Афанасия Великого, вызывает «дух лености», а по слову святого Псалмопевца Давида навлекает и «беса полуденного». Вера же возвышает, потому что она подобна любви, которая «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (Первое послание к Коринфянам святого Апостола Павла, глава 13).
Сидящие под мертвым деревом всадники Апокалипсиса наблюдают за мальчиком и завидуют ему, потому что нет такого количества любви, которое утолило бы их одиночество.
Губы их потрескались и покрылись соляной коркой, а их сердца уже давно окаменели.
Мать и сын видят, как над сгоревшим деревом поднимается «бес полуденный». Так называется знойный ветер, который иссушает и без того сухой и растрескавшийся ствол, поднимает тучи песка и сыплет его в открытые рты всадников Апокалипсиса.
Когда эпизод снят, то дерево выкапывают из земли, и оно с грохотом падает в воду.
Как дерево с подмытого обрыва,
Разбрызгивая землю над собой,
Обрушивается корнями вверх,
И быстрина перебирает ветви,
Так мой двойник по быстрине иной
Из будущего в прошлое уходит.
Вослед себе я с высоты смотрю
И за сердце хватаюсь. Кто мне дал
Трепещущие ветви, мощный ствол
И слабые, беспомощные корни?
Тлетворна смерть, но жизнь еще тлетворней,
И необуздан жизни произвол.
Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!
Еще горит полнеба за спиною.
Нет больше связи меж тобой и мною.
Спи, жизнелюбец! Руки на груди
Сложи и спи!
Эти строки из стихотворения «После войны» увидели свет в 1962 году в книге «Перед снегом», вышедшей в издательстве «Советский писатель».
Автор книги – Арсений Александрович Тарковский. Тираж по меркам советской книжной индустрии более чем скромный – шесть тысяч экземпляров.
Тарковский смущен, он не верит в то, что это наконец свершилось, ведь еще свежи воспоминания о первом сборнике 1946 года, который после долгих мытарств так и не увидел свет.
А ведь прошло уже 16 лет с тех пор.
Много это или мало? Ответ на данный вопрос зависит от того, как понимать течение времени, если оно вообще движется.
Если оно вообще есть…
В стихотворении 1958 года «Посредине мира» Арсений Тарковский размышляет над этим:
Я человек, я посредине мира,
За мною – мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующие море,
Два космоса соединивший мост.
Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядщуих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь.
Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И – Боже мой! – какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.
Часы и календарь – это всего лишь дань условности, фикция. Ведь если завод часов иссякнет, то и стрелки остановятся, а перечисление цифр до 28 или 29, до 30 или 31 – чистой воды арифметика, не имеющая к вечности никакого отношения, потому что вечность неуловима, а цифры черствы.
Конечно, тут вспоминаются слова Сталкера: «Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит».
В обнимку с молодостью, второпях
Чурался я отцовского наследия
И не приметил, как в моих стихах
Свила гнездо Эсхилова трагедия.
Из статьи Сергея Чупринина «Арсений Тарковский: путь в мир»: «Это – Тарковский. Это – его характерные интонации, им возведенный, незримый, но прочный мост к традиции ломоносовского, державинского века, его взгляд на мироздание. Это – его движение стиха, своей мерной, одической поступью напоминающее поступь древних, блещущих металлом ратей… Отношения, складывающиеся между поэтом и миром в лирике Арсения Тарковского, справедливо было бы – помня всю условность метафоры – назвать «средневековыми». Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина, Прекрасной дамы рыцарских легенд и странствующего менестреля. Ни о какой взаимности, ни о каком равноправии и речи быть не может: слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы».
В противном случае поэт молчит и наблюдает из своего удела.
Кстати, об этом удивительном качестве Арсения Александровича рассказывал Андрей Битов. Например, Тарковский любил подолгу смотреть на людей, играющих в шахматы или на бильярде, причем делать это не безучастно, а с большим внутренним интересом, даже напряжением, словно он сопереживал происходящему, будто хотел проникнуть внутрь чужих страстей, оставляя собственные на потом. Он ни в коем случае не лез с советами (как порой бывает в подобной ситуации), вел себя отстраненно, полностью погружался в себя и мог находиться в таком состоянии часами.
Значит, поэт существует вне игры и яви, вне сюжета и контекста, вне времени и пространства, когда на смену Средневековью приходит Великая Отечественная война, на смену Античности – 20-е годы ХХ столетия, а на смену послевоенной Москве – эпоха Нестора-летописца и Андрея Рублева.
В ноябре 1964 года на киностудии «Мосфильм» режиссер-постановщик II категории Андрей Тарковский запустился с картиной «Андрей Рублев».
История эта началась (придумывание фильма о великом русском иконописце и его времени) в 1962 году, когда к Тарковскому и Андрону Кончаловскому пришел актер Василий Ливанов и предложил сделать фильм о Рублеве (с собой в главной роли, разумеется). Над предложением посмеялись, уж больно экзотично оно выглядело в те годы, но при более детальном анализе данной идеи пришли к выводу, что не так уж все и несбыточно.
Написали заявку в Госкино – «Биография Рублева – сплошная загадка. Мы не хотим разгадывать тайну его судьбы. Мы хотим глазами поэта увидеть то прекрасное и трудное время, когда становился и креп, расправляя плечи, великий русский народ». Неожиданно пришел доброжелательный ответ. «Неповторимое своеобразие, свобода самовыражения, исповедничество, раскрытие заветного, волнующего душу, а не «темплан» – был в советской киноиндустрии и такой подход к финансированию авторских картин, так или иначе лежащих в русле государственного заказа.
Если учесть, что в 60-х годах интерес к русской средневековой истории и особенно к древнерусскому искусству был достаточно высок, то положительный ответ чиновников Госкино выглядит вполне закономерным. Опять же, заявители были в мире кино людьми уже известными, творчески одаренными, да и семейные связи А.С. Кончаловского, думается, пришлись ко двору.
Итак, писать сценарий уехали на дачу к Михалковым на Николину гору.
Андрон Кончаловский вспоминал: «Сценарий мы писали долго, упоенно, с полгода ушло только на изучение материала. Читали книги по истории, по быту, по ремеслам Древней Руси, старались понять, какая тогда была жизнь, – все открывать приходилось с нуля. Сценарий «Андрея Рублева», возможно, был талантливым, буйным, исполненным полета воображения, но он был непрофессиональным. Он не влезал ни в какие параметры драматургической формы. В нем было двести пятьдесят страниц, которые при нормальной, принятой для съемок записи превратились бы в добрых четыреста. Когда Андрей начал снимать, метраж пополз, как тесто из квашни. Он позвонил мне в ужасе: «Не знаю, что делать. Все разрастается. Давай что-то сокращать». И мы стали рубить сценарий нещадно: из него целиком вылетела сцена чумы и многое другое. Потому что по сути это был не сценарий, а поэма о Рублеве. Я не говорю, что выдающаяся картина обязательно должна иметь в основе точный, завершенный сценарий – иногда она делается вопреки ему. Просто когда то, что должно быть сделано на сценарной стадии, доделывается во время съемок, это обходится гораздо большей кровью, нервами, деньгами».
Следовательно, слова «мы хотим глазами поэта увидеть…», прозвучавшие в по сути в типовой заявке на фильм для Госкино, не стали просто словами. Скорее всего, на них даже и не обратили особого внимания, не придали значения, мол, фигура речи (может быть, это и к лучшему), а напрасно – для Андрея это был ключ к картине. Образность живого слова как отправная точка в работе над изображением и ритмом.
Например, известно, что роль Андрея Рублева писалась под московского поэта Сергея Чудакова (1937–1997 гг.) – пациента психиатрических больниц и автора самиздатовского журнала «Синтаксис» (в результате Рублева, как мы помним, блестяще сыграл Александр Солоницын).
Иначе была бы другая интонация, вот хотя бы такая:
Когда я заперт в нервной клинике
когда я связан и избит
меня какой-то мастер в критике
то восхваляет то язвит.
Направо стиль налево образы
сюда сравненье там контраст.
О Боже как мы все обобраны!
Никто сегодня не подаст.
И еще один пример того, что слова о поэтическом взгляде у Тарковского были не только данью стихосложению как неотъемлемой части его непростых взаимоотношений с отцом-поэтом, но и естественным способом самовыражения на большом экране.
«Андрея Рублева» открывает эпизод с летающим мужиком Ефимом, который несется на воздушном шаре мимо храма Покрова на Нерли. Роль Ефима сыграл другой московский поэт (его называли «Арбатский поэт»), тоже автор «Синтаксиса» Николай Глазков (1919–1979 гг.)
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней…
…Потом Ефим, конечно, падает и разбивается насмерть.
Мы не знаем, как реагировал Арсений Тарковский на современную ему русскую андеграундную поэзию и самиздатовских авторов, но бесспорно другое. В понимании его сына – поэт – этот «певец вершин», выглядит совершенно иначе: он постоянно пьян, безумен, нищ (в прямом смысле этого слова), у него нет дома, его сочинения записываются на клочках бумаги и папиросных пачках, он не знает таких слов, как «издательство», «гонорар» и «Переделкино», он погибает нелепо и страшно, потому что замерз, утонул, повесился, он без вести пропавший, но свободный скоморох.
Эпизод «Скоморох» из сценария фильма «Андрей Рублев, вошедший в окончательный вариант картины:
«Лето 1400 года.
Гремит гром, небо становится сумрачным, ливень барабанит по спинам путников. Подобрав набрякшие полы ряс, они бегут в сторону деревеньки, смутно виднеющейся сквозь плотную пелену дождя.
У крайней избы – пристройка, с плотно убитым глиняным полом и стеной, увешанной сбруей, косами и граблями.
У стены, прямо на сене и на занавоженной лавке, сидят несколько мужиков. На полу ведро с брагой и ковш. Мужики громко смеются, кричат, а по сараю мечется щуплый человечек с большой головой и, резко ударяя в бубен, пронзительным голосом поет песню про боярина, которому сбрили бороду, и о том, как жалко ему несчастного боярина, ставшего похожим на бабу и вынужденного от стыда прятаться по задам.
Темп песни нарастает, слова ее поначалу превращаются в скороговорку, а потом и вовсе теряют смысл и звучат, как наговор, но мужики не могут удержаться от хохота, потому что скоморох так смешно выпячивает живот и делает такие уморительные рожи, что смысл песни ясен и без слов… Вот скоморох переходит на истерический шепоток и напряженное позвякивание бубном, свистнув, вскакивает, стягивает штаны под гомерический хохот невменяемых зрителей и показывает всем свой худой белый зад. Это кульминация… но вдруг он вздрагивает и падает на землю. Испуганно глядя на стоящих у входа иноков, он тяжело дышит».
Для Тарковского это и есть извечное столкновение свободы от всего и свободы ради всего – скоморох и монах долго и пристально смотрят друг другу в глаза, и первый отводит взгляд.
В кадре звучит странная заунывная музыка, которую и музыкой-то назвать невозможно: шум льющейся воды, бормотание мужиков, завывание баб, несвязные вопли пьяных, дерущихся в грязи под дождем, блеяние стоящих в закуте овец.
И это уже потом за скоморохом придут дружинники, разломают его гусли, а самого его выведут на улицу, ударят об одиноко стоящее во дворе дерево и увезут окровавленного.
А пока едва звучит эта музыка, сквозь которую можно услышать голоса птиц, потому что затихает дождь, и монахи смогут продолжить свой путь.
Но ведь это музыкальное произведение (пусть и такое незатейливое, даже убогое) может быть сыграно по-разному, стало быть, оно может длиться разное время, замедляя или, напротив, ускоряя сцену.
Читаем в книге Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Время в этом случае становится лишь условием причины и следствия, располагающихся в определенном заданном порядке, – оно носит в этом случае абстрактно-философский характер. Кинематографу же удается зафиксировать время в его внешних, эмоционально постигаемых предметах. И тогда время в кинематографе становится основой основ, подобно тому как в музыке такой основой выступает звук, в живописи – цвет, в драме – характер.
Итак! Ритм – не есть метрическое чередование кусков, а ритм слагается из временного напора внутри кадров. По моему глубокому убеждению, именно РИТМ – является главным формообразующим элементом в кинематографе, а не монтаж кадров, как это принято считать… Ритм в кино передается через видимую, фиксируемую жизнь предмета в кадре. Так, по вздрагиванию камыша можно определить характер течения реки, его напор. Точно так же о движении времени сообщает сам жизненный процесс, его текучесть, воспроизведенная в кадре… через ощущение времени, через ритм режиссер проявляет свою индивидуальность».
Наконец дождь закончился.
Андрей выходит из пристройки, где только что неистовствовал скоморох.
Делает первые шаги по двору, скользит по липкой грязи.
Чуть не падает.
Мы видим, как он идет через поле, заходит в лес.
Он идет и молчит, идет и смотрит.
Вот только о каком Андрее мы говорим сейчас?
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК