Глава 12 Повторение пути
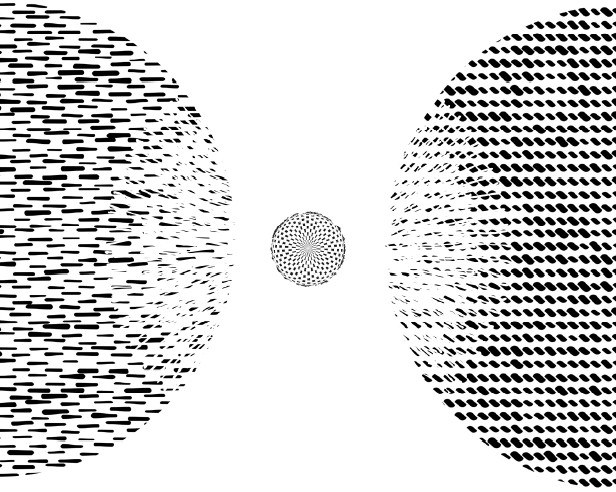
Июньский день 1954 года. Уже знакомый нам молодой человек в желтом пиджаке и узких черных брюках выходит в центр аудитории. В его манере читается сдержанная сосредоточенность, кажется, что он обдумывает каждое произнесенное слово, наполняет его смыслом и собственным переживанием. «Отрывок из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», – громко сообщает он, стараясь не смотреть на приемную комиссию, что занимает составленные в ряд вдоль окон столы, и после непродолжительного молчания начинает декламировать, однако уже совсем другим голосом: «Место для поединка было выбрано шагах в 80-ти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в 40-ка друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили, отпечатавшиеся по мокрому, глубокому снегу, следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10-ти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за 40 шагов ничего не было видно. Минуты три все было уже готово, и все-таки медлили начинать…»
Молодой человек смолкает, делая несколько шагов по аудитории, словно примеряясь к картине, которую он разворачивает перед слушателями, к тем событиям, которые должны последовать через мгновение, затем как-то странно улыбается в пустоту и вдруг начинает говорить быстро, почти истерично, срываясь на крик: «Пьер при слове «три» быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно-густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно…»
В аудитории раздаются аплодисменты.
«Хорошо, спасибо, – говорит занимающий место в центре стола невысокий, коренастого сложения лысый человек в очках и что-то записывает в ведомости с «шапкой» Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии. Затем он поднимает взгляд на молодого человека в желтом пиджаке и спрашивает: «А почему вы решили стать режиссером?»
«Когда я смотрю хороший фильм, мне становится обидно, что я не имею к этому отношения», – звучит в ответ.
История со ВГИКом началась еще в 1949 году, когда Мария Ивановна Вишнякова-Тарковская сняла на лето (это правило в семье соблюдалось неукоснительно) дачу в подмосковном поселке Кратово.
Марина Арсеньевна Тарковская вспоминала: «По совету своей знакомой, переводчицы Нины Герасимовны Яковлевой, мама сняла на лето дачу – небольшой отдельный домик – в подмосковном Кратове, и мы летом 1949 года оказались соседями семьи Сергея Дмитриевича Родичева, тогда заместителя министра легкой промышленности. Сергей Дмитриевич (это выяснилось много позже) со школьных лет дружил с оператором Валентином Ефимовичем Павловым, который работал на «Мосфильме» со знаменитым Пырьевым… Андрей часто бывал у Родичевых в их квартире на Таганке. Его влекла туда дружба с Димой (сыном Сергея Дмитриевича) и его сестрой Любой, которая до сих пор хранит странички школьного дневника Андрея. Сурового Сергея Дмитриевича почти никогда не было дома, и Андрея и меня всегда приветливо встречала мать Димы и Любы, чудесная Нина Степановна.
Дима знал об актерском увлечении Андрея, понимал, что он достаточно образован и начитан, и посоветовал Андрею поступать на режиссерский факультет… В то время Андрей знал кино лишь как обычный зритель и не представлял себе, что такое на самом деле профессия кинорежиссера. Но Дима увлек его своим энтузиазмом, и Андрей начал собирать документы для поступления… Наш папа близко к сердцу принял известие о решении Андрея. Волнений было много. Папа обратился к знакомым, имеющим отношение к кино. Написал (или позвонил?) Виктору Борисовичу Шкловскому. Шкловский, который любил папу и выручал его в трудные минуты (во время войны помог перевезти его в московский госпиталь), направил нас с Андреем к человеку со знаменитой фамилией Бендер, который работал во ВГИКе, кажется, ассистентом-преподавателем… От Шкловского и от Юренева набиравший курс М.И. Ромм знал, что к нему будет поступать сын поэта Тарковского… Андрей очень серьезно готовился и сдал все экзамены и специспытания на «отлично» и только за сочинение получил «посредственно», наверное, за правописание».
Рассказывают, что уже в бытность Андрея студентом ВГИКа его специально приглашали почитать первокурсникам стихи или отрывки из прозаических произведений. Любовь к тексту и способность проживать его, наполняя слова и фразы глубоким внутренним содержанием, вне всякого сомнения, передались ему от отца.
Интересно заметить, что спустя годы кинорежиссер Александр Николаевич Сокуров (ученик Андрея Тарковского) на вопрос, что его сформировало как режиссера, ответит – русская литература. Действительно, проживание текста открывает для художника новые возможности и в психологическом, и в изобразительном, и даже в техническом (для кино это важно) планах. Поэтические и прозаические тексты аккумулируют в себе эмоции, скрывают их под содержанием, прячут психологию внутри порой немудрящего сюжета, и именно это извлечение глубинного смысла, который можно назвать и первосмыслом, является предметом настоящего творчества, то есть обретение важнейших деталей опыта внутри самого себя. Это и есть обреченность жертвенности, о которой в своих картинах будет рассуждать кинорежиссер Тарковский.
В этом смысле важным представляется сравнительный анализ того отрывка из «Войны и мира», который Андрей читал на вступительном экзамене во ВГИК, и его собственного стихотворения «Тень» 1955 года, которое уже приводилось выше.
По сути Толстой предлагает своеобразную раскадровку состояния своего героя: Пьер идет и сбивается с протоптанной в снегу тропинки, он поднимает пистолет и высоко вытягивает перед собой правую руку, левую руку он уводит назад, он думает только о ней, он боится, что инстинктивно начнет левой рукой помогать себе стрелять, Пьер смотрит себе под ноги, поднимает взгляд на Долохова и нажимает на спусковой крючок пистолета, выстрел оглушает его, взвихряется пороховой дым, Пьер опускает дымящийся пистолет, но при этом крепко сжимает его, держится за левый бок, чувствует дурноту.
А вот как описывает подобное состояние Андрей Тарковский: он идет проходными дворами мимо кирпичных стен, перепрыгивает через лужи, постоянно попадая при этом в полосу солнечного света, оглядывается на свою тень, кажется, что бежит от нее, но не может убежать, держит руки в карманах, в одном из которых лежит пистолет, прикасается к спусковому крючку, к вороненому стволу, думает о себе, как о постороннем человеке, который может сейчас достать этот пистолет и выстрелить себе в голову, в квартире, куда он сейчас так торопится, темно, потому что окно выходит во внутренний двор, на перилах лестницы болтается забытый кем-то из соседей ремень, зато здесь всегда горит лампа-дежурка, он чувствует дурноту.
Игра света и тени как прием.
Пограничные состояния как метод.
Надрыв как стиль.
Размытое, словно извлеченное из далеких воспоминаний изображение как концепт.
Из воспоминаний однокурсника Андрея Тарковского, Александра Гордона: «Однажды поздно вечером мы шли к нему домой. Шли по тротуару, мимо деревьев, и фонари вели свою игру теней и света. Тени от ветвей и наших фигур появлялись перед нами, каруселью уходили под ноги, исчезали за спиной и снова сразу же возникали впереди. Упоение молодостью, самой жизнью, завораживающая экспрессия момента взволновали Андрея. Неожиданно он остановился, немного помолчал и сказал: «Знаешь, я все это сделаю, сниму! Эти шаги, эти тени… Это все возможно, это все будет, будет!»
Стало быть, придумывание своего киноязыка началось задолго до первой курсовой работы. Это был в некотором роде интуитивный поиск, который не прекращался ни на Щипке, ни в Голицыне, ни в электричке из Голицына, ни во время долгих прогулок по Москве с друзьями. Однако склонный к рефлексии Тарковский не был до конца уверен в том, что этот поиск идет в правильном направлении.
Читаем в книге «Запечатленное время»: «Я никогда не понимал, что такое кино. Многие, кто шел в институт кинематографии, уже знали, что такое кино. Для меня это была загадка. Более того, когда я закончил институт кинематографический, я уже совсем не знал, что такое кино, – я не чувствовал этого. Не видел в этом своего призвания. Я чувствовал, что меня научили какой-то профессии, понимал, что есть какой-то фокус в этой профессии. Но чтобы при помощи кино приблизиться к поэзии, музыке, литературе, – у меня не было такого чувства. Не было. Я начал снимать картину «Иваново детство» и, по существу, не знал, что такое режиссура. Это был поиск соприкосновения с поэзией. После этой картины я почувствовал, что при помощи кино можно прикоснуться к духовной какой-то субстанции. Поэтому для меня опыт с «Ивановым детством» был исключительно важным. До этого я совсем не знал, что такое кинематограф. Мне и сейчас кажется, что это большая тайна. Впрочем, как и всякое искусство. Лишь в «Ностальгии» я почувствовал, что кинематограф способен в очень большой степени выразить душевное состояние автора. Раньше я не предполагал, что это возможно».
Ключевыми тут кажутся слова о поиске соприкосновения. С поэзией в первую очередь! То есть картина должна рождаться не из сюжетной схемы, не из драматургии, истории или события и уж тем более не из технических возможностей и профессиональных навыков съемочной группы, а из вдохновения, выстраданного внутреннего высказывания, жеста, как рождались стихи у отца.
Ведь Андрей хорошо помнил, как он в детстве подсматривал за ним в замочную скважину на Щипке. Тогда отец долго неподвижно сидел за столом спиной к двери, потом вставал, курил в открытую форточку, затем тушил папиросу в чугунной пепельнице в форме восьмиконечной звезды, вновь садился к столу и что-то записывал карандашом на листе бумаги. Кстати, достать тогда писчую бумагу было делом непростым, и потому отец экономил, писал убористо, выверял каждое слово.
Может быть, запредельный перфекционизм Андрея на съемочной площадке пришел именно отсюда.
Молодой человек выходит из аудитории, где только что перед приемной комиссией он прочитал отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир».
В коридоре царит неописуемая суета: абитуриенты и их родители сидят на подоконниках, двигают принесенные из других аудиторий стулья, громко разговаривают, жестикулируют, делятся впечатлениями.
Молодой человек, которого зовут Андрей Тарковский, проходит сквозь это столпотворение. Он с удивлением смотрит на разгоряченные лица, которые словно в замедленной съемке колышутся перед ним, он не слышит их голосов, только видит открывающиеся рты. Он понимает, что это и есть тишина ожидания.
А тем временем председатель приемной комиссии, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, лауреат пяти Сталинских премий Михаил Ильич Ромм, тот самый невысокий, коренастого сложения лысый человек в очках, обсуждает с членами приемной комиссии абитуриента Тарковского.
Все настроены резко отрицательно. Ромм недоумевает, хотя, конечно, понимает, почему – этот надменный столичный интеллектуал (или играющий роль надменного интеллектуала) не может не вызывать раздражение у чиновников от искусства – слишком умный, слишком много проблем будет с ним. После непродолжительного препирательства народный артист СССР и заслуженный деятель искусств РСФСР все-таки настаивает на своем, и Андрей Арсеньевич Тарковский, 1932 года рождения, становится студентом первого курса ВГИКа.
Из дневника Михаила Ромма: «Вот собирается мастерская – 15 человек студентов, из которых выходят режиссеры или актеры. И хороший педагог, опытный педагог всегда знает, что если в этой мастерской два-три очень ярких, талантливых человека, мастерская в порядке. По существу говоря, он может сам и не учить. Они сами будут друг друга учить, они сами будут учиться. Группа сильных ребят, которая формирует направление мастерской, ее запал, так сказать, систему мышления. Тогда в мастерской весь уровень необыкновенно повышается… Шукшин и Тарковский, которые были прямой противоположностью один другому и не очень любили друг друга, работали рядом, и это было очень полезно для мастерской. Это было очень ярко и противоположно. И вокруг них группировалось очень много одаренных людей. Не вокруг них, а благодаря, скажем, их присутствию».
Ромм был одним из немногих, кто понимал Андрея и в том числе потому, что знал его отца. Вернее сказать, с Арсением Александровичем и Марией Ивановной был знаком его старший брат Александр Ильич Ромм – филолог, поэт, переводчик. В 20-х годах они вместе входили в поэтическое сообщество «Кифара», которое также посещали София Парнок, Максимилиан Волошин и братья Горнунги (Лев Горнунг, как мы помним, был другом семьи Тарковских и автором многочисленных фотографий Маруси, Арсения, Марины и Андрея). В 1943 году Александр Ромм в возрасте 45 лет покончил жизнь самоубийством, и эту страшную семейную трагедию Роммов очень близко к сердцу принял Арсений Александрович.
Во вгиковские годы Михаил Ильич в чем-то заменил Андрею отца, став не только мастером, но близким, родным человеком, который помогал деньгами, вытаскивал из неприятностей, продвигал на киностудиях. К нему можно было обратиться в любое время дня и ночи.
Спустя годы Андрей Тарковский скажет о своем учителе: «Он постоянно говорил о невозможности обучить искусству. Он был великим педагогом, потому что он нас не калечил, не внушал нам свои концепции. Он оставлял нас такими, какие мы есть. И старался нам не мешать… Главное – он научил меня быть самим собой».
Тем более удивительно читать эти слова Тарковского о мастере, зная, что Ромм (член ВКП(б) с 1939 года) был автором таких абсолютно советских киномонументов, как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Русский вопрос», «Владимир Ильич Ленин», «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков». Однако врожденное благородство, такт и разностороннее образование (закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Высший художественно-технический институт; по специальности скульптор и переводчик с французского, занимался вопросами кино в Институте методов внешкольной работы) сохранили в неприкосновенности его умение с уважением относиться к иному мнению, его решительное неприятие командных методов в искусстве в целом и в кинематографе в частности, его отеческую любовь к своим ученикам вне зависимости от степени их дарования. В те годы эти качества были большой редкостью для людей уровня Михаила Ильича.
Может быть, лишь снятая в 1962 году картина «Девять дней одного года» открыла зрителю другого Ромма – рефлексирующего, страдающего, в первую очередь художника, а уж только потом лауреата, орденоносца, крупного советского общественного деятеля. И Андрей не мог не чувствовать в нем этого.
А меж тем студенческая жизнь начинающего кинематографиста была полна не только творческих перипетий.
Из книги Марины Тарковской «Осколки зеркала»: «Я заглядываю в аудиторию, где только что окончились занятия у студентов-режиссеров первого курса, – мне надо передать Андрею принесенные из дома бутерброды. На улице день, а в аудитории горит электрический свет, плотно задернуты темно-серые шторы. Воздух душен и сперт от присутствия пятнадцати – двадцати молодых людей. Я уже знаю многих Андреевых сокурсников и сокурсниц по именам и узнаю теперь рыжеволосую гречанку Марию Бейку, трагическая партизанская эпопея которой мне уже известна со слов Андрея, прелестного мальчика Люку Файта, сына знаменитого актера, Васю Шукшина, красивого сибиряка с широким скуластым лицом и узкими серыми глазами, Сашу Гордона, кажется уже успевшего в меня влюбиться…
А вот и она, знаменитая Ирма Рауш, в которую уже полгода влюблен Андрей. Она невысока ростом, с хорошей фигурой, которую складно облегает черное суконное платье, заколотое у ворота латвийской серебряной брошью-сактой. Ее светлые волосы, которые даже на взгляд кажутся мягкими, собраны в пучок черной лентой…
Учебные тетради Андрея испещрены ее портретами, он рисует ее в профиль, так у него лучше получается… Как складывается непросто в жизни – он любит ее, а она его – нет… доведенный почти до безумия Андрей уезжает к папе в Голицыно…»
И вот получается так, что никуда не деться от этого сумасшествия, от этого безумия, когда чувства захлестывают, и мысль о самоубийстве воспринимается как нечто естественное и даже закономерное. (В 1961 году из-за несчастной любви к актрисе Людмиле Абрамовой, впоследствии жене Владимира Высоцкого, покончил с собой однокурсник Андрея Тарковского Владимир Китайский). Слова отца, сказанные Андрею несколько лет назад – «у нас есть склонность бросаться стремглав в любую пропасть… мы перестаем думать о чем-нибудь другом, и наше поле зрения суживается настолько, что мы больше ничего, кроме колодца, в который нам хочется броситься, не видим» – оказались пророческими.
Мы не знаем точно, о чем в ту голицынскую поездку говорили отец и сын. Вполне возможно, что вновь звучали предостережения Арсения Александровича, его советы не торопиться с женитьбой, определиться с профессией и набраться жизненного опыта, но, судя по тому, как развивались события дальше, можно предположить, что отец впервые столкнулся с самим собой в лице Андрея – с непреклонностью, решимостью, готовностью дойти до конца в своем неистовом чувстве.
Как тут не вспомнить самого Арсения Александровича в пору его ухаживания за Антониной Александровной Бохоновой. Елена Тренина (дочь Бохоновой) вспоминала о Тарковском-старшем как о совершенно безумном человеке, поглощенном страстью к ее матери. Как мы помним, Арсений Александрович буквально вырвал любовь Антонины Александровны, и это не была игра в чувства, это было свидетельство истинного сердечного состояния человека, готового пойти на все, даже на смерть.
И вот теперь, спустя семнадцать лет, Андрей явил отцу и матери эту «склонность бросаться стремглав в любую пропасть». Вполне возможно, в значительно более гипертрофированном варианте, нежели отец.
Марина Тарковская вспоминала, что и во ВГИКе все были вовлечены в эту душераздирающую историю, даже пытались помочь молодым разобраться в их чувствах. Но, как известно, в таких случаях нет и не может быть советчиков, потому что никто кроме Ирмы и Андрея не знал, что именно их связывает или, напротив, отталкивает друг от друга, что они чувствуют, видя друг друга, чего хотят друг от друга, балансируя на грани постоянных размолвок и бурных встреч. В результате в апреле 1957 года Андрей Арсеньевич Тарковский и Ирма Яковлевна Рауш поженились.
Читаем в книге «Осколки зеркала»: «Мы (Мария Ивановна и Марина Арсеньевна. – Прим. авт.) увидели только, что в коробке с документами нет Андреева паспорта, и поняли, что он собрался жениться. А через какое-то время он нам объявил о своем решении. Казалось бы, так радостно закончилась эта томительно-долгая эпопея Андреевой любви к Ирме Рауш. Но почему я, оставшись дома одна в этот апрельский день 1957 года, долго плакала, узнав о заключении «законного брака»? Должна была бы радоваться, а плакала. Потому что знала, что Андрей уходит от нас навсегда…
По большому счету все так и случилось, а по малому он вроде бы никуда и не уходил. Свадьбу молодые решили не устраивать, и, хоть с нами не советовались, мы с мамой одобрили такое их решение. Мама считала все эти свадьбы мещанскими затеями, напрасным переводом денег, которых, кстати, и не было.
Сначала молодожены очень короткое время жили в нашей тесноте – как говорится, по месту прописки, потом мама стала снимать им комнату, а очень скоро они, красивые, веселые и полные надежд, уехали в Одессу на производственную практику».
Интересная деталь, которая вновь отсылает нас к словам отца о «перетирании камней» и на которую стоит обратить внимание – мать снимает комнату сыну и его жене, чтобы они могли жить отдельно. Андрей, что и понятно, счастлив, он уверен в том, что начинается новая жизнь, что свободен, потому что любовь окрыляет его и вдохновляет. Но так ли это на самом деле?
Эйфория минует, и на смену празднику придет рутина повседневной жизни.
Думается, что уже тогда Мария Ивановна поняла, что ее сын пошел по пути отца, пошел подсознательно, на уровне ощущений, может быть, даже внутренне и отрицая возвышенную замкнутость родителя, переживая его уход из семьи (и не прощая ему этот уход), стремясь не быть таким, как он, но при этом обреченным стать таким же.
Впрочем, это и закономерно, ведь слова, порой сказанные в запале, ничего не значат, значат поступки, значит внутреннее видение себя, а Андрей, безусловно, видел себя художником, творцом, совершенно не имея сил и желания противостоять своим, хорошо ему известным, слабостям. А потому только и оставалось ему вслед за Лукьяном Тимофеевичем Лебедевым из «Идиота» восклицать мысленно: «Низок, низок, чувствую!»
«– Послушайте, господин Лебедев, правду про вас говорят, что вы Апокалипсис толкуете? – спросила Аглая.
– Истинная правда… пятнадцатый год.
– Я о вас слышала. О вас и в газетах печатали, кажется?
– Нет, это о другом толкователе, о другом-с, и тот помер, а я за него остался, – вне себя от радости проговорил Лебедев.
– Сделайте одолжение, растолкуйте мне когда-нибудь на днях, по соседству. Я ничего не понимаю в Апокалипсисе».
Мария Ивановна отложила книгу, затушила папиросу в пепельнице в форме раковины, которая откуда-то появилась на подоконнике вместо старой чугунной, и вышла с кухни, оставив включенной лампу-дежурку под закопченным, в разводах от сырости, протечек и бесконечных варок белья потолком.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК