Глава 13 Многоуважаемый шкаф
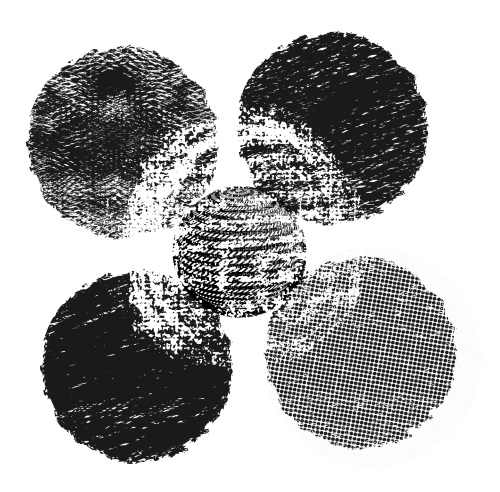
1962 год. Две женщины с трудом тащат высокий шкаф из мореного дуба по пустырю, что тянется от платформы Бирюлево-Товарная.
Со стороны железнодорожной линии доносятся гудки тепловозов, неразборчивые голоса по громкой связи.
Женщины останавливаются возле неизвестно откуда здесь взявшегося полусухого дерева, отдыхают, одна из них перекуривает, и они вновь продолжают свое нелегкое дело.
Наконец им удается затащить шкаф в овраг.
Здесь тихо, сумерки сгущаются.
Складывается такое впечатление, что мы присутствуем при совершении преступления, убийства, например.
Одна из женщин, та, что курила, достает из кармана поношенного, мешкообразного пальто с вытертым мерлушковым воротником молоток и начинает разбивать им шкаф.
Другая же в ужасе наблюдает за происходящим. Закрывает рот ладонями.
Однако шкаф сломать не так просто. Это старое, а потому добротное сооружение, намертво сшитое из дубовых панелей вытесанных ручным образом.
От ударов молотка шкаф гудит, как контрабас.
Женщины меняют друг друга в этой странной и страшной работе.
Наконец удается одолеть боковые стенки, швы расходятся, и от дверных петель с хрустом вырастают кривые трещины, лакировка лопается, а ручная резьба – деревянные листья и цветы, отваливается и падает на землю, как, впрочем, и полагается делать листьям и цветам, когда они отцветают.
Сложнее всего оторвать, не повредив, зеркальную дверь, потому что ее решено сохранить.
Остальные же части шкафа приговорены.
Постепенно рев контрабаса уступает место альтовым скрипам и визгу выворачивающихся кованых гвоздей.
Шкаф смертельно устал сопротивляться ударам молотка, и наконец он сдается.
Работа завершается уже в темноте.
Терпкий запах вещей, белья вперемешку с запахом клея, пересохших и оттого растрескавшихся полок висит в воздухе, и может показаться, что, уже будучи разломанным, шкаф все-таки найдет в себе силы встать, собрать воедино обломки и щепу и ожить.
Но нет, куда там! Его уже убили.
Женщины забирают с собой зеркальную дверь и начинают медленно выбираться из оврага, стараясь при этом не смотреть назад – туда, где только что бился в судорогах огромный шкаф-шифоньер из мореного дуба.
Обломки, надо думать, в ближайшее время сожжет шпана из близлежащих домов.
За все это время, время разбивания шкафа, женщины не сказали друг другу ни слова, это мать и дочь. Это могли бы быть слова оправдания, слова жалости к жертве, слова раскаяния, но они так и не прозвучали. Покрытое амальгамой стекло покачивается в их руках, и возникает впечатление, что они несут аквариум с абсолютно черной водой, которая плещется, но не выливается на землю. Наверное, в этой черной воде обитают рыбы, но их не разглядеть об эту пору, ведь уже совсем темно.
На горизонте появляются огни станции Бирюлево-Товарная, а еще по-прежнему доносятся гудки тепловозов и неразборчивые голоса по громкой связи.
Женщины доходят до одиноко торчащего посреди пустыря высохшего дерева, аккуратно кладут тут зеркало на землю и смотрят, как по линии ж/д, совпадающей с линией горизонта, идет электричка.
Из кармана пальто матери торчит деревянная рукоятка молотка.
Конечно, Андрей потом неоднократно ездил к отцу в Голицыно, возвращался или на последней электричке, или рано утром, но в конце концов избежать конфликта не удалось.
Надо думать, что женитьба сына вызвала раздражение отца. Оказалось, что все его слова, советы, пожелания так и не были услышаны, более того, все произошло так стремительно и лавинообразно, что стало очевидно – к этим словам, советам и пожеланиям Андрей и не собирался прислушиваться. Он все решил сам! Он пренебрег богатым жизненным опытом своего отца, и это не могло не вызвать бурю самых разных эмоций – от ярости до сожаления, от обиды до недоумения.
Однако, как уже было замечено в предыдущей главе, на смену праздникам пришла каждодневная жизнь со всеми ее проблемами, финансовыми в первую очередь. Скорее всего, именно денежный вопрос (как это часто бывает) вызвал открытый конфликт, обострив тлевшее противостояние Тарковского-старшего и Тарковского-младшего.
По крайней мере, косвенно об этом свидетельствует сохранившееся письмо Андрея к отцу: «Нет, и не было, верно, сына, который бы любил тебя, то есть отца, больше, чем я… Мне страшно обидно за то, что наши отношения испачканы денежным вмешательством. Впредь этому не бывать – или я не люблю тебя. Договорились. Я всю жизнь любил тебя издалека и относился к тебе как к человеку, рядом с которым я чувствовал себя полноценным. Это не бред и не фрейдизм. Но вот в чем я тебя упрекну – не сердись на слово «упрекну» – ты всю жизнь считал меня ребенком, мальчишкой, а я втайне видел тебя другом. То, что я… обращался к тебе только, когда мне было нужно – это печальное недоразумение. Если бы можно было бы, я бы не отходил от тебя ни на шаг. Тогда ты не заметил бы, что я у тебя просил что-то и искал выгоды. Да мне и в голову не пришло бы просить кого-то еще… Ты пишешь о своей заботе обо мне, как о денежной помощи – неужели ты настолько груб, что не понимаешь, что забота – это не всегда деньги? Я никогда не был уверен в твоем расположении ко мне, в дружеском расположении. Поэтому мне было (очень честно) неловко надоедать тебе. Я редко виделся с тобой поэтому. Поверь, что мне нужен ты, а не твои деньги, будь они прокляты! Ну, я кончаю. И все-таки многое осталось недосказанным. Я не теряю надежду исправить это. Милый! Прости меня, глупого. Ну почему я приношу всем только огорчения?»
Читая эти строки, невозможно не вспомнить два письма отца к сыну, когда еще совсем юный Андрей, а затем старшеклассник, впервые испытал чувство, которое, как ему тогда казалось, перевернуло его душу. Но вот прошло время, и Андрей ответил отцу. Причем сначала поступком (свадьбой), а потом и словом (письмом).
Важно заметить, что денежная склока не столь важна в этой истории. Значительно глубже и эмоциональней Андрей переживает совсем другое. «Я никогда не был уверен в твоем расположении ко мне, в дружеском расположении», – пишет он. Эти слова воистину исполнены глубокого драматизма. «Почему такое возможно?» – закономерно возникает вопрос. Может быть, дело в том, что Арсений Александрович, нечасто видя своего сына, нарисовал себе совсем иной его портрет (такая же участь коснулась в свое время и Маруси Вишяковой, без которой Тарковский-старший не мог, но и с ней он тоже не мог), образ, который, что вполне естественно, решительно отличался от образа реального, живого человека. Отец со свойственной ему поэтической эмоциональностью наделял своего сына талантами, которых у него не было, рассудительностью и даже мудростью, которые в принципе не могли быть чертами характера подростка. Столкновение же с Андреем – резким, раздражительным, порой дерзким вызывало разочарование и отторжение. Отец был уверен, что его сын «недотягивает» до него, не вполне ему ровня. Тут достаточно вспомнить сомнения Арсения Александровича в том, что у Андрея вообще есть какие-либо таланты, а также его советы заняться какой-нибудь простой и понятной работой, работой руками, например.
С другой стороны, интересно предположить, какие аллюзии вызвало это письмо сына у отца, ведь и у него была своя история, свой опыт сыновства.
Александр Карлович Тарковский – из польской дворянской семьи, народник, политический ссыльный, журналист, по-хорошему строг, по-отечески заботлив, обладатель могучего сократовского лба, пронзительного взгляда, аккуратно подстриженных усов и шкиперской бороды. Они не были настолько близки, чтобы Арсений дерзнул написать ему столь откровенное письмо, или, напротив, будучи всегда вместе, они знали друг о друге все и без эпистолярных упражнений.
И все же воображение рисует хотя бы и такое послание (отрывок из письма Франца Кафки отцу Генриху Кафке в переводе Евгении Александровны Кацевой 1968 года): «Я признаю, что мы с тобой воюем, но война бывает двух родов. Бывает война рыцарская, когда силами меряются два равных противника, каждый действует сам по себе, проигрывает за себя, выигрывает для себя. И есть война паразита, который не только жалит, но тут же и высасывает кровь для сохранения собственной жизни. Таков настоящий профессиональный солдат, таков и ты… в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть».
Конечно, «облегчение жизни», «исправление этого» (недопонимания, недоверия, страха быть неуслышанным, неизбывной дистанции) и желание «сказать недосказанное», о чем сын мечтает в своем письме к отцу, началось не совсем так, как того хотелось бы Андрею Арсеньевичу и тем более Арсению Александровичу.
По мысли Зигмунда Фрейда, в сознании ребенка (мальчика) под воздействием объективных причин формируется особая инстанция – «сверх-я», когда он, испытывая враждебно-ревностные побуждения к отцу, одновременно начинает идентифицировать себя с ним. Таким образом, методы, применяемые отцом и вызывающие отторжение сына, интуитивно по мере взросления становятся методами самого сына. Однако закономерная (в силу возраста) неопытность и юношеская эмоциональность этого «сверх-я» слишком часто превращают в фарс вполне здравые поступки и закономерные поведенческие ходы. В результате круг замыкается – близкие люди, отец и сын, страдают от общения друг с другом, но, в то же время, испытывают страдания и от отсутствия общения. С возрастом этот «гордиев узел» затягивается все туже и туже, и все меньше остается возможностей разом разрубить его. Вернее сказать, сделать это безболезненно, хотя причинение боли в данном случае уже является своего рода хроническим заболеванием.
В переводах из арабской поэзии X–XI веков Арсения Тарковского мы обнаруживаем такие строки:
Так далеко зашли мы в невежестве своем,
Что мним себя царями над птицей и зверьем;
Искали наслаждений в любом углу земли,
Того добились только, что разум растрясли;
Соблазны оседлали и, бросив повода,
То вскачь, то рысью мчимся неведомо куда.
Душа могла бы тело беречь от всех потерь,
Покуда земляная не затворилась дверь.
Учи тому и женщин, чье достоянье – честь,
Но будь поосторожней! Всему границы есть.
Границы терпению, пониманию, состраданию… И никто не знает, где они, эти границы, пролегают. Их обретение есть процесс инстинктивный и глубоко личный для каждого, процесс, которому можно только доверять, но нельзя научить насильно.
Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Искусство утверждает то лучшее, на что способен человек: Надежду, Любовь, Красоту, Молитву… Или, о чем он мечтает, на что надеется… Когда человека, не умеющего плавать, бросают в воду, то его тело, не он сам, начинает совершать интуитивные движения – он начинает спасаться. Так же и искусство существует, как брошенное в воду человеческое тело, – оно существует как инстинкт человечества не утонуть в духовном значении. У художника проявляется духовный инстинкт человечества. А в творчестве проявляется стремление человека к вечному и возвышенному, всевышнему часто вопреки греховности даже самого поэта».
И наконец последняя фраза из письма Андрея – «ну почему я приношу всем только огорчения?». Образ «вечного неудачника», с которым в 20-х годах ХХ века вошел в литературное сообщество Москвы Арсик Тарковский, незримо присутствует в них. Образ, который не мог быть близок Андрею и по складу его характера, и потому, что его детство прошло на Щипке и в Юрьевце, в Завражье и Малоярославце, среди людей, у которых синдром жертвы не приветствовался, а упиваться своим личным несчастьем, когда шла война, было как-то не принято. Но все же эти слова звучат из уст Андрея.
Вернее сказать, они звучат подсознательно, будучи порожденными постоянным поиском внимания отца и одновременно боязнью, неловкостью надоесть ему, вызвать его неодобрение и разочарование. И эта попытка-поиск повторяется из года в год.
Эпизод у дерева на берегу залива из картины «Жертвоприношение»:
Александр: Подойди сюда, помоги мне, малыш. Ты знаешь, однажды, давно это было, старец из одного монастыря, звали его Памве, воткнул вот так же на горе сухое дерево и приказал своему ученику – монаху Иоанну Колову, монастырь был православный… Приказал ему каждый день поливать это дерево до тех пор, пока оно не оживет… Положи сюда камни… И вот, каждый день Иоанн по утрам наполнял ведро водой и отправлялся на гору, поливал эту корягу, вечером, уже в темноте, возвращался в монастырь. И так целых три года. В один прекрасный день поднимается он на гору и видит: все его дерево сплошь покрыто цветами… Все-таки, как ни говори, метод, система – великое дело. Ты знаешь, мне иногда кажется, что если каждый день, точно в одно и то же время совершать одно и то же действие – как ритуал – систематически и непреложно – каждый день, в одно и то же время непременно – мир изменится. Что-то изменится! Не может не измениться.
1962 год. Мать и дочь доходят до одиноко торчащего посреди пустыря высохшего дерева, аккуратно прислоняют к нему зеркало и смотрят, как по линии ж/д, совпадающей с линией горизонта, идет электричка.
Из кармана пальто матери торчит деревянная рукоятка молотка, которым они только что разломали старый шкаф из мореного дуба. Этот шкаф всю жизнь простоял в доме по 1-му Щипковскому переулку, но, когда жильцов выселили в Бирюлево, а дом отдали под общежитие рабочих, выяснилось, что он, этот гигантский шкаф-шифоньер, не помещается в малометражку, элементарно не проходит в дверь.
Какое-то время его держали на лестничной площадке. Соседи складывали в него санки, детские велосипеды, корыта, а также непригодную в домашнем хозяйстве рухлядь, которую почему-то было жалко выбросить. Однако когда пришла пожарная охрана, то от него потребовали немедленно избавиться, потому что, мол, загромождал проход.
И он действительно загромождал проход, но к этому все давно привыкли.
Но вот от него избавились.
А от мертвого дерева, стоящего посреди Бирюлевского пустыря, почему-то нет.
Эпизод в доме у Надежды Петровны из сценария фильма «Зеркало», вошедший в окончательный вариант картины:
Надежда Петровна.
А мы сейчас петушка зарежем. Только у меня к вам просьба маленькая. Сама-то я на четвертом месяце. Тошнит меня все время. Даже когда корову дою, подступает прямо. А уж петуха сейчас… сами понимаете. А вы бы не смогли?
Мать (в полной растерянности). Понимаете, я сама…
Надежда Петровна.
Что, тоже?
Мать.
Нет, не в этом смысле. Просто мне не приходилось никогда.
Надежда Петровна.
А… Так это пара пустяков… В Москве-то, небось, убитых ели. А я вот все это делаю здесь, на бревнышке. Вот топор. Дмитрий Иванович утром наточил.
Мать.
Это что, прямо в комнате?
Надежда Петровна.
А мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку дам. Вы не думайте, это как презент.
Мать.
Вы знаете, я не смогу.
Надежда Петровна.
Вот что значит наши женские слабости-то. Может, тогда Алешу попросим? Мужчина все-таки.
Мать.
Нет, ну зачем же Алешу…
Надежда Петровна (приносит петуха, кладет его на бревнышко). Тогда держите, держите. Крепче держите, а то вырвется, всю посуду перебьет. Ну-ка. Ой, что-то мне все-таки… Ну!..
(Петух забился под руками у матери…)
Наш уход был словно побег. Когда мы возвращались, было совсем темно и шел дождь. Я не разбирал дороги, то и дело попадал в крапиву, но молчал. Мать шла рядом, я слышал шлепанье ее ног по лужам и шорох кустов, которые она задевала в темноте.
Вдруг я услышал всхлипывания. Я замер, потом, стараясь ступать бесшумно, стал прислушиваться, вглядываться в темноту, но ничего не было слышно.
И все же зеркальную дверь от шкафа принесли домой, поставили у стены, что позволило увеличить размер комнаты. Хотя бы визуально. А еще на покрытом амальгамой стекле сохранились царапины от спичек, которые Андрей, вопреки запретам бабушки и матери, зажигал о семейную реликвию.
Однако со временем тема шкафа постепенно отошла на второй, а впоследствии и на третий план, а если и звучала, то как бы из уст Леонида Андреевича Гаева, разумеется, с известной Чеховской интонацией: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания».
В 1957 году Арсений Александрович Тарковский с Татьяной Алексеевной Озерской и ее сыном переехали в кооперативный писательский дом на 2-й Аэропортовской (позже – улица Черняховского), рядом со станцией метро Аэропорт (дом соседствовал с жилым комплексом Союза кинематографистов СССР и кооперативом Московского метростроя). Соседями поэта были Ираклий Андроников и Евгений Габрилович, Михаил Светлов и Константин Симонов, Александр Галич и Борис Слуцкий.
Марина Тарковская так описывала новое жилье отца: «Дом был весьма респектабельным, с лифтами и с чистыми подъездами, в которых сидели вахтерши… у отца появился маленький кабинет, где он мог спокойно располагать собой… работал неровно: иногда несколько дней не мог войти в рабочую стезю и приняться за работу, но если уж начал, то быстро и талантливо выполнял задание и опять предавался сладостному времяпровождению: слушал музыку и занимался чтением любимых поэтов, и сам писал стихи».
Впрочем, Татьяна Алексеевна часто жаловалась на Арсения, что он ленится, работает с неохотой, долго раскачивается и порой ей приходится приводить супруга в рабочее состояние, потому что заказчик не ждет, а деньги нужны всегда. Детям Арсения Александровича, Андрею и Марине, которые нечасто, но бывали в квартире отца на Аэропорте, это было так странно слышать, ведь все здесь – от кухни с финским гарнитуром до рабочего кабинета поэта, где на стенах висели старинные гравюры, акварели Фалька и Фонвизина, располагало к спокойной работе и творчеству. Конечно, особое место в этом доме занимали шкафы с книгами – поэтические сборники и собрания сочинений, альбомы по искусству и книги по астрономии, научные монографии и подшивки толстых журналов. Все, кто приходил в гости в Арсению Александровичу, восхищались этими несметными сокровищами, что во многом и составляли питательную среду поэта, который мог днями не выходить на улицу – писать, читать, слушать музыку, просто думать.
Таким образом, к пятидесяти годам Тарковский-старший наконец обрел искомое – творческую лабораторию, где никто не мог ему помешать быть наедине с собой и со своей поэзией. По крайней мере, ему так казалось…
Татьяна Алексеевна Озерская была ровесницей Арсения Александровича, родилась в Москве, закончила институт иностранных языков и к моменту их знакомства в конце войны была уже довольно известным переводчиком. Ее переводы Т. Драйзера, О. Генри, А. Кронина, Дж. Брейна печатались в журнале «Иностранная литература». Особую же известность Татьяне Алексеевне принес перевод культового романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
Из воспоминаний поэта и прозаика Инны Львовны Лиснянской (1928–2014 гг.): «Властной и практичной матерью оказалась для Тарковского его третья жена Татьяна Алексеевна Озерская… Она отлично поняла характер Арсения Александровича… что же до самой Т. Озерской… то, признаюсь, мне не особенно по сердцу женщины этого типа: крупные, твердые, тертые, экономически-житейски целенаправленные, этакие «бабы за рулем». Особенно мне было неприятно в Татьяне то, как она подчеркивала детскую беспомощность, детскую зависимость Арсения Александровича от нее, даже в некотором смысле культивировала в нем эту беспомощную зависимость. И уже последние годы жизни, как мне рассказывали, Арсений Александрович совершенно не мог без нее обходиться и, если она ненадолго отлучалась, оглядывался и твердил: «Где Таня, где Таня?»
Но надо воздать должное Татьяне Алексеевне Озерской. Она долгие годы не печатающемуся поэту почти ежедневно повторяла: «Арсюша, ты – гений!» Об этом мне неоднократно (а скорее всего – себе) напоминал Тарковский именно тогда, когда был удручен какой-нибудь Татьяниной грубостью. А как долгие годы не печатающийся поэт нуждался в такой поддержке – «Арсюша, ты – гений», – и говорить нечего! Возможно, благодаря именно тем чертам характера Озерской, которые мне противопоказаны, вышли в свет книги «Перед снегом», «Земле – земное».
На описанные выше Инной Львовной качества Татьяны Алексеевны обращали внимание многие, многих смущала ее маскулинная (в отличие от Арсения) решительность и хватка. Своего мужа она, безусловно, держала в «ежовых рукавицах», но невозможно было не признать нечеловеческих и благородных усилий Татьяны Озерской по продвижению и поддержке Арсения Александровича. Вероятно, она была свято уверена в том, что только таким образом возможно добиться официального признания поэтического гения ее супруга.
И она многое сделала в этом направлении.
В конце 50-х – начале 60-х годов в жизни и судьбе Тарковского-старшего складывалась воистину парадоксальная ситуация. С одной стороны, поэт обрел свободу и возможность полностью отдаваться своему творчеству, именно слову, ради которого он пожертвовал всем, но, с другой стороны, рядом с Арсением Александровичем появился человек, который совершенно регламентировал его жизнь и с армейским напором подчинил выполнению литературных задач. Теперь со всей очевидностью стало ясно, что укрыться от этого давления за книжным шкафом не получится.
Причем касалось это всех аспектов жизни, бытовых в том числе.
Поэт и прозаик Кирилл Ковальджи вспоминал: «Однажды, когда я был у них в Переделкино, пришли две поклонницы, студенточки. Прямо молились на него. Он был в ударе, острил, читал стихи. Время шло незаметно, стемнело. И вышло так, что Тарковским нужно было в Москву, мне и девочкам предложили ехать с ними вместе. Вела машину Татьяна Алексеевна. Не успели отъехать и ста метров, как она спохватилась. А. А. что-то должен был взять с собой, но забыл. Боже мой, как грубо она его отчитала, обозвала бестолочью и еще не помню, как. Поклонницы остолбенели. А Арсений Александрович виновато-ласково успокаивал ее: «Прости, Танюша, ну ничего, давай вернемся…». Вернулись.
Я растерянно шептал девочкам: «Не придавайте этому значения. Он выше этого, он большой поэт!» А. А. спасало чувство юмора, он как-то поведал мне: Я единственный в нашей семье, кто женат на гремучей змее.
И еще спел:
Наши жены – кошки раздражены,
Вот кто наши жены!»
Однако, что и понятно, чувство юмора спасало не всегда.
Так, Тарковский очень хотел поселить в квартире на Аэропорте свою дочь Марину, которую он нежно называл «моя Корделия», благо метраж позволял, однако Татьяна Алексеевна отнеслась к этому резко отрицательно, найдя, что совместное проживание Арсения, Алексея Студенецкого (сына Озерской от журналиста Николая Васильевича Студенецкого), Марины и самой Татьяны Алексеевны будет неуместным и крайне стеснительным (для гениального поэта в первую очередь), потому что пойдет во вред его напряженной работе.
Тарковский был вынужден согласиться с женой.
Как нам уже известно, в 1962 году Мария Ивановна с детьми получила квартиру в панельной новостройке в Бирюлево. Видеться со взрослыми детьми Арсений Александрович стал еще реже, хотя к тому времени он уже стал дедом – в 1958 году Марина Арсеньевна родила сына Михаила.
Муж Марины и однокурсник Андрея, кинорежиссер Александр Витальевич Гордон в своей книге «Не утоливший жажды…» писал: «Арсений Александрович «был потрясен, что стал дедом, умилялся младенцем, был растроган и по-особому нежен с дочерью. Ко дню возвращения Марины из роддома привез новую кровать с полированной спинкой. При этом трудно было назвать Арсения Тарковского человеком, который изо дня в день заботится о своих близких. Любовь и внимание проявлялись спонтанно, совпадая обычно с получением гонорара или отлучкой Татьяны Алексеевны».
Вскоре, конечно, сухое дерево на пустыре близ станции Бирюлево-Товарная срубили, там началось строительство новых жилых домов.
А обломки шкафа сожгли в овраге, ну что с ними еще прикажете делать…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК