Худшая песня
Худшая песня
«…Мне в четверг обещали билеты в пятницу принести на субботу на «Воскресенье».
Из разговора двух фанов в метро

Недавно я присутствовал на сольном концерте Андрея и лишний раз поразился образности его стихов. Как он ухитряется укладывать объёмную, насыщенную образами мысль в одно коротенькое четверостишие?!
Я много раз баловался стишками, посвящёнными дням рождения разных своих приятелей, и достиг в этом определённых успехов. Стали приглашать уже совсем малознакомые. Правда, меня частенько заносит, и деньрожденцы после моих поздравлений, бывает, не разговаривают со мной неделями, а пару раз пытались бить.
Написал однажды одному лоботрясу добротное поздравление. Ну, как водится, приложил его фигурально раз восемнадцать, выявил некоторые его «достоинства». Очень стихи ему понравились, он их везде с собой носил и всем показывал.
И вот пригласил один раз к себе девушку на предмет «поматросить и бросить». Она, дура, пошла. Он ей сначала всё на словах вкручивал, какой он клёвый да классный, а потом решил совсем добить — дал стихи те почитать, а сам пока в ванную пошёл к своей кошачьей свадьбе готовиться. Она первые три куплета прочитала — и давай бог ноги. Ума хватило. Причём след ее при этом совершенно простыл.
Я даже некоторое время сдержанно гордился очевидной пользой от своих трудов, но по большому счёту это было всё-таки несерьезно.
Мне всё время не хватало того, что Чехов называл сестрой таланта, — краткости, хотя братишка её всё-таки присутствовал.
Придумаю какой-нибудь остроумный оборот, а потом размазываю его на пять куплетов, разжёвываю в кашу — всё боюсь, что не поймут. Вот этот комплекс, эта дурацкая боязнь быть непонятым и мешает больше всего.
Но самое главное — это вымученность. Как только чувствуешь, что не стихи ведут тебя, а ты их сидишь и придумываешь, так надо тут же бросать это дело. Кто-то из умных сказал: «Стихи можно писать только тогда, когда их НЕЛЬЗЯ не писать» (так и хочется подписать: «Ленин»).
Я много раз видел, как где-нибудь в тёмном холодном автобусе во время длинного переезда Андрей, который может спать в любом месте и в любое время, вдруг поднимал голову, на ощупь находил свой очередной толстый блокнот и записывал, буквально не открывая глаз, строчку или две.
Вот так рождается большинство его песен, от которых потом стонет полстраны. Они рождаются САМИ.
Несколько лет назад, когда «Машина» ещё состояла при Росконцерте, какое-то тогдашнее начальство настоятельно порекомендовало Макару написать к готовящемуся юбилею по случаю победы над ФРГ пламенную песню.
Он потом сам рассказывал, что честно пытался, ничего не вышло: очень трудно писать по приказу, да ещё о том, чего сам не пережил. Самое интересное, что месяца через три песня всё-таки была написана, но получилась она САМА. И какая песня! «Я не видел войны — я родился значительно позже…» — одна из самых честных и лучших. Года три она украшала концерт в общем-то рок-музыки, и ни один растрёпанный фан не крикнул в это время: «Поворот» давай».
Шикарную песню Андрей написал и для документального фильма о фронтовых кинооператорах, тоже пропустив её по-настоящему через себя — так уж он работает. Прозрачные, чистые образы — каждый раз удивляешься: как же это я сам не додумался?
И чем проще и доходчивее была песня, тем с более парадоксальной страстью народ бросался её толковать. Конечно, было это во время информационного голода и застоя, сказывалась жажда свежего воздуха, и, когда его не было, люди пытались его придумать.
Шёл Андрей Макаревич как-то по улице во время дождя. Небо серенькое, дождик тоже какой-то ненастоящий, настроение — так себе. В общем, довольно неважно все. Придумалась песенка о том, что вот, мол, дождик, небо — серенькое, все — так себе.
Не песенка, а баловство, разминка ума. Она и не игралась практически, а народ всё равно узнал.
Это было время, когда «Машину» с удовольствием, достойным лучшего применения, долбали все кому не лень. Только что прогремела ураганная статья «Рагу из синей птицы», подписанная целой дюжиной сибирских деятелей культуры, больше половины из которых, как потом выяснилось, на тех концертах в Красноярске вообще не были, а просто выполняли чьё-то указание. Не хочется даже кратко пересказывать: отвращение охватывает. В общем, статья плохая. Помещение редакции «Комсомолки», напечатавшей этот пасквиль, было завалено злобными ответными письмами в защиту группы.
В очередной раз «Машина» обрела мученический венец и статус борца за свободу. Уже тогда говорили, что песни Макаревича даже не двусмысленные, а «трёхсмысленные». И тут появляется песня про дождик…
Народ не обманешь! И ежу понятно — песня про Сталина.
— Про какого Сталина, про Хрущёва! — кричали другие.
Третьи молчали, снисходительно улыбаясь: чего с дураками спорить. Ведь совершенно ясно: песня про Брежнева.
Ожидавшиеся после выступления «Комсомольской правды» ужасающие репрессии не последовали, что-то там у них не сработало, налаженный механизм засбоил, но зато группу стали душить худсоветами.
Почти перед каждой поездкой или незначительным обновлением репертуара устраивалась «сдача программы».
Обставлялось это всё помпезно: в огромном зале на полном комплекте аппаратуры со светом и дымом артисты за полтора часа в сотый раз должны были доказать свое право выступать перед зрителями. А в зале находилось человек десять-пятнадцать — комиссия. Затем в специальной комнате с бутербродами и фантой (боюсь, что и не только с фантой) происходила комедия обсуждения. Допускались туда из наших только А. В. Макаревич и В. И. Директор, остальные в волнении топтались в местах для курения. Насколько я помню, ничего конкретного не говорилось. Расплывчатые формулировки «подработать», «обратить внимание» и т. д.
Позже они усовершенствовали тактику, увеличив комиссию до сорока и более членов. Тогда, сославшись на отсутствие кворума, можно было спокойно перенести прослушивание на недельку-другую. Причём об этом сообщалось почему-то уже после концерта. Наверное, посчитаться заранее было трудновато (ой, это я себя три раза посчитал), а солнечное искусство «Машины» благотворно влияло на математические способности — тут-то всё и выяснялось.
Наконец партия и правительство начали проявлять нетерпение: есть такая группа «Машина времени» или нет, может она выступать перед широкими трудящимися массами или не может она выступать перед широкими трудящимися массами?
Нам конкретный ответ требовался не меньше, чем правительству, но получить его было крайне трудно. Время было смутное: уже пробивались первые ростки если не демократии, то хотя бы здравого смысла, и за решительное «нет» можно было получить по шапке так же, как и за решительное «да».
Наша тактика сводилась к тому, чтобы любыми средствами обеспечить стопроцентную явку комиссии на прослушивание. Их же задача состояла в том, чтобы всеми правдами и неправдами избежать пугающего конкретного ответа, а значит, кворума не допускать.
Мы распределили членов комиссии по количеству своих и приятельских автомобилей, чтобы организовать доставку туда-обратно и устранить хотя бы одну из причин неявки — транспортную. Но аппаратные игры оказались куда интереснее, чем предполагалось. Члены были разбиты по ареалам обитания. Я обслуживал «куст» Сокол — Хорошевское шоссе. Сначала нужно было позвонить, дома ли, а то стоишь потом, целуешь закрытую дверь, а он с той стороны дышит. Ладно. Звоню:
— Здравствуйте, Зураб Моисеич! Это имярек Капитановский. Через двадцать минут буду у вас.
— Зачем?
— Сегодня же двенадцатое, «Машину времени» слушать и одобрять.
— Не помню я чего-то. А кто будет?
— Все.
— А кто все? А Крапивин, а Одоровская, а Слепак?
— Да все, все. Одоровская сказала, если Зураб будет — приду.
— А я буду? А я-то, наверное, и не буду, я только что ногу сломал.
Так мне эту гадость надоело вспоминать, прямо тьфу! Да что там говорить! Где они все сейчас? Слепак этот, Зураб Моисеев сын, Одоровская? Кто их помнит?
А великолепная «Машина времени» свой двадцатипятилетний юбилей справляла на Красной площади, между прочим. И с этого момента закончилась история площади как символа эпохи темного советского царства.
Не всё, конечно, тогда так уныло было. С некоторых пор группа стала иногда неожиданные подарки получать: то афиши быстро напечатают, то костюмы приличные пошьют. Дело в том, что бывшие юные поклонники «Машины» как-то незаметно подросли, а некоторые из них за ум взялись и большими начальниками заделались. Вот и помогали по старой памяти чем могли.
Пришел однажды Андрей на приём к чуть ли не замминистра дела группы обсудить. Тот из-за стола встал, руку подал:
— Присаживайтесь, пожалуйста, дорогой Андрей Вадимович, какие проблемы? Я, — говорит, — помню, как мы с ребятами на ваш концерт по трубе лазали. Если вы по поводу аппаратуры, так я в три секунды все подпишу.
И действительно, все вопросы решил и подписал. Потом до дверей провожать пошёл и спрашивает:
— Ну а вообще как оно, ничего?
Андрей поблагодарил, конечно, говорит:
— Спасибочки, да всё нормально, только шьют мне политический подтекст к простейшим песенкам. Глупость какая!
— Это про дождик, что ли? Ха-ха-ха! Дураки какие! Да вы внимания не обращайте, мало ли. Идите спокойно, творите, радуйте нас своими песнями.
Затем вспомнил что-то, оглянулся, дверь притворил и спрашивает:
— Ну, между нами, всё-таки про кого? Про Гитлера или про Сталина?
Часто спрашивают: почему у «Машины» нет практически песен про любовь? Андрей считает, что, наоборот, все его песни о любви. Ведь он трактует это понятие значительно шире, нежели просто отношения, связывающие мужчину и женщину.
И ещё, я думаю, любовь — это настолько интимное дело, что кричать о ней «под фанеру» во Дворце спорта где-нибудь в Епидопельске по крайней мере бестактно.
Чудовищный шквал третьесортных песенок про «я тебя люблю» не только прививает дурной вкус, но и опошляет само чувство.
Конечно, глупо требовать от поп-культуры доверительной любовной лирики, с которой обращаются к читателю хорошие поэты, ведь и обращаются они «один на один», а не к десятитысячной аудитории, но уж хотя бы можно воздержаться от откровенного хамства и пошлости.
Однажды, будучи сильно влюблён, я попытался всерьёз написать хорошие, добрые стихи о своих переживаниях. Мечтал вложить в них всю душу. Создать нетленное произведение. Старался изо всех сил целую неделю, но душу вложить так и не удалось. Всё получалась какая-то пресная жвачка, и так я эти красивые слова замусолил и залапал, что и сама моя любовь к той девушке прошла, превратившись в стойкое отвращение.
Долго я мучился от собственной бездарности. Как же так, ведь всё у меня было: и переживания, и нежность, и кое-какая страсть, а лучшая песня всех времен и народов так и не вышла.
Но мы не привыкли отступать — так, кажется, пелось в ныне уже покойном киножурнале «Хочу всё знать». Коль у меня не получилась лучшая песня, попробую-ка написать самую худшую.
Если вы думаете, что написать худшую песню проще простого, вы глубоко заблуждаетесь. Оказалось, гораздо труднее, чем я ожидал. Для начала пришлось себя представить лопоухим болваном, мучающим композиторов безумными текстами, вжиться покрепче в этот образ. Это-то мне удалось без труда. Достаточно было дня три кряду посмотреть телевизионные музыкальные программы и купить пиджак в крупную полоску. Затем по всем правилам я должен был на последние деньги приобрести подержанную пишущую машинку или по крайней мере обзавестись парой толстых поэтических тетрадей. Выбрал второй вариант (по жабьему принципу). Дальше уже все как по маслу покатило: придумал «либретто», за каких-то два месяца при помощи силлаботонического стихосложения облек его в поэзию, отшлифовал по углам, подбил бабки, спустил на тормозах на мягких лапах, провентилировал вопрос, посмотрел на мир широко открытыми глазами, вызвал на ковёр и изящно переписал одноцветной шариковой ручкой. Получился вот такой шедевр:
Солнышко светит, цветочки цветут,
девичьи глазки мне спать не дают,
брови — дугою и нежный овал
крепко мне в душу однажды запал,
и белый свет мне не мил уже стал.
Больше не стану я выпить нигде
и подниму я успехи в труде,
первым в работе стараюсь я стать,
станешь тогда ты меня замечать
и свиданья свои мне обещать.
Радуга в небе и птички поют,
двое влюбленных по травке пойдут —
я твою руку возьму в свой кулак,
светят мне губы твои, как маяк,
будет с тобой у нас счастье — ништяк, вот так.
Стану хвалить я одежду твою,
скажешь тогда ты мне робко «люблю»,
будет счастливая наша семья,
вместе поедем в другие края,
потому что люблю тебя я.
Вот примерно в таком разрезе, а особенно, как я считаю, удался припев:
Дождик капелью стучится: кап-кап, —
купим с тобою мы плательный шкап,
поезд колёсами дробит: тук-тук, —
ты — мне друг и я — тебе тоже друг.
Причём в первоначальных вариантах вместо «купим с тобою…» было «стану ходить за тобой как араб», но, твёрдо решив воздержаться от политики и национального вопроса, я переделал на бесполый «шкап».
Полюбовался на произведение, представил, как поёт его какой-нибудь серьезный певец в сопровождении оркестра, и так мне стало приятно — прямо кайф. Уж так плохо написано, что очень хорошо. Кайф наоборот.
Мне ещё в армии узбек один рассказывал анекдот: «Жил-был пастух. Курил анашу с самого рождения. Курил анашу с самого первого утра и до тридцати семи лет. И, видимо, к ней привык. А потом в день своего тридцатисемилетия встал с утра и хотел покурить, а анаши-то и нет, кончилась вся. Послал он вниз в деревню мальчишку, а тот вернулся только под вечер. Таким образом, пастух впервые за тридцать семь лет целый день не курил. И такой от этого словил кайф! Кайф наоборот».
Итак, закончил я творческий процесс, отпечатал в трёх экземплярах, название придумал залихватское — «Песнь о любви» и побежал всем показывать. Однако настоящего искромётного успеха не имел: «Слабовато, — говорят, — а местами не в размер». И никто ведь не сказал: «Козлиная ты рожа!»
Я, честно говоря, такой критики не ожидал. Обескуражился. А меня утешают: «Ладно уж, не расстраивайся — бывает хуже».
Как же, думаю, хуже? Опять не получилось? Ещё раз перечитал — хуже некуда. Расстроился по-настоящему: ни хрена из меня не получается. Но я упрямый, это дело сразу не бросил.
Работали мы в одном концерте с композитором, автором нашумевших шлягеров «Вишнёвая метель» и «Татьянин день», в общем, с Мигулей. Сидит он как-то у рояля между концертами, что-то наигрывает, тут я к нему со своим эпохальным и подкатился. «Вот, — говорю, — Володя, текст не посмотрите?» Он видит, что я не с улицы, а вроде как при артистах, поэтому сразу-то не погнал. После первых двух строчек его перекорежило всего. Я обрадовался, но скрываю. Он взял пару аккордов и говорит: «Как-то у вас тут с размером — не того». Я его горячо заверил, что в одну секунду подработать могу, только бы музыка была хорошая (на самом-то деле я над размером целый месяц бился, все старался, чтоб погадостнее вышло).
В общем, он ещё некоторое время попел, страдая, мой «шлягер», потом говорит: «Ладно, вы мне экземпляр оставьте, я на досуге подумаю и вам сообщу».
Так всё-таки настоящего торжества и не получилось. Понимаете, не было у меня стопроцентной уверенности, что песня худшая. А когда я по телевидению услышал: «Плэйбой — клёвый такой, мой милый бэйби, одет, как денди, с тобой я — леди, я так люблю тебя», — меня охватила чёрная зависть, и окончательно стало ясно: не в свои сани не садись. И я бросил это дело.
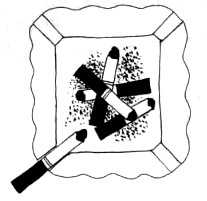
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Мы больше не увидимся — прощай, улыбнись… Скажи, не в обиде ты на быстрые дни?.. Прошли, прошли — не мимо ли, как сквозняки по комнате, как тростниковый стон… …Не вспомнишь как любимую, не вспомни — как знакомую, а вспомни как сон… Мои
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Слышала — приедешь к нам не скоро ты. Говорят товарищи: не ждем. Брошу всё. Пойду бродить по городу, по дорогам, пройденным вдвоем. До Невы дойду, спущусь по лесенке. Рядом ходит черная вода. На унылой, безголосой песенке вымещу обиду навсегда. Все следы размоет
Песня
Песня Есть одна хорошая песня у соловушки — Песня панихидная по моей головушке. Цвела – забубенная, росла – ножевая, А теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени. Как случилось-сталось, сам не
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Я, как гроза, угрюм. А ты горда, как город, превзошедший города красой и славой, светом и стеклом. И вряд ли ты займешься пустяком души моей. Сегодня, как всегда, уходят из Тбилиси поезда. Уходят годы. Бодрствует беда в душе моей, которая тверда в своей привычке
МОЯ ПЕСНЯ
МОЯ ПЕСНЯ Сокрыт в душе бесценный клад Любви моей — он щедр и светел. Эй, джан[165], безмерно я богат. Как совладать с богатством этим! О дарованье, ты — не дар, Что выгадаешь и зароешь. Ты — разоренье, ты — угар, Ты — расточение сокровищ. Что делать? Мне неведом страх Пред
Песня
Песня Отцветет да поспеет На болоте морошка, — Вот и кончилось лето, мой друг! И опять он мелькает, Листопад за окошком, Тучи темные вьются вокруг… Заскрипели ворота, Потемнели избушки, Закачалась над омутом ель, Слышен жалобный голос Одинокой кукушки, И не спит по ночам
Песня
Песня Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, С вами век мне золотой! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! За тебя на черта рад, Наша матушка Россия! Пусть французишки гнилые К нам пожалуют назад! За тебя на черта
Песня
Песня Мое сердце уснуло, как дитя в колыбели, И во сне, как дитя, улыбнулось так сладко; Убаюкано трелью отдаленной свирели, Оно спит так спокойно и бьется украдкой. Мое сердце в неволе, в жизни так утомилось, Дикой страстью не бьётся, не верит, не слышит. Как невинный
Худшая песня
Худшая песня «…Мне в четверг обещали билеты в пятницу принести на субботу на «Воскресенье». Из разговора двух фанов в метро Недавно я присутствовал на сольном концерте Андрея и лишний раз поразился образности его стихов. Как он ухитряется укладывать объёмную,
Песня
Песня Нам песня строить и… служить помогает Песни петь дано не всем. Необходим слух и голос. Но это требование не имеет никакого отношения к армии, потому как у неё главный закон — «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». А в ВДВ дополнительно — «Нет задач
Песня
Песня IКак сложилась песня… Как сложилась песня у меня? И сама не знаю, что сказать! Я сама стараюсь У огня По частям снежинку разобрать! IIМузыка Вы объяснили музыку словами. Но, видно, ей не надобны слова — Не то она, соперничая с вами, Словами изъяснялась бы сама. И
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Еще несколько лет тому назад, в начале осени, местные цыгане, прежде чем разойтись на зимние квартиры, обычно приходили в Михайловское и разбивали свой табор неподалеку от озера Маленец. Здесь они жили у своих костров, отсюда по утрам расходились на свой цыганский
11 ХУДШАЯ ОШИБКА В МОЕЙ ЖИЗНИ
11 ХУДШАЯ ОШИБКА В МОЕЙ ЖИЗНИ В 1926 году Джо Шенк стал одним из шефов «Юнайтед артистс». Как часть сделки он отдал компании права на распространение фильмов Нормы Толмадж, Констанс Толмадж и моих, но мы продолжали делать наши фильмы независимо. Правда, я снял для «Юнайтед