ПЕСНЯ
ПЕСНЯ
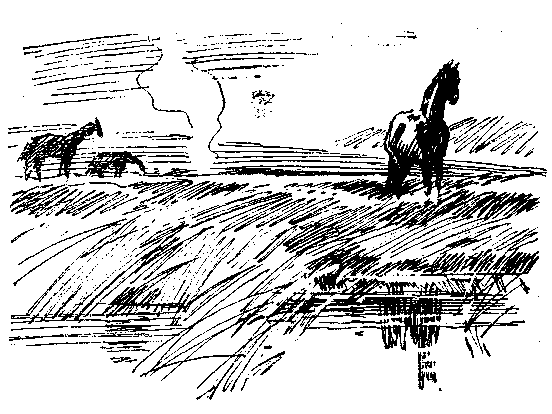
Еще несколько лет тому назад, в начале осени, местные цыгане, прежде чем разойтись на зимние квартиры, обычно приходили в Михайловское и разбивали свой табор неподалеку от озера Маленец. Здесь они жили у своих костров, отсюда по утрам расходились на свой цыганский промысел: кто погадать, кто поменяться лошадьми…
Как-то в течение почти целого месяца я наблюдал со своей околицы картину, которая неизменно вызывала в моей памяти образы пушкинских «Цыган»:
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Всё скудно дико, всё нестройно,
Но всё так живо-неспокойно…
Когда наступали сумерки, я любил приходить к табору, здоровался со старшим, подсаживался к костру и вместе с другими смотрел на огонь. В огне всегда можно увидеть лицо какого-то человека и мысленно поговорить с ним.
— Ты не думай, — говорил мне старший, — мы здесь ничего плохого никому не сделаем, и дерева не тронем, ничего не тронем… Мы знаем, Михайловское — для всех святое место. Это и наше святое место… Здесь цыгане осенью испокон веков табором стоят… Старики рассказывали, что сам Александр Сергеевич позволил нам здесь стоять и шатры ставить и даже, говорят, бумагу дал, чтобы никто нас не обидел. Только эта бумага во время войны затерялась, когда немцы почти половину здешних цыган перерезали… Он всегда ходил к нам. Наши бабы ему ворожили… Любил он песни цыганские. И мы пели ему.
Я попросил, чтобы и мне спели какую-нибудь старую, самую старую, «пушкинскую» песню.
— Ваня, — крикнул цыган, — позови Глашку с дочкой, пусть идут сюда!
Подошли две цыганки — одна совсем старая, другая помоложе. Они о чем-то между собой поговорили — по-цыгански, шумно. Подсели к костру. Притихли и запели:
В первый раз тебя увидел,
Чистоту твою предвидел,
Да, я предвидел,
Моя, моя дорогая.
Уж как я тебя искал,
Кликал, плакал и вздыхал,
Да ты не слышала,
Ох, да ты не слышала.
Уж как я тебя найду,
Всю цветами уберу,
Да расцелую.
Ох, да ох, да расцелую.
Расцелую, размилую,
Жизнёнком назову я,
Эх, да ты жизнёнок мой,
Моя, моя дорогая!
Песня мягко стелилась по озеру, медленно уходя в туман, и там тонула где-то в спящей Сороти.
— Хорошо тебе? — спросила старая цыганка.
— Хорошо, — сказал я, стараясь не глядеть на нее, потому что в глазах моих стояли слезы.
В это мгновение в огне костра я ясно увидел улыбающееся лицо Пушкина, который вместе со мной слушал эту старинную цыганскую песню.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Песня
Песня Забывается день. Забывается зной. Удлиняется тень по востоку, Водворяется ночь неживой синевой, Неживой синевой и далекой. Поднимается влага от Красных песков, Поднимается сердце — обманом, Отрывается малым и бедным листком От пустынной страницы
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Мы больше не увидимся — прощай, улыбнись… Скажи, не в обиде ты на быстрые дни?.. Прошли, прошли — не мимо ли, как сквозняки по комнате, как тростниковый стон… …Не вспомнишь как любимую, не вспомни — как знакомую, а вспомни как сон… Мои
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Слышала — приедешь к нам не скоро ты. Говорят товарищи: не ждем. Брошу всё. Пойду бродить по городу, по дорогам, пройденным вдвоем. До Невы дойду, спущусь по лесенке. Рядом ходит черная вода. На унылой, безголосой песенке вымещу обиду навсегда. Все следы размоет
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Знаю, чем меня пленила жизнь моя, красавица, — одарила страшной силой, что самой не справиться. Не скупилась на нее ни в любви, ни в бедах я — сердце щедрое мое осуждали, бедные. Где ж им счастье разгадать ни за что, без жалости всё, что было, вдруг отдать до
Песня
Песня Есть одна хорошая песня у соловушки — Песня панихидная по моей головушке. Цвела – забубенная, росла – ножевая, А теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени. Как случилось-сталось, сам не
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Я, как гроза, угрюм. А ты горда, как город, превзошедший города красой и славой, светом и стеклом. И вряд ли ты займешься пустяком души моей. Сегодня, как всегда, уходят из Тбилиси поезда. Уходят годы. Бодрствует беда в душе моей, которая тверда в своей привычке
МОЯ ПЕСНЯ
МОЯ ПЕСНЯ Сокрыт в душе бесценный клад Любви моей — он щедр и светел. Эй, джан[165], безмерно я богат. Как совладать с богатством этим! О дарованье, ты — не дар, Что выгадаешь и зароешь. Ты — разоренье, ты — угар, Ты — расточение сокровищ. Что делать? Мне неведом страх Пред
Песня
Песня Отцветет да поспеет На болоте морошка, — Вот и кончилось лето, мой друг! И опять он мелькает, Листопад за окошком, Тучи темные вьются вокруг… Заскрипели ворота, Потемнели избушки, Закачалась над омутом ель, Слышен жалобный голос Одинокой кукушки, И не спит по ночам
Песня
Песня Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, С вами век мне золотой! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! За тебя на черта рад, Наша матушка Россия! Пусть французишки гнилые К нам пожалуют назад! За тебя на черта
Песня
Песня Уста мои о солнце петь устали, Но о тебе без устали поют. Часы мои в день нашей встречи встали, Храня любовь от старящих минут. Мне надоест рассматривать планету, Но на тебя смотреть не надоест. В твоих глазах всегда так много света, — Закроешь их – и темнота
Песня
Песня Нам песня строить и… служить помогает Песни петь дано не всем. Необходим слух и голос. Но это требование не имеет никакого отношения к армии, потому как у неё главный закон — «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». А в ВДВ дополнительно — «Нет задач
Песня
Песня IКак сложилась песня… Как сложилась песня у меня? И сама не знаю, что сказать! Я сама стараюсь У огня По частям снежинку разобрать! IIМузыка Вы объяснили музыку словами. Но, видно, ей не надобны слова — Не то она, соперничая с вами, Словами изъяснялась бы сама. И
ПЕСНЯ
ПЕСНЯ Еще несколько лет тому назад, в начале осени, местные цыгане, прежде чем разойтись на зимние квартиры, обычно приходили в Михайловское и разбивали свой табор неподалеку от озера Маленец. Здесь они жили у своих костров, отсюда по утрам расходились на свой цыганский