«Тяжкие телесные повреждения»
«Тяжкие телесные повреждения»
В достопамятные времена перестройки в либеральной московской газете был опубликован очерк об американской правоохранительной системе:
«В США закон требует, чтобы перед началом допроса задержанному было сообщено: «У вас есть право хранить молчание. Любые показания, которые вы дадите, могут быть использованы против вас». Даже если этр и формальность — все равно прекрасно!» — восторженно резюмировал очеркист. Советские читатели, наслышанные уже к тому времени об Андрее Вышинском и его теории признания как царицы доказательств, не могли не согласиться с мнением автора.
Благодаря тому, что я узнал еще тогда о правах задержанного в США, мой собственный допрос в полицейском участке Нью-Йорка в 1994 году оказался очень недолгим.
Было три часа ночи. Я, тоскливо напевая «Гори, гори, моя звезда», расхаживал из угла в угол бокса, когда дежурный отворил дверь замысловатым ключом.
— Детективы хотят с тобой побеседовать, — сказал он, изучая мой измятый костюм с пятнами крови. — Придется надеть наручники.
Английский я понимал хорошо. Я протянул руки.
— Нет. За спину.
Я повернулся. На запястьях щелкнула сталь.
— Просьбы есть?
— Попить бы, — ответил я.
Полицейский ничего не ответил и лишь указал на дверь в коридор сыскного отделения. Я понял, что утолить жажду мне не удастся. Но в коридоре он остановился у питьевого фонтанчика и нажал кнопку.
— Давай, пей.
— Спасибо, — я наклонился над холодной струей и принялся с жадностью глотать воду.
Вдруг одна из дверей открылась, и в коридор вышла какая-то тетка в полицейской форме.
— Ты представляешь, — возмущенно обратилась она к дежурному, — этот господин только что в боксе песни распевал! Я подошла взглянуть, а ему наплевать — ходит и поет. Вот так. Приезжают из своей России, ничего не боятся, убивают здесь людей, а потом поют!
Я чуть не поперхнулся. Как это — убивают? Дежурный опять пристально взглянул на меня, вздохнул и отпустил кнопку.
— Вон в ту дверь.
В полицейских участках обычно горит яркий люминесцентный свет, но здесь была лишь тусклая настольная лампа. В полумраке сидели два сыщика в штатском: усатый и бритый.
— Снимите с него наручники.
Это был, очевидно, знак доверия. Один из сыщиков указал на стул, и я сел. Наступило неловкое молчание.
— Значит так, мистер Старостин, — начал усатый, — Вам предъявляется обвинение в умышленном убийстве.
Лицо его сделалось еще более серьезным и смачным.
— В убийстве? Как это странно, — вырвалось у меня.
Полицейские переглянулись.
— Мистер Старостин, — оживился усатый, — кстати, вы не возражаете, если я буду называть вас просто Дмитрий?
Я покачал головой.
— Не возражаю, так как вы значительно старше меня.
Сыщик почему-то осекся, но тут же обратил замешательство в свою пользу.
— Вы знаете, Дмитрий, мне нравится ваша вежливость. Думаю, что вы воспитывались в хорошей семье.
Я неопределенно кивнул.
— Это не так часто можно встретить в нашей работе, — продолжил усатый, поглядывая на своего напарника — У меня это вызывает уважение.
Сейчас, решил я, было бы самое время предложить мне по-мужски.
Предложение поговорить «по-мужски» напомнило историю моего приятеля, которого звали Саня.
Оказавшись в Америке, Саня расстался с женой — точнее, она его бросила. Ни увещеваниями, ни мольбами Сане не удалось ее вернуть. Он страшно переживал. Жена переехала из Бруклина в Бронкс, но Сане удалось разузнать ее новый адрес. В первый раз, когда он пришел туда, на него посмотрели в глазок, но дверь не открыли. Вместо этого из-за двери донесся скрипучий мужской голос, который по-русски предупредил Саню, что здесь не Россия, и пригрозил заявить на него в полицию. Второй раз Саня основательно напился, приехал в Бронкс с пятилитровой банкой бензина, облил дверь, бросил спичку и ушел. Происходило все это средь бела дня. Саня особенно и не пытался прятаться: даже простоял еще пару минут на улице, глупо ухмыляясь. Тем не менее никто из жильцов его не заметил. Жена, конечно, сказала полиции, что «больше было некому», и вечером в Бруклин приехали два пожарных инспектора (в Америке они имеют и полицейские полномочия). Саня работал в супермаркете в вечернюю смену, и его пригласили в казенную машину для разговора.
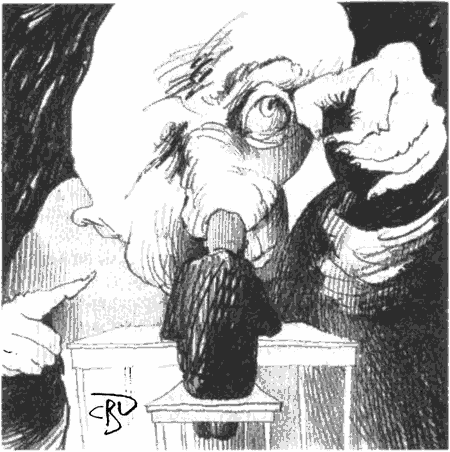
Инспектора были людьми неглупыми и быстро разобрались, что имеют дело с человеком неопытным и несчастным. Они усадили Саню на заднее сиденье, участливо поинтересовались работой и зарплатой, давая понять, что обращаются с ним не как с преступником. После этого один из инспекторов рассказал Сане о «небольшом пожарчике» в Бронксе. Тактика была избрана иная, чем со мной: не шокировать, а наоборот, успокоить. Саня удивлялся и качал головой, но не очень старательно. Инспектор решил, что нужный момент настал, и сказал тихо и доверительно:
— Послушай, парень, давай сейчас забудем про расследование. Я хочу с тобой поговорить как мужчина с мужчиной. Ну скажи мне начистоту: ведь это ты сделал?
Саня секунду помедлил и, размягченный сочувствием, ответил:
— Хорошо, инспектор. Поскольку разговор откровенный — скажу все как есть. Да, это действительно сделал я.
Утром следующего дня Саня уже получал одеяло и подушку в бруклинской тюрьме предварительного заключения. Впрочем, пожарные инспектора пощадили его чувства. Вместо того чтобы надеть на него наручники сразу же после слова «я», они потратили еще четыре минуты своего рабочего времени и тактично подождали, пока Саня не излил им душу на скверном английском языке.
Воспоминание об этой истории настроило меня на нужную волну, и я прервал затянувшееся молчание:
— Господа, в отношении того, о чем вы меня спрашиваете, я имею сообщить следующее. Я подтверждаю, — тут сыщики напряглись, — что минувшим вечером нечто действительно произошло в баре под названием «KGB». Об остальном я сообщу в присутствии своего адвоката.
Сыщики сразу сделались постными и официальными. Надо полагать, что после упоминания об адвокате они уже не имели права продолжать допрос.
Дежурный снова надел на меня наручники и отвел обратно в бокс. Чаю мне так и не предложили.
Два часа спустя, когда я сидел на лавке в углу, угрюмо дожидаясь рассвета, к прутьям решетки приникла крутая полицейская физиономия, которая прищурилась и произнесла:
— Ты, парень, плохо работаешь. Он остался жив.
— Правда? Веселые дела, — ответил я, стараясь казаться безучастным.
«Ну, слава Богу», — мелькнуло в сознании, прежде чем я погрузился в тяжелое забытье на несколько минут.
Впоследствии я изложил историю моего допроса другу-соотечественнику по имени Антон. Он слушал внимательно, иногда кивал, одобряя, очевидно, мое поведение.
Дослушав до конца, Антон затянулся сигаретой и сказал:
— Не знаю, конечно, как по их законам, а по нашим понятиям ты пару проколов дал. Не надо было никак выражать свою реакцию, вообще никак. Все эти «как это странно», «шутить изволите», все эти «ух», все эти «бля»… Надо сидеть и смотреть в одну точку, а если не можешь сдержаться, скажи: «Оставьте в покое невинного человека». Потом, это твое «нечто действительно произошло» — тут уж ты явно лоханулся.
— То есть как? А что же я, по-твоему, должен был сказать?
— А ничего. Молчать, в натуре.
— Так ведь нет смысла отрицать, что я там был. Они же не дураки. Две машины за мной прислали, сфотографировали, протокол составили.
— Протокол? Послушай вот, что со мной было. Приехали мы разрывать одного чувака, еще по арбатским делам. Мы войти не успели — жена его уже звонит по «02». Выполнили работу, спускаемся на лифте — в подъезд бегут мусора. В отделении следак говорит: «Подпиши вот эту бумагу — постараюсь устроить товарищеский суд». Как это тебе нравится? У меня статья «разбой», а он обещает, что меня в ЖЭКе будут судить. Я ему: «Гражданин следователь, я не понимаю, о чем вы говорите. Никогда я по этому адресу не был и никого там не грабил. Я вообще грабежом не занимаюсь». У следака челюсть отвисла. Кричит: «Да ты что? Тебя же целая бригада брала! И тебя, и твоих дружков!» Я отвечаю, опять же спокойно: «Не знаю, о каких дружках идет речь. Я гулял по улице, вдруг подъехал газик, меня схватили и привезли сюда. Вы меня с кем-то перепутали». Следак аж побледнел. «А, ты так, значит? Уведите его!» Я-то понимаю: ему надо в прокуратуру звонить, а там у него первым делом спросят: «Что он подписал?» Прокурору ведь надо, чтобы все шло гладко, — чистосердечное признание. А признание не всякий получить сумеет.
— А как же свидетели? — спросил я Антона.
— Свидетели… Да пусть меня хоть десять человек опознает. Это ведь как можно повернуть? Конечно, мол, видели бандюка в черной куртке и с цепочкой на шее. Вы меня привели, показали — ясное дело, куртка похожа, цепочка похожа, — они говорят: «Да, тот самый». Преступника не нашли — невинного подставили.
— Ну, а как быть, если против тебя прямые улики? Отпечатки пальцев, допустим. Это же неоспоримо.
— Неоспоримого, чтоб ты знал, ничего нет. Пальцы — тут отмазаться сложнее, это правда. Но и здесь есть методы. Например, следак тебе говорит: «Волына в лаборатории. Там подтвердили, что пальцы твои». А ты на это отвечаешь: «А волына — это что, пистолет? Так вы же сами на первом допросе мне этот пистолет на стол бросили, еще кричали: «Твой? Признавайся, твой?» А я пистолет от себя отодвинул: «Нет, не мой, уберите!» Вот когда отодвинул, конечно, оставил отпечатки.
— Да неужели все это работает? — поразился я.
— Если твое дело серьезное, сверху идет, — нет. Тут нужен известный адвокат и большие бабки. А в обычных случаях прокурору проблемы не нужны. Не подписал — значит дела нет. Сразу, конечно, дело не закроет. Будет несколько тяжелых дней.
— А это что такое?
— Как что? Навешают пи…юлей. Не сам следователь, а дознаватели, конечно. Руки за спину, наручники, сажают на табуретку — и дубинками. Тут у них с советских времен ничего не изменилось. Я еще легко отделался, а подельник мой решил дознавателю сдачи дать. Они разъярились, со всех сторон целая куча набежала его х…ячить. Подельник упал под стол, кто-то на него, еще кто-то сверху — полный хаос. Парень под столом рванулся, выполз с другой стороны, приподнялся — а дознаватели все еще друг на друге барахтаются, матерятся и под стол дубинками тычут. Вот тут-то его ужас и охватил. Подумалось, видишь ли, что он уже концы отдал, тело его мертвое под столом лежит, а душа со стороны эту картину наблюдает! Ну тут, правда, мусора сообразили, где он, и поставили все на свои места. В общем, три дня длились наши мучения, но не раскололся никто. А тут как раз путч начался, им совсем не до нас стало — закрыли дело за отсутствием состава преступления.

В США Антона обвинили в покушении на убийство. Обвинение было сомнительное и фактически основывалось на показаниях одного человека. Так или иначе, Антон ни на йоту не отступил от своих правил и отрицал даже сам факт знакомства с потерпевшим, несмотря на то, что их несколько раз сфотографировали вместе. Антон пытался воспроизвести знакомое российское судопроизводство, отказавшись, к примеру, от обычных на американских процессах двенадцати присяжных в пользу одного судьи. Правда, здесь он действительно один, без народных заседателей. Антон хотел, чтобы его судил профессионал, а не дилетанты-обыватели, которым от одной фразы «пять ножевых ранений» сделается дурно. Профессионал выслушал речи защитника и прокурора без всяких эмоций, стукнул по кафедре молоточком, признал Антона виновным и вкатил ему срок «от пяти до пятнадцати лет».
Осудили и меня — по статье «тяжкие телесные повреждения». Использовать для этого мои случайные обмолвки прокуратуре не потребовалось: хватило и прочих улик. Лишь однажды мне пришлось пожалеть о своей опрометчивости. Когда суду оставалось решить, сколько лет мне дать, прокурорша, изобразив негодование, рапортовала судье о моем пении в камере полицейского участка. Выглядело это так, что вместо раскаяния злодей, залитый кровью жертвы, предавался сатанинскому торжеству. На самом деле я от тоски пел «Гори, гори, моя звезда», но что им было до чувств дикого россиянина перед лицом судьбы? Любимая песня адмирала Колчака, возможно, добавила мне лишний год. Впрочем, винить я мог лишь себя: ведь у меня было право хранить молчание.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 12 Во все тяжкие
Глава 12 Во все тяжкие Подобно «Титанику», идеальный образ Леонардо, сложившийся в начале 1998 года, казался непотопляемым. Армия пятнадцатилетних фанаток считала его безупречным: чрезвычайно хорош собой, но при этом больше всех любит свою маму; следит за тем, чтобы любимую
Глава вторая Новые партии – тяжкие заботы
Глава вторая Новые партии – тяжкие заботы 4 октября 1903 года Федор Иванович проснулся, как обычно, поздно. В ужасе потрогал горло. «О Господи! Кажется, опять распухло».– Иолинка! – тихо позвал жену, но никто не услышал его слабый голос и не откликнулся.Встал, накинул халат,
Письмо сэра Энтони Хопкинса Брайану Кренстону (исполнителю главной роли в телесериале «Во все тяжкие»)
Письмо сэра Энтони Хопкинса Брайану Кренстону (исполнителю главной роли в телесериале «Во все тяжкие») Уважаемый господин Кренстон!Я хотел написать вам это письмо, так что позволил себе связаться с вами через Джереми Барбера — мне известно, что нас обоих представляет UTA.
10 вещей, которые вы не заметили в сериале «Во все тяжкие»
10 вещей, которые вы не заметили в сериале «Во все тяжкие» В киноиндустрии есть такое понятие как «пасхальные яйца». Их могут заметить только самые внимательные телезрители. Эти «пасхальные яйца» можно назвать еще и подсказками, по которым можно догадаться о последующих
Потери в личном составе и повреждения броненосца «Орел» за время дневного артиллерийского боя 14 мая
Потери в личном составе и повреждения броненосца «Орел» за время дневного артиллерийского боя 14 мая Первая стадия боя до 3 часов дня. Попадания неприятельских снарядов в «Орел» начались вскоре после открытия огня, когда японские броненосные крейсера стали расстреливать
Повреждения «Орла» в последней стадии боя до темноты
Повреждения «Орла» в последней стадии боя до темноты Последний период боя 14 мая с 6 часов до темноты броненосец «Орел» вел огонь правым бортом против отряда японских броненосцев, а с левого борта подвергался обстрелу броненосных крейсеров. Вместе с головным броненосцем