27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825
27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825
Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай.
И. Пущин.
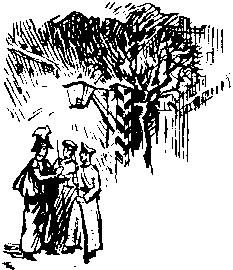
27 ноября у Бестужева был свободный от дежурства день. Позавтракав, он сидел в малиновом архалуке с желтыми кистями на диване у Рылеева. Кондратий Федорович пересказывал вчерашние известия, лежа в постели: ему нездоровилось. Звон шпор и громкий голос Якубовича, донесшиеся из передней, заставили его остановиться на полуслове. Якубович бежал по комнатам в шинели и шляпе, вытянув вперед правую руку, которой для скорости распахивал встречавшиеся на пути двери.
— Царь умер! — сказал он, останавливаясь на пороге и не опуская руки. — Это вы его вырвали у меня!
Затем страшно заскрежетал зубами и опрометью кинулся бежать назад в переднюю, крича по дороге:
— Во дворце присягают Константину, впрочем, это еще неверно, — говорят, по завещанию надобно присягать Николаю…
Через минуту его не было в квартире.
Бестужев вскочил бледный. Рылеев зарылся лицом в подушки. Слов не было ни у того, ни у другого.
Александр Александрович, прыгая через три ступеньки, поднялся к себе, живо сбросил архалук, натянул ботфорты и уже начал застегивать мундир, когда в комнату вошел Николай Александрович.
— Что делать? — спросил он.
— Я еду по полкам узнавать, кому присягают. Далее, право, не знаю.
Был час дня. В кабинете Рылеева появились Батенков с Торсоном. Гаврила Степаныч имел такой деловой вид, словно пришел продавать дом или имение.
— Любезный Кондратий Федорович, — сказал он, — вы уже знаете о происшествиях. Итак, представилась законность искать чего-либо для пользы отечества. Памятуя многие ваши о сем слова и речи, спрошу просто: есть у вас для действия средства?
Рылеев молчал. Батенков встал и начал прощаться
— Постойте, Гаврила Степаныч! — воскликнул Николай Александрович. — Постойте! Слушай, Рылеев. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от тебя, что смерть императора назначена обществом эпохою для начатия действий оного. Узнав о съезде во дворце и о замешательстве наследников престола, я бросился к тебе. Происшествие неожиданно, весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действий я вижу, что ты совершенно не знал об этом. Я вижу благоприятную минуту пропущенною, но не вижу общества, не вижу никакого начала к действию! Рылеев, ты поступил с нами иначе, нежели должно было.
Рылеев долго молчал, опершись локтями на колени и спрятав лицо между ладонями. Наконец сказал:
— Это обстоятельство дает нам явное понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру, между тем я поеду собрать слухи, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске.
Батенков взял шляпу.
— Еду присягать в церковь Военно-строительного училища, — выговорил он так деловито, как будто, не сторговав ничего в этом месте, решил за тем же самым обратиться в другое. — Итак, потерян случай, которому подобного не будет в целые пятьдесят лет. Если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы вместе и новому государю и новым законам. Теперь все пропало невозвратно. Еду присягать.
Вслед за Батенковым рассыпались все. Бестужев отправился в извозчичьей карете в Измайловский полк. Неподалеку от казарм ему стали попадаться офицеры. Он кричал через поднятое окно:
— Кому у вас присягают, господа?
Один отвечал — Константину, другой назвал Николая, нашелся третий, который ответил:
— Елизавете [46].
Им было все равно.
В половине восьмого Бестужев вошел к Рылееву измученный и злой. Кондратий Федорович успел побывать у Каховского, рассказал ему о происшествиях, обнимал, целовал, говорил со слезами:
— Ну, подозревай меня, действуй против меня, если начну что-нибудь во вред отечеству или что для своей выгоды…
Каховский отвечал объятиями. Ветер событий поднимал его над подозрениями и мелкой враждой, выносил на простор небывалых ожиданий, а слова Рылеева указывали путь.
К восьми часам у Рылеева собралось много народу. Приехали Николай Александрович, Оболенский, наконец Трубецкой. Старший Бестужев, как бы стыдясь того ожесточения против Рылеева, которое он проявил днем, был дружественно нежен с Кондратием Федоровичем и спокоен больше, чем всегда. Он поздравил собравшихся с тем, что произошло. Трудно знать, чем все кончится, но хорошо уже, что прежнего не будет. Многие из знакомых офицеров говорили Николаю Александровичу, что гвардейские солдаты с отменным удовольствием присягали цесаревичу Константину, толкуя о том, что жалованье в Варшаве нижним чинам платится серебром, что и здесь теперь, наверно, прибавят, а что года два службы уж, конечно, убавят. Оболенский сказал, что он сегодня спрашивал у кавалергардского корнета Александра Муравьева, брата Никиты, можно ли надеяться на кавалергардский полк для произведения бунта, по Муравьев отвечал, что намерение это просто безумно. При слове «бунт» Трубецкой сердито сморщился и сейчас же начал говорить. Кто хочет бунта? Никто. Речь идет о перевороте, вроде южно-европейских пронунциаменто 1820 года, а вовсе не о бунте. Все надо сделать без опасного участия народного, а войскам надлежит выступить в строю и под командой своих офицеров. Боже сохрани, если дисциплина будет нарушена. Секрет «легкости и удобности свершения революций» — в поддержании дисциплины; нужно благодетельное направление всем мерам, которые для введения нового порядка в государственном устройстве приниматься будут, и задача тайного общества в том, чтобы это направление обеспечить. Против мысли Трубецкого никто не возражал. Но для такого рода действий у общества сил не было; ни противиться восшествию на престол Константина, ни предпринять что-либо решительное общество не могло.
— О сем весьма пожалеть следует, — заметил Трубецкой докторально, — а для твердой монархической конституции желательно было бы иметь в России государыней императрицу Елизавету Алексеевну.
И эта мысль Трубецкого при всей своей неожиданности показалась очень веской и правильной: Константин — солдафон, деспот, заклятый враг всего, что хоть сколько-нибудь отзывается свободой мысли, а Елизавета… кто знает, что такое Елизавета?
Александр Бестужев слушал эти рассуждения и принимал решения, казавшиеся ему сегодня окончательными. Действительно, общество с его прозаическими спорами, ссорами, с сумасшедшим Каховским, с вечно кипящим без всякого толку Рылеевым, с величественным Трубецким — не нужно. Не сумев ничего сделать до сих пор, оно еще меньше сумеет сделать впоследствии. Прав был брат Николай, когда напал сегодня днем на Рылеева.
Бестужев начал высказывать свои соображения.
Он говорил ясно, просто, будто вынимал из кармана и раскладывал вынутое на столе. Не возражал никто. Трубецкой и Оболенский поднялись с кресел.
— Итак, действия общества на время прекращаются, — грустно выговорил Рылеев.
Оболенский прошептал:
— Надолго, а может быть, и навсегда отдаляется осуществление лучшей нашей мечты…
Оба князя уехали. Шел одиннадцатый час. Рылеев и братья Бестужевы долго сидели молча. Наконец Николай Александрович заговорил. То, что он говорил, логически вытекало из тех же самых причин, по которым только что было решено прекратить действия общества, но в то же время совершенно разнилось от этих печальных выводов. Он находил, что закрытие общества вовсе не означает, что у его членов связаны руки. Александр сам не заметил, как сказал бесценное слово: каждый, в ком жив дух общества, должен делать то, чего этот дух требует. Возможностей — сколько угодно, и поле для действия— самое обширное.
— Вот нас сейчас здесь трое, — говорил старший Бестужев, — мы не общество, но ведь мы не изменились оттого, что уехали от нас Трубецкой с Оболенским. Что мы могли бы предпринять сегодня же?
— Написать прокламации к войскам и разбросать их тайно по казармам! — воскликнул Рылеев.
— Дельно!
Бумага легла тремя пачками на стол. Перья заскрипели. Наталья Михайловна входила и выходила, поглядывая с осторожностью. Исписанные листы летели под стол. Александр Бестужев сочинил по крайней мере десяток прокламаций и все разорвал. Дело не ладилось.
— Нет, невозможно, — сказал он, наконец, с изнеможением, — такие вещи не делаются по заказу…
Рылеев согласился.
— Вот мнение мое, — сказал он, — идти нам сейчас втроем по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до пятнадцати лет солдатская служба.
Через минуту шинели были надеты, дверь на улицу хлопнула, и три темные человеческие фигуры быстро разошлись по набережной в разные стороны.
Бестужев вернулся домой под утро. Было холодно. Он дрожал — не губы только и не одни руки, но все нутро его было охвачено мелкой рассыпчатой дрожью. От холода ли? Сказать трудно. Уже лежа в постели, закрытый до подбородка теплым одеялом, он продолжал дрожать, перебирая в памяти ночные встречи. Их было немало. Он подзывал к себе прохожих солдат и говорил им с убеждением и страстью о правах, исторгнутых у народа обманом. Солдаты слушали, постепенно опуская руки от киверов, и такая свирепая жадность загоралась на их усталых лицах, такой блеск радости вырывался из глаз, что Бестужев понял: революция на пороге.
«Я думаю, до вас дошли уже вести, любезная матушка, что государь скончался в Таганроге 19-го числа… Здесь эту новость получили в 11 часов вчерась — и сей час собрался совет. Николай Пав[лович] велел присягать Константину, но Оленин сказал, что есть духовная. Принесли — и там найдено было, что царствовать Николаю, за тем что Константин отказался, за себя и наследников. Однако Ник[олай] все-таки не хотел перебить у брата, начали присягать. Все приняли это хладнокровно и тихо. Полки, шедши на присягу, не знали кому — но тихо обошлось. Теперь есть и манифест сената. Однако никто не знает, примет ли Конст[антин], — а в Москве, говорят, Николаю присягнули[47], за тем что дубликат духовной был там. Недоумение везде. Везде говорят тихомолком. Слез немало видно, даже и в первые минуты во дворце, когда я был там с герцогом. — Приезжайте скорее сюда. А я отложу на несколько времени свою поездку в Москву: надо оглядеться. Смирно ли то у вас? — а здесь как будто ничего не бывало, несмотря на неожиданность. Государыня молодая больна — бедняга, ей плохое будет житье. Старая государыня печальна. Ник[олай] Пав[лович] распоряжается всем и не показывает отчаяния. Ждут перемен больших — не знают, когда будет император — он поехал в Таганрог…[48] Будьте здоровы… и покойны, любезная матушка. Нетерпеливо жду вас увидеть и дай бог поскорее… спешу писать только о важном, ибо другие мелочи и в ум нейдут…» [49]
Бестужев запечатал письмо и задумался. Несмотря на вчерашние разговоры и решения, он не верил в тишину. И ему очень хотелось, чтобы Прасковья Михайловна с сестрами поскорее приехала в Петербург. Зачем, собственно, это нужно, он не знал.
В девять часов вернулся Рылеев. Бестужев спустился к нему. В десятом часу появился поручик лейб-гренадерского полка Сутгоф. Бестужев видел его в первый раз и удивился крепости, с какой был внутренне слажен этот высокий рыжеватый офицер, — второй Каховский, такой же стремительный, но только без всяких признаков душевного надлома.
После вчерашних постановлений странно прозвучали твердые слова Сутгофа:
— Когда же действовать? А я уже говорил напрямки со своею ротою, и она вся готова.
Рылеев и словом не упомянул о том, что общество приостановило работу. Однако, не зная, что ответить на вопрос Сутгофа, сказал неопределенно:
— Каховскому передайте, что время подходит…
Бестужев хотел вмешаться: «Какое время подходит, когда все только что провалилось?» — И вдруг понял, что этого говорить не надо и что Рылеев прав.
Сутгоф уехал. Пришел брат Николай.
— Что ж, будем продолжать ночные наши прогулки?
Дождались полночи и снова пошли ходить по городу. Бестужев и на этот раз вернулся под утро, взволнованный до дрожи. Из встреченных им солдат только один не знал ничего об укрытом от народа завещании покойного императора. Все остальные уже слышали от товарищей. За сутки весть эта разнеслась по войскам, и казармы были полны ею.
Утром 29 ноября Рылеев заболел: горло его распухло, голос спал с обычного звонкого тона на глухой хрип, жар светился в покрасневших глазах, и щеки огненно румянились. Он глотал с трудом. Доктор объявил:
— Жаба.
Яков побежал с латинскими рецептами в аптеку. Рылеев лег па диван. Наталья Михайловна плотно обвязала его шею шарфом, так плотно, что, когда он хотел повернуть голову, ему приходилось поворачивать весь корпус.
Ночные прогулки не прошли для него даром.
Вскоре приехал Трубецкой. У него были важные сведения: Константин ни в каком случае не примет престола, и принесенная ему присяга — напрасная и опрометчивая затея. Трубецкой полагал, что надо предвидеть именно такой оборот дела, заранее приготовясь им воспользоваться. А воспользоваться следует непременно.
— Если ж слух сей несправедлив, — говорил он, — то надобно выждать, что предпримут на юге. Это очень может случиться, что южные подымутся, ибо они готовы взяться с каждого случая. Обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Когда же Константин Павлович отречение не подтвердит или южные случай сей пропустят, тогда надлежит просто объявить общество уничтоженным и действовать каждому, оставшись друзьями, сообразно правил наших и чувствований сердца, но сколь можно осторожнее.
— Как же именно, князь? — прохрипел Рылеев.
— Вот как: стараться года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках.
Рылеев быстро повернулся на бок.
— В таком случае полезно будет обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию.
Трубецкой одобрил эту мысль и уехал.
К полудню у дивана, на котором лежал больной, собрались Александр и Николай Бестужевы и Каховский. Рылеев передал им свой утренний разговор с Трубецким и добавил от себя:
— Любезные друзья, предстоит ли действовать или нет, но человек осторожный, хладнокровный и предусмотрительный нам нужен в начальники. Не таков ли Трубецкой? Он с именем, гвардия его знает, да и полковничьи его эполеты весят много, чтобы показаться перед войском. Я предлагаю Трубецкого в диктаторы.
Никто не спорил.
Бестужев видел ясно, что Рылеев вовсе не хочет отказываться от действий. Будущее представлялось сегодня уже совсем в другом виде, чем вчера, когда он писал письмо в Сольцы. Быть заживо привязанным к трупу — тяжело, но привязан не он один, и не лучше ли влачить грозную судьбу не в одиночестве? Брат Николай ответит за себя — он разумен и осмотрителен. Другое дело — Мишель, пылкий, молодой и неопытный. Как взглянуть матушке в глаза, когда погибнет Мишель? Он ходил по комнате, раскуривая трубку за трубкой. Наконец не выдержал и схватился за шляпу. В четыре часа дня он был уже у Мишеля, в Московских казармах. Братья заперлись и разговаривали долго.
— Ты не годишься для этого, Мишель, — убеждал Александр Александрович, — хоть солдаты и любят тебя, но не забудь — ты вовсе недавно командуешь ротой. Не забудь и другого — ты обязан благодарностью к Михайлу Павловичу; он перевел тебя в гвардию. Тебе ли платить ему злом?
Мишель слушал встревоженно, с серьезным лицом. Но последний аргумент брата его рассмешил:
— А чем, любезный Саша, думаешь ты отплатить своему герцогу за его немецкие ласки?
К девяти часам вечера оба Бестужевы приехали из казарм на Мойку. Комнаты Рылеева были полны посетителями. Карточный столик придвинут к дивану, на котором лежал больной. Вокруг него сидели Трубецкой, Оболенский, Николай Бестужев, Каховский, Арбузов из гвардейского экипажа и Сутгоф из лейб-гренадерского полка. Было похоже на заседание.
Речь шла о том, что делать, если Константин трона не примет и не приедет. Говорили все вместе, громко выкрикивая проект за проектом. Рылеев прохрипел что-то о захвате Кронштадта. Кто-то напомнил о Петропавловской крепости. Трубецкой сделал отрицательный знак рукой: не следует разбивать силы. Арбузов мрачно сказал, что надо будет занять дворец.
Трубецкого коробило от этих беспорядочных возгласов.
— Обстоятельства покажут, что делать, — сухо и неопределенно выговорил он, и волна возбуждения постепенно начала спадать.
В маленькой комнате было тесно, жарко, и синие облака трубочного дыма свертывались под потолком.
Рылеев начал задыхаться. Багровый от жара, кипятившего его внутренности, хриплый, он вертелся на диване и говорил. Слова его, царапаясь, сползали с сухого языка.
— Предвижу сам, — твердил он, — что не будет успеха, но потрясение необходимо. Тактика революций заключается в одном слове «дерзай!». И, ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других…
Такой взгляд на предстоящее был нов и увлекателен свыше всякой меры. Бестужев чувствовал, слушая
Рылеева, как мир становится другим. Уже все равно, что будет и как. Лечь под пулей, сгнить в каземате— безразлично, лишь бы дрогнуло и проснулось царство, продремавшее века.
В полдень 30-го приехал на Мойку Оболенский. Рылеев сообщил ему, что Трубецкой выбран в диктаторы одной отраслью. Оболенский сейчас же дал согласие свое и за свою отрасль [50]. Кроме того, рассказал, что им принят сегодня в общество подпоручик гвардейского генерального штаба граф Петр Коновницын, сын покойного военного министра. По родству Коновницына с Сутгофом. Оболенский поручил ему быть в день восстания в лейб-гренадерском полку.
К двум часам появился Трубецкой — он навещал больного ежедневно именно в это время. Услышав о своем избрании в диктаторы, князь смутился. Оа долго отговаривался, ссылаясь на то, что давно уже не служит в строю и что гвардия его забыла, на скорый отъезд в Киев, даже на характер свой — мягкий и нерешительный во всех случаях, когда дело идет не об одной только личной храбрости. И, наконец, дал согласие очень неохотно, уехав с такой поспешностью, как будто опасался, что его схватят и вернут. Он был заметно расстроен, и блеск нового положения в тайном обществе не разгладил ни одной из морщин, которых было немало на его худом лице.
Затем прибежал Кюхельбекер. Узнав о болезни Рылеева, он бросил множество важных литературных занятий, чтобы осведомиться о здоровье. Кондратий Федорович слушал возгласы Кюхельбекера, который не умел говорить тихо, как все глуховатые люди, и думал. Кюхельбекер вдруг заметил, что рассказы его упали в бездну, и обиженно замолчал. Но Рылеев улыбнулся так жалко и страдальчески, что Кюхельбекер мгновенно кинулся к нему с объятиями. Рылеев попросил его прикрыть дверь и сесть рядом. Кюхельбекер ушел с Мойки членом общества.
Батенков пришел около восьми часов, по его словам, «посмотреть» Рылеева и застал у него, по обыкновению последних дней, несколько человек. Все говорили вперебой, ходили из комнаты в комнату, пили чай, дымили трубками, и картина эта очень не понравилась Гавриле Степановичу. Но особенно возмутил его Арбузов, который кричал:
— Да что! Очень просто на солдат действовать. К примеру, ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно «закон» да пронести по полкам, то все сделать можно, чего бы ни захотели…
Кто-то сказал, что следовало бы выяснить, где находится подлинный акт отречения Константина и не отправлен ли он из Государственного совета в Варшаву с прочими документами. Арбузов тотчас вскочил со стула, на который присел, чтобы передохнуть.
— Надобно достать его, непременно достать! — закричал он отчаянно, с таким видом, будто сейчас же собирался бежать куда-то за этим актом.
Батенков чувствовал себя неловко в суматохе рылеевских комнат и поэтому был очень доволен, когда снова приехал Трубецкой. Сергей Петрович взял Батенкова под руку и прошел с ним к Рылееву. Было что-то отменно внушительное в длинной фигуре Трубецкого — продуманная и строгая сдержанность походки, приличная и умеренная свобода движений. Разговоры притихли, и поручики с лейтенантами незаметно вышли один за другим из комнаты больного. Батенков смотрел на Трубецкого с уважением. «Соединение власти и благородия» всегда его восхищало— Трубецкой был живым олицетворением такого соединения. Батенков и Трубецкой были приятны и, может быть, даже нужны друг другу. Аристократ, замышляющий свергнуть дворянское правительство, и томский мещанин, собирающийся пробраться на гребне революции в министры, — эти два человека замыкали круг коренной двойственности задач переворота, тот круг, в котором так мучительно бился Рылеев.
Следом за Трубецким появился Оболенский. Бестужев прикрыл дверь кабинета и вернулся к дивану. Оболенский грыз ногти и молчал. Рылеев лежал лицом к стене.
— Итак, еще раз и окончательно принимаем, — сказал Трубецкой, — ежели Константин Павлович не отринет короны, отложить действие на два-три года.
— На десять лет, — поправил Батенков, — и обратить все внимание на то, чтоб составить собой аристократию и произвести перемену простым требованием, а не мятежом.
Бестужев ощутил, как камень тяжкого беспокойства, лежавший с 27-го числа на его сердце, скатился прочь.
1 декабря, в пять часов дня, граф Аракчеев явился в Зимний дворец, представился императрице-матери, вручил великому князю Николаю рапорт о вступлении в командование военными поселениями в связи с облегчением от болезни и донес, что военные поселения тихо и покорно присягнули императору Константину.
Новость эта мгновенно разнеслась по Петербургу, и негодование против друга покойного императора стало всеобщим.
— Итак, — говорил Бестужев вечером у Рылеева, — смерть девки отняла у Аракчеева способность заниматься государственными делами, а кончина императора ему оную возвратила…
Оболенский, брат Николай Александрович и Сутгоф весело засмеялись. Каховский нахмурился. Арбузов не разобрал, в чем дело.
Вечером 2 декабря рылеевская квартира опять наполнилась людьми — это стало законом последних дней, со времени болезни хозяина. Сюда собирались, чтобы узнать, нет ли новостей, справиться о здоровье больного, увидеть друг друга, рассказать о слышанном за день. То же было и 3 декабря.
Бестужев сидел у Рылеева, когда приехал Якубович. Капитан только что видел Милорадовича у драматурга Шаховского и передал свой разговор с графом.
— Граф, я не присягну другому, покуда Константин Павлович лично не приедет отказаться, — будто бы сказал Якубович.
Генерал-губернатор крепко сжал его руку.
— Поверьте, не вы один так думаете.
Оболенский пришел сообщить о решительных словах своего генерала, сказанных несколько часов назад. Генерал Бистром, командующий гвардейской пехотой, громко заявил окружавшим его адъютантам, что он присягнул Константину и больше никому присягать не будет. Один за другим приходили члены общества из числа строевых офицеров и говорили, что в войсках гвардии ропот и что полки грудью хотят стоять за Константина. Якубович закричал с огненной энергией:
— Я увлеку Измайловский полк!
Бестужев вдруг увидел прежнего, готового на все отчаянное Якубовича.
Кондратий Федорович дрожал не то от озноба, не то от волнения. Он сделал головой резкое движение, чтобы освободиться от давившего его шею шарфа, и прохрипел:
— Вот что я знаю: Константин подлинно отрекся. Дабы не обделить экс-императора, Польша с Литвой и Подолией отходят от России под его власть…
Сердце Бестужева вдруг превратилось в клокочущий котел.
Как, эти люди семейной сделкой решают судьбу России? Да разве это возможно? Разве не осталось в России патриотов, не членов тайного общества, нет, а просто патриотов, которые не позволят потрошить свою родину? Они есть, и первый из них — Бестужев. Его ноги никогда не ощущали под собой такой твердой земли, как сейчас. Никогда он не переживал такого страшного припадка гнева и ненависти к бледноликому деспоту Николаю, любви и сострадания к истерзанной родине. Все, что было до сих пор, казалось пустым наигрышем настроений, и если дух романтических порывов — сила, то только в любви к отечеству эта сила может проявиться со всей энергией освобожденной мысли и страстно экзальтированного чувства.
Бестужев вдруг понял, как страшна острота еще недозревшего кризиса. Вторая присяга все решит. В этой великой пробе сил могут перемолоться жизни заговорщиков, но Бестужев не боялся гибели.
— Мы имеем, чтобы восстать, — твердил он, — политическое право, как в чистое междуцарствие.
Действительно, старая законная власть готова была исчезнуть в лице отрекавшегося Константина, законность новой власти — Николая — отнюдь не была доказана. Не принадлежит ли каждому в этих обстоятельствах право принять участие в создании новой законной власти?
Рылеев объявил, что совещательная Дума общества уничтожена. Дальнейших распоряжений надлежало ждать от диктатора Трубецкого.
Трубецкой приехал 8 декабря на Мойку около полудня. Бестужев явился вечером, прямо с дежурства при герцоге. Следом пришли Якубович и Арбузов, затем Николай Александрович. Рылеев уже не лежал, а сидел возле столика с книгами и лекарствами. На шее вместо шарфа была легкая повязка, но по привычке последних дней Рылеев делал нервные движения шеей, словно желая освободить ее из туго завязанного галстука.
— Любовник носит на шее портрет своей возлюбленной, скряга — ключи, верующий — частицу мощей, а висельник — веревку, — сказал Бестужев.
Засмеялись все, кроме Рылеева. Он молчал, и худое лицо его было похоже на маску неподвижностью и желтизной. Настал миг, полный тишины. Бестужев хотел что-то сказать и — не смог. Рылеев сделал по комнате круг, волоча полы халата, и сел в кресло. Дверь распахнулась, и вошел Каховский, решительный, быстрый, воспаленный. Он видел только Рылеева, сидевшего против двери, и подступил прямо к нему.
— Когда же? Когда — я спрашиваю. Я хочу жертвовать собою. Я готов убить кого угодно для цели общества. Но пусть оно назначит.
Он отскочил от Рылеева, словно босой ногой наступил на гвоздь, и тут только заметил Бестужевых.
— Назначьте, назначьте, кого должно мне поразить, и я поражу. Теперь все в недоумении, все в брожении, достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться на нашу сторону. Назначьте…
Он дышал неровно и тяжело.
— Напрасно ты сделался членом общества, — тихо сказал Рылеев. — Тебе объявлен его план. Твоя обязанность слепо повиноваться. А участь фамилии будет зависеть от общего голоса членов.
Николай Александрович взял Каховского за руку.
— Рылеев говорит правильно. Цель общества в преобразовании правительства, а вовсе не в убийствах…
Каховский перебил:
— Знаю, все знаю… Но смотрите, господа! Претенденты на самодержавие всегда вредили намерениям конституции. Смотрите, чтобы вам не раскаяться…
9 декабря Бестужев опять вернулся с дежурства поздно — уже пробило восемь часов. Он вошел к Рылееву и, к удивлению своему, увидел его и брата Мишеля, сидевших рядом, в объятиях и слезах.
— Я не верил тебе, — говорил Мишелю Кондратий Федорович, — ты молод, но я ошибался. Ты настоящий патриот.
Мишель был готов действовать и спрашивал только — как? Александр Александрович поцеловал брата. Теперь, пожалуй, он и сам не стал бы его отговаривать. Конечно! Мишель брался поднять свою роту.
К девяти часам появились Оболенский, Трубецкой, Каховский, Арбузов, Сутгоф. Сверху спустился Штейнгель, потом от Прокофьева — Батенков. Наконец приехали только что прискакавшие из
Москвы Пущин и Одоевский с Вильгельмом Кюхельбекером. Яков в передней принимал шинели, стараясь запомнить владельцев. Кюхельбекер повел Бестужева в переднюю смотреть свою новую шинель, вчера забранную от портного в долг. Держа у вешалки огарок свечи, он по рассеянности гладил голову Якова вместо пушистого бобра на воротнике.
Возле ширм, за которыми скрывался Рылеев, сидели Трубецкой, Батенков, Оболенский, Штейнгель, прочие толпились в столовой. Яков начал разносить чай. Рылеев выглянул из-за ширм и крикнул весело:
— Вот целый полк либералов!
Штейнгель погладил одутловатую щеку.
— А все-таки республика в России невозможна, — сказал он трагическим голосом, — и революция с этой целью будет гибельна. В одной Москве из 250 тысяч ее жителей 90 тысяч крепостной дворни, готовой взяться за ножи, и первыми жертвами, господа, будут ваши бабушки, тетушки и сестры. Если же непременно хотите перемены порядка, то лучше произвести революцию дворцовую и признать царствующею императрицею Елизавету Алексеевну.
Рылеев сейчас же возразил:
— Не в деспоте дело, а в ненавистном, оскорбительном для человечества деспотизме.
Заговорили о плане революции: один полк идет к другому, поднимает его, вместе идут к третьему, поднимают, наконец все сходятся на Сенатской площади— так предлагал Трубецкой.
Рылеев задумался.
— Я против того, чтобы полки шли один к другому, — вдруг сказал он, — это слишком долго будет.
Молча куривший до сих пор Трубецкой вынул изо рта трубку.
— Так необходимо. Без этого ничего нельзя сделать. И вот что еще: когда полки будут идти один к другому, то нам не надобно быть с ними или по крайней мере при первых.
Бестужев уже видел эту могучую лавину штыков, катившуюся по улицам с городских окраин к центральным площадям, наполнявшую площади, разливавшуюся вокруг дворца, бурлившую у подъездов, мимо которых бедные, темные люди проходят, снимая шапки, и за которыми ткется железная паутина рабства. Он видел, как тонут подъезды в прибое солдатских волн, как шатается старый, проклятый дворец…
— Можно будет и во дворец забраться! — крикнул он радостно.
Батенков вздернул свою длинную голову.
— Боже спаси! Дворец должен быть священным местом. Если солдат до него прикоснется, то уже и черт его ни от чего не удержит.
Рылеев потушил спор:
— В крепость может прямо пройти лейб-гренадерский полк.
Трубецкой не согласился, — он всегда был против занятия крепости.
— Это разъединит силы.
Из соседней комнаты доносились буйные возгласы Арбузова:
— И с горстью солдат все можно сделать.
Трубецкой сморщил лицо.
— Кондратий Федорович, худо, что дух членов бунтует.
Рылеев засмеялся.
— Успокоится. Итак, князь, сколько же надо силы для совершения?
— По крайней мере тысяч шесть человек солдат.
Если же будет можно совершенно надеяться на один полк, что он непременно выйдет, и притом еще гвардейский экипаж, а в некоторых других полках будет колебание, то и тогда можно начать, потому что посредством первого полка можно будет вывести и другие. Но первым полком должен быть один из старых коренных гвардейских полков, каков Измайловский, потому что к младшим полкам, может быть, не пристанут.
Рылеев закрыл и открыл глаза, будто пересчитал что-то.
— За два — Московский и лейб-гренадерский, кроме экипажа, наверное отвечаю.
Так провел Бестужев вечер 9 декабря.
На следующий день ему надо было явиться на дежурство к двенадцати часам утра. Он уже собирался ехать, досадуя и возмущаясь глупой необходимостью торчать в передней немецкого высочества, когда дверь растворилась и Николай Александрович с младшим братом Петрушей вошли в комнату. Петруша вчера только приехал из Кронштадта. После объятий и поцелуев Николай Александрович сказал:
— Любезный Саша, я привел к тебе Петра; чтобы ты уговорил его уехать из Петербурга. Он не хочет слушать меня, так как по неосторожности моей уведомился насчет наших планов. Но ведь должны же мы оставить в случае несчастья кого-нибудь матушке из ее взрослых сыновей. А Павел еще вовсе ребенок…
Петруша упорно отстаивал свое право заговорщика участвовать в опасных предприятиях общества, и не мало хитрости, нежности, путаных обещаний и просьб понадобилось для того, чтобы он, наконец, согласился в тот же день вернуться в Кронштадт. Он обещал это со слезами, с ропотом на братский деспотизм, с пламенным желанием быть «у самого дела». Вечером Трубецкой привез на Мойку важный слух: Карамзин и Сперанский заняты сочинением манифеста о вступлении на трон Николая. Это означало конец династического кризиса и начало революционной борьбы. Рылеев объявил, что есть надежда, кроме прежних трех полков, поднять еще Финляндский, Измайловский и егерский. Он особенно напирал на Финляндский и даже называл фамилии «готовых» офицеров: барон Розен, штабс-капитан Репин. Все заговорили сразу и почти в одинаковых словах:
— Итак, господа, сами обстоятельства призывают к начатию действий, и не воспользоваться оными со столь значительными силами было бы непростительное малодушие и даже преступление.
Бестужев снова был в лихорадке. Вот они, полки, о которых говорит Рылеев. Люди хватают ружья из стоек и бегут из казарменных спален на полковые дворы. Падают двери под напором сотен тел. Впереди — он, Бестужев…
11 декабря Рылеев снял повязку с шеи — он выздоровел. Бестужев зван был обедать к Булгарину.
По дороге на Вознесенский проспект встретился ему Ф. Н. Глинка — свой человек и не свой, — он ни разу не был за все последние дни у Рылеева. Однако, завидев Бестужева, Глинка остановил его и, оглядываясь, заговорил:
— Ну, вот и приспевает время. Смотрите, господа, без насилий…
Бестужев вернулся на Мойку к шести часам и застал там Мишеля, который привез с собой трех офицеров Московского полка — князя Щепина-Ростовского, Волкова и князя Кудашева. Щепин был широк в плечах, румян, курчав и с бешеной горячностью повторял за Мишелем, что конституция нужна для России, а Константин для конституции. Как видно, ему не сказали всего.
Приехал Оболенский. Рылеев познакомил с ним Щепина и сказал:
— Завтра, князь, прошу вас быть у князя Оболенского представителем от Московского полка на собрании офицеров.
— Есть, — ответил Щепин по-морскому — он был раньше моряком, — и так сжал кулаки, что крупные яблоки мышц запрыгали у него на руках под тонким сукном мундира.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава I. 14 декабря 1825 года
Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Ещё миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825
Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825 Царствование Александра I стало началом «золотого» века Российской империи. Он сменил на престоле своего отца Павла I – человека странного, придерживавшегося консервативных взглядов на
Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825
Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825 РодителиОтец – император Павел I Петрович (20.09.1754-12.01.1801).Мать – императрица Мария Федоровна, принцесса Софья-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская
Глава I 14 декабря 1825 года
Глава I 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождем дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг, и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
Глава I. 14 декабря 1825 года
Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
Год 1825
Год 1825 7 мая. В Петербурге умер брат Е. А. Арсеньевой, тайный советник, обер-прокурор Сената Аркадий Алексеевич Столыпин, близкий к кругам декабристов, приятель Грибоедова, Кюхельбекера и Рылеева. Впоследствии, 26 декабря 1825 года, со слов Рылеева, Н. А. Бестужев показал на
Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года
Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года [1]Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это
МАРТ 1825 — МАЙ 1825
МАРТ 1825 — МАЙ 1825 Так за скалу хватается пловец, Которая разбить его грозила. Гёте. «Полярная звезда» вышла 21 марта. Издатели находили, что опоздание с выходом в свет оказалось очень полезным для альманаха и что «Полярная звезда» 1825 года выгодно отличалась от своих
МАЙ 1825 — АВГУСТ 1825
МАЙ 1825 — АВГУСТ 1825 Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? Герцен. 28 мая Бестужев с заставы проехал на Васильевский остров, переоделся среди восклицаний и любопытных вопросов сестер, затем отправился на Мойку, где
СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825
СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825 Для счастья народов надо, чтобы их вожди были мудрецами или мудрецы — их вождями. Платон. Это было ранним утром 1 сентября 1825 года. Высокая дорожная коляска с царским кучером, знаменитым Ильей Байковым на козлах, быстро катилась к заставе. За ней
12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное, вечное слово: Свобода! Свобода! Огарев. В ночь на пятницу 12 декабря погода изменилась. Оттепель последних дней, когда над городом бушевали мокрые вьюги, снег таял и стекал в канавы грязными ручьями,
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА Вы уповали, может быть, Что станет вашей крови скудной, Чтоб льдистый полюс растопить! Тютчев. Только что пробило шесть часов утра. Пронзительный ветер бесснежной петербургской зимы свистел за окном; клубы холода отрывались от расписанных морозом
15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826
15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826 Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение. Вергилий. Бестужев постучал. Ему открыли. Из передней он вошел в ярко освещенную комнату. За фортепьяно сидел свитский офицер и, ударяя пальцами по желтым клавишам, высоко
1825
1825 7 мая. В Петербурге умер брат Е. А. Арсеньевой, тайный советник обер-прокурор Сената Аркадий Алексеевич Столыпин, близкий к кругам декабристов, приятель Грибоедова, Кюхельбекера, Рылеева, друг М. М. Сперанского. Впоследствии, 26 декабря 1825 г., со слов Рылеева, Н. А. Бестужев
14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения
14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения 14 (26) декабря, «на очень холодной площади» (Тынянов, кажется, преувеличил — погода была пасмурная, скорее мягкая, 8 градусов мороза) произошло одно из самых мифологизированных событий русской истории.На переломе