15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826
15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826
Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение.
Вергилий.
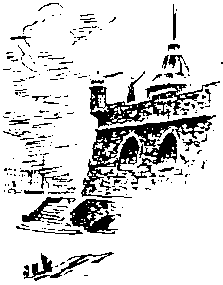
Бестужев постучал. Ему открыли. Из передней он вошел в ярко освещенную комнату. За фортепьяно сидел свитский офицер и, ударяя пальцами по желтым клавишам, высоко поднимал локти. Были еще какие-то офицеры; один из них — морской. Дамы в нарядных платьях весело болтали по-французски. На Бестужева смотрели с недоумением. Кланяясь со всей изысканностью светского человека и бормоча нелепые любезности, он прошел по ковру через гостиную. Затем сел на пуфик возле фортепьяно и стал ждать. Чего? Он сам не знал. С ним не говорили, старались не замечать его.
Отчаянный стук в дверь с лестницы взбудоражил гостиную. Портьера распахнулась, и вошел бледный, с развевающимися русыми баками, в наброшенной на мундир штатской шинели, маленький поручик Панов. Девушка в розовом платье вскрикнула и, ухватись за столик, на котором стояла клетка с попугаем, стала медленно падать. Свитский офицер поддержал ее. Бестужев начинал понимать, в чем дело: он в квартире невесты Панова, — ему было известно и раньше, что Панов жених. Первым ушел поручик, после слез, благословений и клятв; его выпустили на Неву, завернутого в партикулярную шинель, с круглой шляпой на голове. Через полчаса отправился и Бестужев. Он долго шагал по речному льду, не торопясь, забирая нарочно то в одну, то в другую сторону, кружа за визгливым ветром, иногда оборачиваясь лицом к наскокам снежной пыли и жадно ее глотая, иногда неподвижно стоя на месте и разглядывая в небе черные клочья ночного тумана. Торопиться было некуда. Он бродил по Неве и Галерной гавани до утра, изредка присаживаясь на скамейки у бедных чиновничьих домиков. С церковных колоколен пополз густой и ровный перезвон. Старухи заковыляли, стуча костылями о мерзлую грязь. На папертях собирались оборванные нищие и громко ссорились, толкая друг друга. На востоке загоралось утро. Бестужев зашел в церковь, отогревшись у печки, отправился дальше. В это утро, пока шли ранняя и поздняя обедни, он побывал во многих церквах. Но и это кончилось. Он вспомнил Мойку, Рылеева, Сомова, Наталью Михайловну, потом матушку, сестер, братьев; ощупал свое лицо, неумытое, потное и скользкое, быстро нагнулся, зачерпнул ладонью горсть свежего снега и вытер лицо. Вдруг все стало ясно. Спасаться негде и незачем. Пустое… Надо быть самим собой.
Бестужев двинулся через Неву, направляясь к Зимнему дворцу. Он вошел во дворец через комендантский подъезд. В знаменной комнате снял саблю и поставил в угол. Заметив в карауле Павла Ивановича Греча, сделал вид, что не видит — так, вероятно, для Греча было удобнее. Унтер-офицер подошел со словами:
— Вы арестованы, ваше высокоблагородие.
Флигель-адъютант Перовский вмешался:
— Не тронь, капитан не взят, а сам явился. Пойдемте к государю.
За стеклянной перегородкой виднелись арестованные офицеры. Бестужев разглядел высокую фигуру Розена. Затем, следуя за Перовским, поднялся по мраморной лестнице мимо людей, бесшумно скользивших вверх и вниз. Ему были отлично знакомы и эта бесконечно длинная, густо раззолоченная галерея, и апартаменты, отделанные в мавританском вкусе, и зимний сад с кадками тропических растений, звонко плещущим фонтаном и буйно кричащими птицами, и высокие голландские камины из резного дерева, и паркеты маркетри, и дубовые потолки, и бронза, и гобелены, и статуи. Он и не приметил, как очутился в приемном зале императорских покоев, наполненном тихо шептавшимися военными.
Дверь кабинета распахнулась, и Николай вышел в зал. Первый, кого он заметил, был бледный, но ловкий и подтянутый, хотя и без сабли, Бестужев рядом с Перовским. Николай сделал знак Перовскому и вернулся в кабинет. Перовский повторил:
— Пройдемте к государю.
Бестужев подошел к Николаю по всем правилам фрунтового устава и, смотря ему в глаза, спокойно и твердо проговорил:
— Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.
Николай сделал шаг к Бестужеву и остановился, пристально его разглядывая. Бестужеву показалось, что он позирует, стараясь казаться простым и даже как бы тронутым чрезвычайными обстоятельствами этой встречи. На лице его беспрерывно сменялись выражения строгости, торжественности и снисходительности. «Какая быстрая смена масок!» — успел подумать Бестужев. Вдруг маска снисходительности окрепла. Император улыбнулся сперва одними глазами, потом одним ртом — доказательство страха и напряженной осторожности.
— Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу вину. Будьте откровенны в ответах и тем докажите искренность вашего раскаяния.
Николай поднял перед собой бледную руку.
— Но как ты попал в заговор? Зачем?
Еще со вчерашнего вечера дворец был превращен в съезжую. За ночь через кабинет императора прошло около десяти заговорщиков. Но ни бессмысленно глядевший в одну точку Щепин, ни ползавший на коленях Трубецкой, ни молчаливый Сутгоф, ни даже Рылеев, сам задававший себе вопросы и тут же на них отвечавший, — никто из них не сказал Николаю такой простой и понятной вещи, как Бестужев. Действительно, эти «несчастные» могли понимать события последних недель как результат подлинного междуцарствия и, чувствуя себя свободными от присяги, поступать в соответствии с этим. Разговор продолжался долго…
Дежурный по караулам приказал конвою вести Бестужева в крепость. Солдаты окружили арестованного, ожидая команды. Он скомандовал сам:
— Марш! — и зашагал в ногу.
Глухое эхо под крепостными воротами провожало шаги. Бестужев отряхнул снег с сапог на подъезде комендантского дома и вошел со своими конвойными в небольшую комнату, где была устроена домовая церковь. Через несколько минут раздался стук деревяшки об пол. и в комнате появился комендант крепости генерал от инфантерии Сукин. Это был седой старичок с брюшком и серыми глазами, полными бесконечного равнодушия ко всему на свете. Он ловко повернулся на своей деревянной ноге и сказал ледяным голосом:
— Я имею высочайшее повеление содержать вас под строжайшим арестом. Господин плац-майор Подушкин отведет вас в номер.
Только тут Бестужев заметил толстого офицера с провалившимся носом и разбитной улыбкой гулящей бабы.
Плац-майор сделал знак, и на голову Бестужева набросили плотный холщовый мешок. «Пытка! — мелькнуло в голове арестанта. — Ведут пытать…» Подушкин взял его за руку и повел. Они вышли из комендантского дома и зашагали по обледенелым деревянным мосткам.
— И-и-и, батюшка, — гнусавил Подушкин, спотыкаясь и обнимая Бестужева за талию, — то ли еще случается… Было бы здоровье, батюшка, вот что… Выйдете отсюда, служить станете, генеральство выслужите, за границу поедете, мне английский сервиз привезете… И-и-и… А покамест — сюда пожалуйте!
В темном и грязном коридоре с Бестужева сняли мешок. Ночник на выступе печки чадил нещадно.
Солдат с грохотом отодвинул засов, и Подушкин ввел своего пленника в каземат. Это была крохотная комната с окном, стекла которого были замазаны мелом и прикрыты толстой ржавой решеткой; труба железной печки проходила под сводчатым потолком; госпитальная постель с бумажным одеялом и засаленной пестрядевой подушкой, столик, стул, судно составляли меблировку. Сумрачный полусвет дрожал в каземате.
Плац-майор подошел к Бестужеву и вдруг нежно приник к нему всем телом, одновременно с поразительной ловкостью проводя руками сзади, спереди, по бокам.
— По положению-с, — сказал он со вздохом, — а теперь прошу раздеться.
Через минуту на Бестужеве осталось одно нижнее белье, прикрытое халатом из серого сукна. Подушкин вежливо простился, солдаты вынесли мундир, брюки, ботфорты, громыхнули засовы, визгнули замки, и Бестужев сел на постельный тюфячок, оставшись в совершенном одиночестве.
Часа два сидел он неподвижно, стараясь разгадать, в какой части крепости находится его каземат. По кое-каким мелким признакам, — он не мог бы даже определить их словами, — ему казалось, что это должно быть где-нибудь возле Никольских ворот, к парку, на левой стороне. Он не ошибался.
В полдень принесли обед — щи, кусок говядины и гречневую кашу на оловянной тарелке. Бестужев спросил солдата:
— Не Никольская ли это куртина, дружок?
Солдат внимательно посмотрел на него и вышел молча. Прислуге было строго запрещено отвечать заключенным на вопросы.
Еще в девятом часу утра, сейчас же после разговора с императором, в соседнем зале допрашивал Бестужева генерал Левашов. Он сидел за раскрытым ломберным столом, кудрявый, красивый и улыбающийся, по придворной привычке, и, не смея говорить с арестованными по-французски, жалко коверкал русские слова, заполняя листок за листком безграмотными фразами. Бестужев подписал текст первого своего письменного показания. Оно было осторожно и не заключало в себе ни одного лишнего слова; все названные в нем фамилии уже произносились или императором, или Левашовым; из главных — Рылеев, Трубецкой, Оболенский, Каховский, Иван Пущин; «болото» заговора оставалось пока неизвестным следователям, и Бестужев удачно промолчал о нем.
Три дня прошли как один — длинный, томительный, пустой и недужный. В каземате было сыро — оставшиеся от прошлогоднего наводнения мокрые узоры все еще плыли по стенам. Печная труба докрасна раскалялась при топке, но грела только потолок; пол был холоден, как невский лед. Бестужев часами не мог согреться, сидя на койке с поджатыми ногами. Мыслей не было, и чувства вдруг замерли и притупились — страшное напряжение мятежного дня вихрем прошло через мозг и сердце, испепелив их.
18 декабря Подушкин вошел в каземат № 1 Никольской куртины в сопровождении солдата с узлом, в котором громко позвякивало что-то металлическое. Потом застучала деревяшка, и появился Сукин. Его глаза были еще холоднее, чем при первой встрече.
— Я получил высочайшее повеление заковать тебя, — сказал комендант, повернулся и вышел.
Люди бросились на Бестужева, усадили на стул, вытряхнули из узла двадцатидвухфунтовые железа и живо надели их на ноги и руки арестанта. Подушкин встал на колени и защелкнул замки на кандалах, обернув наручники тряпкой.
Железа давали себя чувствовать при умывании. Руки Бестужева были разъединены болтом. «Теперь не скажешь, — подумал он, — что рука руку моет». Солдат ополаскивал ему отдельно каждую руку. Лицо он мыл себе сам одной рукой.
Утром — Подушкин с неизменным вопросом о здоровье, потом чай с булкой, обед, ужин, ночь с вонючей лампадой на окне и подглядываниями из коридора каких-то людей в валенках для соблюдения тишины, безгласные солдаты, тяжкое недоумение насчет желез, прикидка и так и этак и невозможность разгадать причину гнева Николая, — дни ползли и тащили за собой Бестужева, как тачка с прикованным к ней тягальщиком в черной шахте.
26 декабря поздно вечером, когда Бестужев уже лежал на своей койке, отбиваясь от больших рыжих водяных крыс, загремели затворы и вошел Подушкин.
— Вставайте, батюшка, поедем, — сказал он, — приоденьтесь.
Сторож разложил на койке мундир и брюки Бестужева.
— Куда вы меня повезете, Егор Михайлыч?
— И-и-и, батюшка, куда, куда, — куда надо, туда и поедем.
Бестужев оделся; сторож накинул на него измятую беличью шубу; Подушкин вынул из кармана грязный носовой платок и завязал ему глаза. Вышли из каземата, из куртины; свежий морозный воздух ударил в лицо. Бестужев делал жадные глотки. Но тревога его усилилась, когда он почувствовал, что сажают в сани. Лошади дернули, проскакали в объезд каких-то строений несколько сот саженей и стали. Бестужев — в зале, за ширмами. Ему видно сквозь платок и ширмы, как ходят по зале жандармы, аудиторы, плац-адъютанты и прочая мелкая субалтерния. Скрипят перья, звенят шпоры, сыплются шутки, ярко горят свечи. Затем его ведут через несколько комнат и вводят в ярко освещенный покой.
— Можете открыться!
Две дюжины восковых свечей горят на огромном столе, покрытом красным сукном. Председательствует военный министр Татищев, худенький, согбенный старик с бесстрастным и добрым лицом. Справа и слева от него — великий князь Михаил, князь А. Н. Голицын, генералы Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Дибич, Левашов, Потапов, Чернышов. За отдельным столиком — секретарь А. Д. Боровков, добрый знакомый Бестужева по Вольному обществу любителей российской словесности. Если бы не Боровков, торжественная картина, развернувшаяся перед изумленными глазами арестанта, очень напомнила бы таинственные заседания венецианского Совета Десяти, только без il ponte dei sospiri[54], а то бы и концы в воду.
Чернышов поправил на голове курчавый, как бараний затылок, парик и, избоченясь в креслах, произнес с невыразимой важностью:
— Приближьтесь.
Бестужев сделал несколько шагов, звеня цепями, и поклонился. Члены Комитета начали задавать ему вопрос за вопросом: об основателях тайного общества в Петербурге и рядовых членах, о причинах, побудивших Бестужева войти в заговор.
На этот последний вопрос он ответил так:
— Входя в общество по заблуждению молодости и буйного воображения, я думал через то принести пользу отечеству в будущем времени если не делом, то распространением либерализма. Приманка новизны и тайны также немало в том участвовала и мало-помалу завлекла меня в преступные мысли.
Чернышов вдруг поднялся и спросил грозно:
— Вы были во все время в каре с бунтующими, — кто убиец графа Милорадовича?
Смутная догадка ворвалась в сознание: «Уж не меня ли подозревают в убийстве?» Дрожь пробежала по телу Бестужева, и он отвечал поспешней, чем, может быть, следовало:
— Я слышал, кто-то произнес, что по нему выстрелил Каховский. Тем более думаю это, что он раза три брал и отдавал мне пистолет, чтобы погреть руки.
Члены Комитета переглянулись. Бенкендорф вздохнул и сказал кротким и тихим голосом:
— Пойдите. Вам зададутся вопросы письменно, и вы должны будете отвечать также письменно.
Затем все вместе, перебивая друг друга, стали уговаривать Бестужева не таиться, особенно подчеркивая, что государь доволен его первыми ответами и что от искренности и правдивости дальнейших показаний зависят снисхождение, милость и, при известной доброте сердца его величества, даже полное прощение.
— Пойдите…
Кто-то подскочил сзади и завязал платком глаза.
Потом скрип перьев, смех и шпоры, беличья шуба, сани, свежий воздух, звон запоров и снова — сырой, холодный, полутемный каземат.
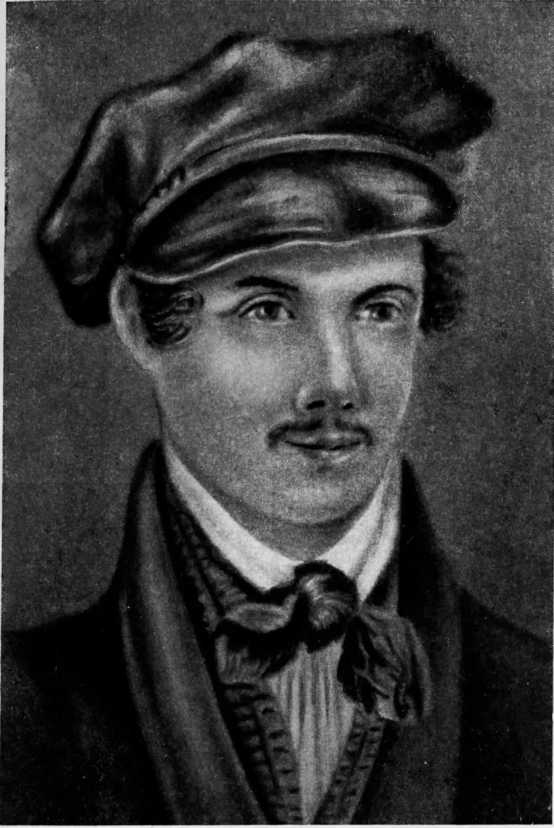
А. А. Бестужев-Марлинский.

М. А. Бестужев. Акварель Н. А. Бестужева.

Н. А. Бестужев. Рисунок с акварельного автопортрета 1840-х годов.
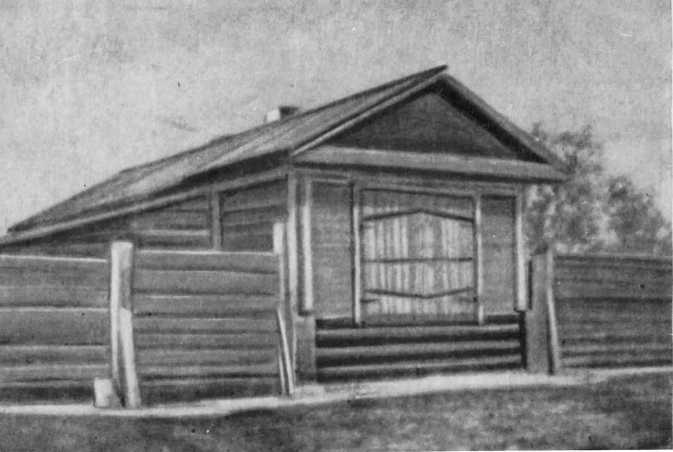
Селенгинский дом Бестужевых.
Поражение вовсе не кончилось на Сенатской площади; оно продолжалось и здесь, в могильной тишине государственной тюрьмы. Здесь оно заканчивалось мучительными признаниями перед самим собой, страшными открытиями внутреннего бессилия и глубоким разочарованием в предпринятом с таким энтузиазмом деле. Теперь Бестужеву казалось, что он, так успешно поднявший на восстание первые роты солдат, не был, однако, настоящим революционером, хотя и очень желал им быть.
«Воображение скачет на почтовых, а размышление тянется на долгих», — скажет Бестужев впоследствии, вспоминая страшные дни и ночи казематских дум.
Смерть угрожает всякой идеологии, когда она не может служить практике. Это и переживал Бестужев в тюрьме. Чем выше был градус кипения его настроений при выводе московцев из казарм, тем губительнее оказался приступ растерянности на площади, а теперь от прежнего подъема не оставалось даже и самых жалких клочков.
Принесли пакет за черной печатью с вопросными пунктами из Комитета и с пронумерованными листами чистой бумаги для ответов. Начерно писать запрещалось. Вопросы были те самые, которые предлагались Бестужеву в Комитете устно. Он принялся сочинять ответы, стараясь внушить Комитету взгляд на происшедшее, который установился у него теперь. В своей гибели он видел гибель революции, и смешно было бы обманывать, путать, затемнять. Приходилось говорить прямо о цели движения и его средствах, представляя то и другое с соблюдением собственного достоинства и не без грустной иронии по адресу недавнего прошлого.
Он потребовал от Подушкина бумаги и 10 января написал обширную записку об историческом ходе развития свободомыслия в России, адресовав ее непосредственно царю. Записка из каземата № 1 Никольской куртины представляла собой блестящий образец политической публицистики, исполненный ума, начитанности, сведений, наблюдений, экономических комментариев к истории политических настроений в России после 1812 года. Это целая летопись исканий, падений, взлетов, побед и поражений мыслящих русских людей бестужевского поколения, развернутая на фоне страстно и гневно показанного государственного и общественного развала. В своей записке Бестужев искренен до конца. Это видно из того, что он выступает в ней горячим защитником прав третьего сословия — купечества и мещанства, класса «почтенного и значительного во всех других государствах, у нас ничтожного, бедного, обремененного повинностями». Чтобы Бестужев мог так писать при его симпатиях к общедворянской традиции, не растерянных полностью до самого 14 декабря, ему надо было с величайшей честностью договориться с самим собой, и он, несомненно, это сделал. Он не забыл упомянуть и об исторических воспоминаниях, «ласкавших его самолюбие» примерами дворцовых революций; и о страхе, который чувствовал перед деспотизмом Николая, угрожавшего «гонением всем умным и благонамеренным людям». Как интеллигент-литератор начала века, он раскрыл корни российского либерализма с ясностью, доступной сильному и свежему уму; как политический преступник, он не побоялся почтительностью внешних форм лишь подчеркнуть полные гражданского пафоса и жестокого осуждения страницы своей памятной апологии.
Записка пошла к царю. Однако чем искреннее был Бестужев, тем больше от него хотели знать. Комитет потребовал сведений о внутренней организации тайного общества, — Бестужев дал их. Затем он написал, также по требованию Комитета, характеристики главнейших деятелей общества — Трубецкого, Оболенского, Никиты Муравьева, Рылеева, Ивана Пущина, Штейнгеля, Одоевского, Каховского, Сутгофа, Арбузова, Ростовцова, Якубовича, Торсона, Щепина-Ростовского, своих братьев. Сопоставляя показания Бестужева с грудами накопившегося, строго проверенного материала, Комитет приходил к выводу, что узник из каземата № 1 Никольской куртины не лукавит. От Бестужева потребовали новых показаний по вопросу о том, кто нанес графу Милорадовичу 14 декабря штыковую рану в бок, — Николаю почему-то казалось, что это не обошлось без участия бестужевской руки. И все же 21 января Комитет постановил ходатайствовать «перед его величеством, чтобы капитана Бестужева расковать, сколько во уважение кротости и чистосердечия, каковые он показал при допрашиваниях в Комитете, столько и для того, чтобы, почувствовав снисхождение, он усугубил искренность и признания».
В начале весны Подушкин передал Бестужеву письмо от Прасковьи Михайловны. Письмо было запечатано, никаких признаков изучения в крепостной канцелярии на себе не носило, и руки Бестужева дрожали, когда он разрывал конверт. Да, почерк матушки — старинные витиеватые буквы: вместо «в» — две палочки, прикрытые сверху и снизу, «ш» невозможно отличить от «т», и все — своеручное, неумелое, почти детское. Подушкин отошел к окну, любуясь впечатлением от трогательной картины. Бестужев читал, и руки переставали дрожать, а сердце билось все ровней и спокойнее. Словно под диктовку какого-нибудь генерал-адъютанта, Прасковья Михайловна обращалась к сыну со слезной мольбой верить в милосердие государя, которое будет точно соразмерно с чистосердечием признаний. Старушка извещала также сына о том, что государь назначил ей, а по смерти — дочерям ее пятьсот рублей ассигнациями годовой пенсии.
Все это было изложено в выражениях самых торжественных и велеречивых. Бестужев прочитал письмо и, заметив протянутую руку плац-майора, с самым равнодушным видом вложил в нее казенное послание. Подушкин ушел разочарованным.
Приблизительно в это же время Бестужева стали изредка выводить на прогулку. Сначала прогулка заключалась в том, что ему разрешалось постоять минут десять в огромных сенях куртины с окном без рамы, через которое широким потоком вливался свежий воздух. Потом начали выводить на прогулку по крепостным стенам. Со стен открывалась забытая картина — город, площади, набережные, дворцы, снующие но улицам точки — люди и экипажи, похожие на черных тараканов. Когда Бестужев в первый раз поднялся на стену, солнце его ослепило, и он закрыл глаза рукой, приучая их сперва к розовому полумраку пригоршни. Земля качалась, словно под ногами моряка, сошедшего после плавания на землю. Он вырвал из-под какой-то черепицы первую весеннюю травинку, поцеловал ее с жадностью и, случись тут дерево, кажется, бросился бы к нему с объятиями, как к другу. В теплые полдни начали открывать верхнюю часть окна в его каземате. Бестужев, подтянувшись на руках, крепко держался за решетку и смотрел на ялики, скользившие по реке. Как-то ему показалось, что он видит в одной из лодок сестру Лешеньку. Это могло быть ошибкой зрения, бредом, чем угодно, но оказалось фактом. Скоро через гарнизонного солдата, убиравшего каземат, завязались у Бестужева словесные переговоры с Еленой Александровной. Вероятно, этот солдат был сыщиком, потому что действовал необыкновенно смело и решительно, но поручения передавал со всей исправностью, за что и закармливали его на Васильевском обедами до одури. Бестужев просил Елену Александровну прислать ему в пироге записочку с сообщением о ходе дела, но она знала не больше, чем он, да и боялась. Зато сам Александр Александрович был неосторожен до крайности. Так, однажды, увидев переезжавшую через реку сестру, он выбросил в окно оловянную тарелку, нацарапав на ней что-то. За это Подушкин не велел недели две открывать в его каземате верхнюю часть рамы. Но Елена Александровна продолжала свои наезды к Никольской куртине и, когда окно каземата № 1 опять начало открываться, проходила мимо, задерживаясь, чтобы пропустить какой-нибудь медленно тянувшийся воз с дровами и при этом сказать брату два-три слова. Стоявшие под окном на часах гвардейские солдаты видели эти проделки и усмехались. Они привыкли к посещениям бледной, худой девушки; неизвестно, что они думали, но встречали ее приветливо:
— Здесь, здесь, давно вас ждут.
По вечерам развлечения Бестужева были не так увлекательны. Его мучил заунывный бой курантов на башенных часах, раздававшийся с неумолимой точностью через каждые пятнадцать минут. В этой печальной музыке было что-то такое, от чего сердце сжималось в судороге смертельной тоски, и часто казалось Бестужеву, что ум его мутится под ударами страшного маятника. Так и написал он в одном из своих показаний Комитету:
— Ум мутится…
Много радости доставило ему открытие способа, посредством которого оказалось возможным переговариваться с рядом сидящим заключенным. Способ состоял в перестукиваниях через стену, достаточно толстую, чтобы не пропускать голосов, но легко передававшую стуки. Была изобретена азбука: тридцать букв делились на десятки, каждому десятку присваивался свой опознавательный стук. Все это было бесконечно утомительно и для уха и для мозга — слушающий постоянно путал гласные с согласными, а повторения фраз были пыткой для передающего.
И все-таки Бестужев прыгал и скакал по каземату, когда разобрал, наконец, ответ соседа на свой первый вопрос:
— Б-а-т-е-н-к-о-в.
В половине марта все главные и второстепенные участники восстания были обстоятельно допрошены Комитетом. Оставались невыясненными некоторые пункты разногласий в показаниях, которые легче всего было выяснять на очных ставках, и несколько отдельных новых показаний, бросающих на старые неожиданный свет. Бестужев уже знал, что Рылеев рассказал все, что только можно было рассказать Комитету, и даже больше того: он брал на себя ответственность за происшедшее, преувеличивая значение своих действий, чтобы устрашить правительство; вместе с тем откровенничал без меры, так как не ждал спасения ни для себя, ни для своих друзей, ни для революции. Он хоронил революцию вместе с собой, но хотел внушить правительству, что и похороненная — она жива. Каховский не сознавался ни в чем до половины мая, когда убедился, что выдан с головой. После этого он со всем жаром мести принялся топить всех, начиная с самого себя. Якубович и в Комитете был таким же болтуном, как в обществе.
Май был особенно тяжелым месяцем для Бестужева, и, если бы не книги, которые начала в это время доставлять ему с разрешения крепостного начальства сестра Елена Александровна, его ум и сердце могли бы погаснуть навсегда. Но он спасался от докуки комитетских «пунктов» и тревоги очных ставок тем, что читал Саллюстия и перевел почти всего «Катилину». Били на башне куранты, а он щупал свой пульс и говорил с удивлением:
— Сердце мое шевелится еще!
С 17 декабря 1825 года по 17 июня 1826 года Следственный комитет заседал сто сорок семь раз. В первое время заседания происходили почти ежедневно с шести часов дня до полуночи. Преступники — всего 121 человек — уже были разбиты на одиннадцать разрядов[55].
Об этом Бестужев, как и другие заключенные, не знал. Поэтому то, что случилось с ним 12 июня, было для него полнейшей неожиданностью. В первом часу дня вошел к нему плац-майор и сказал:
— Пожалуйте, батюшка, оденьтесь и поедемте в Комитет.
Бестужев оделся и тут только заметил, что безносое лицо Подушкина выглядело по-особому торжественно и официально. Еще больше удивился Бестужев, когда Подушкин вывел его из куртины с открытыми глазами. Так прошли они по крепости и поднялись на крыльцо комендантского дома. Дверь растворилась, и Бестужев увидел перед собой Никиту Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола, Кюхельбекера в изорванном тулупе и валенках, — так его взяли зимой в Варшаве, — и еще двух незнакомых людей — генерал-майора с горбатым носом и штатского с бледным лицом и красивыми черными усами. Первый оказался князем С. Г. Волконским, второй — И. Д. Якушкиным. Матвей Муравьев-Апостол раскрыл объятия. С Никитой Бестужев поцеловался.
Кюхельбекер накинулся с тысячью вопросов. Поговорить было о чем. Бестужева поразила мрачность Муравьева-Апостола — его мучительно тревожила судьба брата Сергея Ивановича [56] — и какая-то больничная худоба всех. «Неужели и я таков же?» — подумал он. Подушкин вбежал с бумагой в руке и начал устанавливать шестерых преступников в какой-то ему одному известный порядок. Затем повел их через несколько комнат и, наконец, впустил гуськом в длинную залу. Посередине стоял огромный стол, покрытый красным сукном и изображавший букву П, а кругом стола заседали около ста сановников — члены синода, Государственного совета, сенаторы в своих красных мундирах. Бестужеву приметилось сухое лицо Сперанского с выражением зубной боли и опущенная вниз серебряная голова Мордвинова, зачем-то разостлавшего на коленях большой белый платок. Члены синода, тучные и румяные старцы, в негнущихся шелковых рясах, с бриллиантовыми крестами на черных клобуках, с любопытством привстали, чтобы видеть преступников. Многие генералы смотрели в лорнеты. Около большого стола помещался пюпитр, за которым, вытянувшись, стояла деревянная фигура сенатского обер-секретаря. Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский, маленький сивый живчик в голубой ленте, бегал по зале, наводя порядок. Обер-секретарь начал вызывать подсудимых по фамилиям. Бестужев с изумлением догадался, что это суд, что он уже осужден и услышит сейчас свой приговор, — каждый должен был, как на солдатской перекличке, отвечать: «я». Кюхельбекер по глухоте своей замедлил. Министр юстиции крикнул:
— Да отвечайте, отвечайте же!
Обер-секретарь развернул свиток голубой бумаги — сентенция. Бестужев смотрел на медленные губы секретаря, слушал, и все происходившее казалось ему смешным и пошлым фарсом. Наконец до него донеслось:
«Штабс-капитан Александр Бестужев. Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов».
Обер-секретарь огласил перечень провинностей остальных пяти товарищей Бестужева, затем приостановился и, пожевав губами, проговорил:
— Все сии суть государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы.
В Бестужеве не дрогнул ни один нерв. Страшная сентенция ударилась в его ухо, но не потревожила ни мысли, ни чувства. Ему было все равно.
Секретарь все еще читал: император, снисходя к чистосердечному раскаянию Бестужева и четырех его товарищей, отменил смертный приговор… Двадцатилетняя каторга… Все это доносилось до Бестужева словно сквозь сон.
Осужденных вывели. Их ожидали в соседней комнате священник, лекарь и два цирюльника с аппаратами для кровопускания. Услуги этого персонала не понадобились никому. Впрочем, доктор посетил Бестужева еще раз вечером в каземате. Ужин в этот день принесли раньше, чем обыкновенно.
Бестужев проснулся на рассвете от суматохи и шума в коридоре: отворялись и затворялись с грохотом двери казематов, плац-адъютанты, сторожа и солдаты бегали туда и сюда. Наконец загремели затворы, с лязгом рванулись замки, дверь каземата № 1 распахнулась, и Бестужев увидел на пороге плац-майора Подушкина со свечой. У него было невыспавшееся, злое лицо, красные глаза прыгали.
— Вставайте, почтеннейший, на экзекуцию, — просипел он, — одевайтесь живо…
Заря возникала светлыми полосками на черном туманном небе. Холод сковывал движения. Бестужева вели через крепость, он видел множество темных фигур, шагавших с разных сторон в сопровождении конвойных солдат. На мосту возле Алексеевского равелина остановились. В розовых сумерках утра Бестужев старался разглядеть собравшихся кругом него людей.
Среди множества незнакомых лиц он отыскал Батенкова. Гаврила Степаныч стоял в стороне и задумчиво грыз щепку. Оболенский заметно потолстел и особенно раздулся в щеках. Иван Пущин был веселее всех, узнавал о сентенциях направо и налево, сообщал о своей и, наконец, сказал что-то такое, от чего раздался общий хохот. Подошла рота павловцев, и осужденных вывели из крепости через Петровские ворота на луг позади Кронверкской куртины, где полукругом стояли шефские роты и лейб-эскадроны от всех гвардейских полков. Но самое поразительное, что метнулось в глаза Бестужеву сразу же по выходе из крепости, была виселица — столбы с перекладиной над помостом и пятью веревками, слабо колебавшимися в полумраке. Палачи в красных рубахах разгуливали под веревками по помосту. Бестужев спросил с ужасом у соседа:
— Для кого это?
— Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин…
Действительно, эти пятеро отсутствовали среди выведенных на экзекуцию преступников. Холод утра показался Бестужеву горячей огня. Сердце его вдруг растопилось в пламенном чувстве, которому нет названия — так полно оно и многосторонне, и слезы обожгли щеки. Прощай, Рылеус! Прощай, Конрад!
Гвардейцев выделяли из толпы осужденных и ставили перед частями полков, в которых они служили. Пылали, дымя и треща, костры. Несколько генералов гарцевало, отдавая распоряжения. Но всех деятельнее был Чернышов: разодетый по-бальному, в ленте, с лорнеткой, он с озабоченным видом летал по рядам, что-то говорил, о чем-то усиленно хлопотал. Экзекутор выступил вперед и начал читать всем уже известную сентенцию. Его голос глухо раздавался в тумане. Чтение продолжалось долго. Затем осужденным приказали стать на колени. Бестужев сделал это с недоумением. Фурлейт подошел к нему и, взявшись руками за концы казенной шпажонки, взмахнул ею в воздухе. Шпага, очевидно плохо подпиленная, не сломалась. Удар пришелся по голове Бестужева — он качнулся, но устоял на коленях. Это произошло не только с ним — до Бестужева долетел гневный возглас Якушкина:
— Если ты повторишь еще раз такой удар, ты убьешь меня до смерти.
Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов подскакал и, узнав, в чем дело, рассмеялся.
С Бестужева сняли мундир и бросили в костер. Пламя взвихрилось фонтаном искр, притухло и снова поднялось буйным оранжевым винтом. Прощай, все! Прощай, Рылеус! Прощай, Конрад!
Экзекуция кончилась. Осужденные поднялись с колен и столпились в кучу. Это было необыкновенное зрелище. В лазаретных халатах, накинутых вместо мундиров, в круглых шляпах, черкесских папахах, киверах и ботфортах толпа осужденных выглядела маскарадной процессией.
Через час Бестужев был уже снова заперт в каземате и обдумывал происшедшее. Странное дело, применительно к его собственной судьбе оно не произвело на него большого впечатления. Несправедливое ожесточение, столь очевидно проявленное правительством в приговоре, возвышало Бестужева, ставило его на какое-то совсем новое, значительнейшее место в жизни. Приговор и звание каторжника отделяли его непереходимой пропастью от блестящего прошлого. Но эта самая невозвратимость заставляла ощущать жизнь совсем по-новому. Может быть, это была отвага отчаяния.
Ефрейтор вошел с обедом. Лицо его было бледно, и нижняя челюсть тряслась.
— Что с тобой? — спросил Бестужев.
Ефрейтор рассказал: за крепостью совершился ужас — повесили пятерых, трое сорвались, повесили снова. Один, маленький, качался в мешке дольше других…
Бестужев упал на койку и зарыдал.
«Прощай, Рылеус! Тебя уже нет. Но Россия о тебе никогда не забудет!»
На следующий день после экзекуции Бестужева вызвали в комендантский дом и провели в гостиную генерала Сукина, который сидел на диване перед дымящимся чайником, далеко вытянув вперед деревянную ногу. Кроме генерала, Бестужев нашел в гостиной сестру Елену и братьев Николая, Мишеля и Петрушу. Это было свидание с поцелуями, слезами, горячими объятиями — восстание из могилы, а не простое свидание. Генерал пил чай с блюдечка, по-солдатски, в разговоре участия не принимал и часто выходил в соседнюю комнату не то по делам, не то чтобы не мешать чужому счастью.
Елена Александровна говорила:
— Ну, братья, не отвечаю за других, а. мы с вами свидимся, мы разделим вашу участь в Сибири.
Николай Александрович шутил:
— Какую мы колонию там устроим, как заживем!
Свидания эти начали повторяться через каждые четыре-пять дней. В короткие минуты, когда комендант уносил из гостиной свою деревяшку, Елена Александровна торопливым шепотом передавала городские новости.
С обширным и все пополнявшимся запасом этих новостей Бестужев дожил до 5 августа. Под вечер в каземат вошел крепостной плац-адъютант Трусов и приказал готовиться к отъезду.
— Куда?
— В Финляндию.
В сумерки он появился опять и повел Бестужева в комендантский дом. Дорогой советовал остерегаться фельдъегеря и ни в каком случае не говорить при нем по-французски.
— Почему? — спросил Бестужев.
— За такой поступок он имеет право оставить вас без обеда, — серьезно отвечал плац-адъютант.
Бестужев вспомнил Горный корпус, где оставляли без обеда за разговоры по-русски, и расхохотался.
В комендантском доме уже ждал отправления Якушкин. Вскоре привели Матвея Муравьева-Апостола, Арбузова и Тютчева, капитана Пензенского полка, из пестелевских, бывшего семеновца. Бестужев был в венгерке, Арбузов и Тютчев — в казенных арестантских куртках и шароварах из грубого серого сукна. У комендантского подъезда стояли повозки и расхаживали жандармы. Бестужев громко повторил фразу, сказанную Вольтером при выходе из Бастилии:
— Итак, благодарю за хлеб, но прошу не отводить мне больше этой квартиры.
Якушкин и Тютчев засмеялись, Матвей Муравьев и Арбузов вздрогнули — они отвыкли от смеха.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава I. 14 декабря 1825 года
Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Ещё миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825
Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825 Царствование Александра I стало началом «золотого» века Российской империи. Он сменил на престоле своего отца Павла I – человека странного, придерживавшегося консервативных взглядов на
Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825
Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825 РодителиОтец – император Павел I Петрович (20.09.1754-12.01.1801).Мать – императрица Мария Федоровна, принцесса Софья-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская
Глава I 14 декабря 1825 года
Глава I 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождем дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг, и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
Глава I. 14 декабря 1825 года
Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,
1825 и 1826 годы
1825 и 1826 годы Уже с лишком четыре года жил я отдельно с своей семьей в Оренбургской губернии, в селе Надежине, в семи верстах от одного из самых дряннейших уездных городишек в России Белебея, произведенного в звание города из чувашской деревушки, сидевшей на речке Билыбей,
Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года
Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года [1]Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это
МАРТ 1825 — МАЙ 1825
МАРТ 1825 — МАЙ 1825 Так за скалу хватается пловец, Которая разбить его грозила. Гёте. «Полярная звезда» вышла 21 марта. Издатели находили, что опоздание с выходом в свет оказалось очень полезным для альманаха и что «Полярная звезда» 1825 года выгодно отличалась от своих
МАЙ 1825 — АВГУСТ 1825
МАЙ 1825 — АВГУСТ 1825 Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? Герцен. 28 мая Бестужев с заставы проехал на Васильевский остров, переоделся среди восклицаний и любопытных вопросов сестер, затем отправился на Мойку, где
СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825
СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825 Для счастья народов надо, чтобы их вожди были мудрецами или мудрецы — их вождями. Платон. Это было ранним утром 1 сентября 1825 года. Высокая дорожная коляска с царским кучером, знаменитым Ильей Байковым на козлах, быстро катилась к заставе. За ней
27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825
27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825 Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай. И. Пущин. 27 ноября у Бестужева был свободный от дежурства день. Позавтракав, он сидел в малиновом архалуке с желтыми кистями на диване у Рылеева.
12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное, вечное слово: Свобода! Свобода! Огарев. В ночь на пятницу 12 декабря погода изменилась. Оттепель последних дней, когда над городом бушевали мокрые вьюги, снег таял и стекал в канавы грязными ручьями,
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА Вы уповали, может быть, Что станет вашей крови скудной, Чтоб льдистый полюс растопить! Тютчев. Только что пробило шесть часов утра. Пронзительный ветер бесснежной петербургской зимы свистел за окном; клубы холода отрывались от расписанных морозом
14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения
14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения 14 (26) декабря, «на очень холодной площади» (Тынянов, кажется, преувеличил — погода была пасмурная, скорее мягкая, 8 градусов мороза) произошло одно из самых мифологизированных событий русской истории.На переломе