ЯНВАРЬ 1820 — ДЕКАБРЬ 1820
ЯНВАРЬ 1820 — ДЕКАБРЬ 1820
Ремесленники так злы. что дают сдачи, если их бьют.
Стендаль.
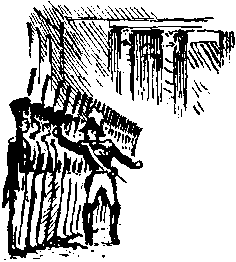
Петруша Бестужев, юноша кроткого нрава, флегматик, до страсти любивший чтение серьезных сочинений, не по летам молчаливый и задумчивый, надел 22 февраля 1820 года мичманские эполеты. А 1 марта и Александр Бестужев прочитал приказ о своем производстве в поручики. Геральдический пятилистник старинного рода расправлял и выравнивал ростки. Новый поручик хорошо знал историю своей родины и своего рода. Ему было известно, что не Бестужевы, а Бестужевы-Рюмины наполняли XVIII век блеском имени. Но корень обеих фамилий — общий, и этого было довольно для Бестужева, чтобы с грустью думать о потерянной славе рода. Пылкость воображения и врожденная склонность к преувеличениям питали в нем эту фантасмагорию. Если бы Прасковья Михайловна не была до замужества простой нарвской мещанкой, может быть, миражи болезненного самолюбия беспокоили бы ее сына гораздо менее. Бестужев зорко приглядывался к окружающему. Он видел Никиту Муравьева, вовсе не кичившегося своей знатностью и даже готового променять ее на почтенное гражданское имя в стране, обеспечивающей свободу полезной деятельности. Он высоко ставил практический разум Греча, удивлялся редкому соединению в нем дерзости и осторожности, ценил и уважал его жизненные успехи, достигнутые без всякой помощи знатности.

И. Прянишников. В 1812 году. Эпизод отступления Великой армии.
Люди с умом и талантом не могут не желать революции. И Никита Муравьев ждал революции. Революцию в России надлежало делать дворянам — такова старая традиция, освященная примерами античной истории. Аристократический строй должен быть свергнут, но свергнуть его надлежит аристократическими же руками. Бестужев не богат, как Муравьев, но он и не выходец из толпы немецких бродяг, как, например, Греч. Следовательно, его место среди российских римлян, которые не прочь за славу отдать все, чем владеют, и даже то, чего у них нет. Да и в самом деле, разве «исторический дворянин» Бестужев чем-нибудь хуже Алексея Орлова или Потемкина?
Так представлял себе Бестужев смысл борьбы, о которой смутно мечтал еще в юнкерские времена.
Никита Муравьев подал в отставку. Когда Бестужев спрашивал о причине, Никита строго глядел своими большими серыми глазами и отвечал невнятно о каких-то «важных делах», решительно не позволяющих ему служить дальше. В библиотеке дома на Фонтанке все чаще собирались молодые друзья хозяина из гвардейских полков: князь Лопухин, отставной капитан Семеновского полка Якушкин, князь Федор Шаховской и другие. Летом собрания и секретные переговоры происходили на даче.
Бестужеву очень хотелось проникнуть в муравьев-скую тайну, но она так тщательно охранялась, что самолюбие заставляло его сторониться Никиты с некоторым даже раздражением. Он предпочитал живые и откровенно рискованные либеральные разговоры. Эти разговоры велись в любой ресторации, и даже у пышного Андрие за обедом можно было ежедневно видеть подвыпивших офицеров, напевавших переведенную Катениным с французского песенку:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас.
И Бестужев распевал вместе с другими, высоко поднимая руку при последнем стихе. Когда он думал о том, что эту песню кричал Париж в бурные дни революции, волосы оживали у него под фуражкой и комок сладких слез подступал к горлу. Он любил свободу и ненавидел деспотизм.
Европа кипела в котле революций. В марте испанский король присягнул «Конституции 1812 года»; он был вынужден к этому военным восстанием и подведен к присяжному акту не кортесами, а железной рукой Риэго.
«Слава тебе, слава тебе, армия гиспанская!» — отметил Н. И. Тургенев в своем интимном журнале.
«Революция совершилась в три месяца, и не пролито ни капли крови… Это прекрасный аргумент в пользу революций», — писал Чаадаев брату.
В Берлине народ открыто бранил короля. Португальская хунта, воспользовавшись пребыванием короля в Бразилии, после быстрого военного восстания взяла в руки управление страной. Про шли времена, когда каждая почта сообщала о введении конституции то в Бадене, то в Дармштадте, и либералы, встречаясь на петербургских улицах, спрашивали друг у друга шепотом:
— А нет ли еще где-нибудь новой конституции?
Теперь вопрос, с которым они радостно пожимали при встречах дружескую руку, звучал совсем иначе и задавался громко:
— А нет ли еще где революции?
В это удивительное время император России гостил в Грузине у верного своего друга, «неученого новгородского дворянина», графа Аракчеева, а министр просвещения князь Голицын строго выговаривал попечителю Петербургского учебного округа Уварову за статью в «Невском зрителе» под скромным названием «О влиянии правительства на промышленность»:
— Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае позволено быть не может…
Внезапно разразилась гроза над Пушкиным.
Еще недавно видели его в театре. Он ходил по креслам, показывая знакомым и незнакомым портрет Лувеля[9] с подписью «Урок царям». Петербург еще твердил его эпиграммы: «Всей России притеснитель», «Холоп венчанного солдата». И вдруг Пушкин исчез, сжался, затих и стал бегать даже от друзей.
Дело обертывалось плохо. Можно было думать, что Пушкина ждет Сибирь. Вспоминали и о Соловецком монастыре. Чаадаев кинулся к Карамзину. Историограф поехал во дворец, к императрице Марии Федоровне. От Карамзина Чаадаев поскакал к графу Каподистриа, начальнику поэта в коллегии иностранных дел. Весь Петербург двигался для Пушкина и говорил о нем.
Вдруг стало известно, что Пушкина уже нет в Петербурге. Он выехал на юг из отцовской квартиры, в доме Клокачева у Калинкина моста, ранним утром, с дядькой Никитой, не успев проститься ни с кем, даже с Чаадаевым, которого не захотел будить. Высылка. Куда? Поэта проводили до заставы лицейские товарищи — барон Дельвиг и Яковлев.
Молния ударила в Пушкина, но гром напугал всех петербургских либералистов. Опасность сковала языки. Шум и крики замерли, наступила пора тихих разговоров с глазу на глаз…
Спасаясь от скуки пресных светских отношений, из которых вдруг выпала острота политических споров и суждений, Бестужев с яростью принялся грызть перо. Чернильная война была ему по душе, и он напечатал в «Сыне отечества» серьезный «Разбор песни о сражении русских с татарами» и в «Благонамеренном»— злое «Письмо к издателю о переводе отрывка из Расина «Сон Гофолии». Автором песни и отрывка был Катенин, недавно вышедший в отставку из полковников Преображенского полка. Церковно-славянская затхлость катенинского языка, манера воскрешать архаические литературные образы, залоснившиеся от долгого употребления их писателями XVIII века, — все это бесило Бестужева. В разборах и критических статьях, направленных против Катенина, он был беспощаден, и обидно-ядовитые словечки из арсенала «драгунской критики» снова начали гулять по Петербургу.
Однажды Николай Александрович вошел в петергофскую квартиру Александра с развернутым номером «Невского зрителя» в руках.
— Вот как надо писать в наше время, — сказал он, — читай. Я прискакал к тебе из Петербурга, — какие жестокие стихи, какая правда, какой удар по злодею…
Александр прочитал:
К ВРЕМЕНЩИКУ
(Подражание Персиевой сатире: «К Рубеллию»).
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырства ми злодей!
Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!
— Аракчеев, — прошептал Александр, роняя книжку журнала на диван.
Сатира «К Рубеллию» была уже однажды переведена пьяным поэтом Милоновым, который, не проспавшись, приписал ее Персию. Но та была просто сатира на придворного льстеца, а эта — вызов, адресованный в длинный, деревянный, унылый дом на Литейной, прямо в логово Аракчеева. Изумление, ужас, оцепенение охватили Александра. Сатира была подписана: Рылеев. Младенец бросался на великана. Кто этот смельчак?
— Рылеев погиб, — грустно сказал Александр.
— Погиб несомнительно, — подтвердил Николай Александрович, — дерзновенный поэт будет истреблен тотчас. Слишком верно изображение, слишком близко, чтобы Аракчеев не узнал себя в нем.
Так думал и весь Петербург, читая сатиру и и удивляясь неслыханному мужеству автора, вдруг показавшему, что и в цепях можно говорить правду, вызывая сильных на суд.
Дни скользили в тревожных сумерках. Но туча уходила в сторону — никто не слышал о гибели Рылеева. Тогда поняли, что Аракчеев не решился признать себя в дерзкой сатире, и шепот похвал неведомому стихотворцу нарушил мертвенную тишину ожидания..
Служить в полку становилось все трудней. Начальство не угнетало Бестужева нарядами в караулы, строевые обязанности субалтерн-офицера были ничтожны, хозяйственных обязанностей на нем не лежало вовсе. Бестужев мог проводить целые дни дома в Марли и уезжать в Петербург, когда вздумается. Но самый дух службы становился невыносимым. Эскадронный командир капитан Климовской ударами могучих кулаков разбрасывал по манежу из пешего строя солдат. Каждое посещение эскадрона полковым командиром генералом Чичериным означало безжалостную порку солдат дюжинами. Вахмистры свирепствовали пуще офицеров. Душно становилось в полку, и желчь подымалась в Бестужеве мутным наплывом. Впрочем, говорили, что в лейб-гвардии драгунском полку еще можно служить, так как он стоит в Петергофе, не на глазах царя. Гвардейские же полки, квартировавшие в столице, почти не сходили с плац-парадов.
Гвардия получила новых полковых командиров.
Полковник Шварц принял Семеновский полк от генерала Потемкина, назначенного начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Потемкин был известный щеголь, доктор Оксфордского университета, мягкий и либеральный человек. При нем семеновцы понятия не имели о том, что такое палка. Про Шварца же рассказывали, что в Калужском гренадерском полку, которым он раньше командовал, осталась после него братская могила засеченных рекрут и солдат. Так и называлась она: «Шварцова могила».
Уже из перового приказа, подписанного новым командиром, стало ясно, что будет дальше. Шварц выражал полное недовольство Семеновским полком: все было плохо — от строя до артельного хозяйства рот. Кровати были выброшены из ротных помещений и заменены нарами. Мгновенно пропали куда-то солдатские самовары. Запустели полковые огороды — стало не до них. А приносили они каждой роте по 500–600 рублей в лето. Многие солдаты готовили султаны на продажу — дело очень выгодное — и имели достаток. Стало и не до султанов. На вольные работы новый командир велел отпускать нижних чинов только гуртом, повзводно, но где же сыскать гуртовую работу на взвод, состоящий из знатоков самых разнообразных ремесел? Все свободное от службы время солдаты были заняты одним делом:
По три денежки на день,
Куды хочешь, туды день.
Купишь меду, купишь клею
И сандалишь портупею…
В манеже — сыро, пар густо клубится у ртов, голоса начальников звучат, будто из подвала. Начищенный, прибранный, обтянутый и вытянутый в блестящую пружину Шварц учит роту. Он выколачивает темп, не жалея своих упругих ляжек, то и дело выскакивает вперед и, скрючась, шагает задом, подавая такт дрыганьем всех суставов. Заметив непорядок, бросает марширующий взвод и ястребом слетает на правый фланг. Кулаки Шварца свистят в воздухе: «Х-р-р-як!»
Он плюет солдату в усы, потом швыряет свою шляпу на пол и яростно топчет ее ногами. В каком-то вдохновении неистовства о «останавливает две шеренги и, повернув их лицом друг к другу, приказывает первой оплевать вторую. Солдаты делают это без смака. Один посмел обтереть заплеванные глаза.
— Розог!
Скамейка как бы сама выбегает перед фрунт, дневальные расправляют пучки лоз, штаны падают с обреченного солдата, через смуглое тело протягиваются полосы, белые, словно после терпуга, и тотчас наполняются кровью. Шварц облизывается. У него вид дровосека в разгаре работы. Он застегивает перчатки на кулаках, о которых солдаты говорят, что от каждого пахнет покойником. Ученье продолжается.
Этот жестокий истязатель вздумал во время ученья 2-й фузилерной роты поставить под тесаки несколько нижних чинов, имевших знаки отличия военного ордена. Телесные наказания таких солдат были строжайше запрещены уставом, и солдаты хорошо знали о незаконности наказания. «Государева» рота — обшитые шевронами, увешанные крестами участники великих боев — решила жаловаться на вечерней перекличке. Уговоры ротного командира капитана Кашкарова не подействовали. Батальонный командир полковник Вадковский имел еще меньше успеха.
Вечером бунтовавшая рота была арестована и тайно отправлена в крепость. Пропажа головной части поразила полк. Темной и холодной ночью сразу зашевелились все батальоны и высыпали на площадь без ружей, без шапок, без строя. Офицеры из сил выбивались, пытаясь унять волнение, — напрасно. В мутном рассвете все еще кипел людьми неоглядный плац.
К солдатам примешивались кучки народа, шедшего из слобод на раннюю работу. Путаница в распоряжениях создавала всеобщий сумбур. Командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков, в ленте, звеня орденами, врезался с карьера в мятежную толпу.
— Изменники! Бунтовщики! — кричал он, и рыжая лошадь, скаля зубы, вертелась под ним, разбрасывая в стороны солдат.
К утру полк вывели из казарм в шинелях и фуражках, при унтер-офицерах и офицерах, окруженный пехотой с примкнутыми штыками. Несколько эскадронов конной гвардии провожали его до крепости. Семеновцы шли под арест почти охотно. Крепость не Шварц. Свернули с Невского на Фонтанку.
А. И. Тургенев вышел на подъезд своего дома и увидел эту необычайную картину. Он спросил у какого-то солдата:
— Куда вы?
— В крепость.
— Зачем?
— Под арест.
— За что?
— За Шварца.
Ропот и трусливое уныние поселились в Петербурге. Конные разъезды рыскали по городу. Лавки запирались до сумерек. Семеновские казармы были мертвы. Солдатские жены и дети толпились у замкнутых ворот, спрашивая проходивших мимо военных:
— Служивенький, куды ж кормильцев-то наших угнали? Не слыхал ли?
Генерал Васильчиков приказал произвести посадку 2-го и 3-го батальонов арестованного полка на суда для отправления в Кронштадт, а оттуда — в Свеаборг и Кексгольм. Шесть орудий сторожили выход батальонов из крепости при посадке.
Все это было предпринято и исполнено генералом Васильчиковым по собственному его разумению, так как «августейшего махалы» не было в Петербурге: он заседал на конгрессе в Троппау. «Грехи людей мы режем на металле, а добродетели их чертим на воде». Васильчиков никогда не читал Данте и, может быть, даже не слышал о нем, но адская надпись эта послужила для него законом. Вековая история славных походов, Полтава и Кульм — в одно мгновение все было забыто, и грозная когорта царской гвардии перестала существовать в течение суток.
Общее сочувствие было на стороне семеновцев. Но, кажется, не было человека, который так страстно переживал бы это сочувствие и так искренне терзался бы судьбой погибшего полка, как Александр Бестужев. Он хорошо знал из семеновских офицеров
Сергея Муравьева-Апостола, поручика Арсеньева, полкового адъютанта Бибикова. Что будет с ними? Что делается с 3-м батальоном, вывезенным в Кронштадт? Бестужев взял на двое суток отпуск к младшему брату Петруше, служившему при главном начальнике Кронштадтского порта, и на новеньком пароходе Берда, только что открывшем пригородные рейсы, 20 октября выехал в Кронштадт.
На рейде качалась дырявая посудина, без бортов и окон, наполовину залитая водой. Эта посудина была когда-то кораблем и называлась «Память Евстафия». Последнее слово стерли с носа время и непогоды; осталось: «Память» — память о корабле. Здесь квартировали опальные семеновцы, без теплой одежды, без обуви, почти без провианта, сумрачно всматриваясь в свинцовый морской горизонт. Полковник Вадковский был с батальоном. Он встретил Бестужева на верхней палубе, завернутый в шинель, измученный лихорадкой, с искусанными от досады губами.
— Хорошо ли вы сделали, Бестужев, что навестили нас? — сказал он угрюмо. — Это опасно. Ведь мы бунтовщики…
Он принялся рассказывать о том, как местное начальство не отпускает солдатам ни муки, ни хлеба, как он вчера стоял на коленях перед адмиралом Моллером, как нетерпеливо ждут арестанты минуты, когда смогут забыть о «Памяти».
— Но как мы пойдем в Свеаборг, — говорил Вадковский, — не знаю. Скоро зима. Штормы бушуют в Балтийском море. Даже по регламенту Петра Великого запрещено выходить кораблям из гавани в конце октября…
Бестужев простился с горемычными семеновцами и грустно возвращался в Петербург. «Так и молчим мы скромно и боязливо, — думал он, раскачиваясь под ветром вместе с пароходом, — так и промолчим, наверно, до той поры, когда придется качаться вместо фонарей с пеньковыми галстуками на шеях. А все потому, что правительство берет у нас больше, чем жизнь. Оно отбирает у нас разум и волю. Но что человек, у которого отняты разум и воля? Дрессированный пудель, выделывающий штуки на потеху господина. Россия — как Уголино, который пожирает своих детей, чтобы сохранить им отца. И есть люди, которые думают, что этого требует слава родины…»
Пароход остановился против Летнего сада. Бестужев вскочил, огляделся и зашагал на берег. Даже в этот печальный осенний день «оштукатуренная Лапландия» была прекрасна: и золото Летнего сада, и золото решетки, и каналы, и дворцы, и улицы… Бестужеву уже с лета казалось, что он влюблен. Она была нежная светлая женщина, с глубоким взглядом ласковых глаз, легкими кудрями темно-русых волос, с черными бровями, — «Светлана» баллад, сочиненных для нее Жуковским. Ее муж — хром и, говорят, подлец. Воейковы в июне переехали в Петербург из Дерпта, где Александр Федорович был профессором в университете. Здесь он пристроился на службу в департаменте духовных дел у А. И. Тургенева. Александра Андреевна вошла в мысли Бестужева сразу, но прочно ли — он не знал. До сих пор он любил любовь за то, что она уносит время, но не сомневался в том, что и время уносит любовь. Человек, не умеющий любить, представлялся ему чем-то вроде часов без пружины, и только. Но прежде он не побежал бы к женщине, как мальчишка, со стихами в кармане. Теперь же изо всех сил спешил к Воейковым, ощупывая за бортом мундира свежий номер «Соревнователя» со своим стихотворением, написанным в подражание Овидию.
Бестужев писал сестрам в деревню, где время «свинцовым маятником означает длинные скукою дня и вечера», что он почти ничего не делает, хотя постоянно собирается делать много. Строго говоря, это было правильно. Мелкими статьями, стихотворениями, разборами он постоянно напоминал о себе публике, заставляя ожидать неизмеримо большего. Хотя это большее никак не могло родиться, Вольное общество любителей российской словесности в заседании 15 ноября избрало Александра Бестужева своим членом.
1820 год закончился предпринятой для развлечения поездкой в Ревель. Бестужев аккуратно вел записи о всем виденном и многом из слышанного в дороге и в Ревеле. Из этих записей составился бойкий и острый очерк, очень разнообразный по содержанию и чрезвычайно занимательный по манере повествования. Встретив еще под Петербургом, на первой станции после заставы, своего петербургского приятеля, гусара и собутыльника по ресторации Фельета, Бестужев слышит от него ужасные предсказания о скуке, ожидающей его в Ревеле. Бестужев будет «зевать, как кремлевская пушка», ибо ревельцы — жалкие невольники своих собственных карманных часов. Затем перед читателем мелькают живописные типы проезжих, стихи о зимнем солнце, Нарва с черными башнями древнего замка, философские рассуждения, исторические воспоминания о битвах русских с ливонскими рыцарями, картины ревельских балов и томные образы белокурых красавиц, встреча Нового года в маскараде у совершенно онемечившегося русского генерала, виды города с фонарями посреди улиц, со стрельницами на старинных воротах, готическими колокольнями, ратушей, свинцовым прибоем зимнего моря… История города Ревеля, описания местных школ, клуба Черноголовых [10], обратный путь, история фантастического предка Бестужевых, боярина Гедеона, — обо всем успевает рассказать автор своим живым и легким языком. Все это — на ходу, на скаку, археология пополам со стихами и бытовыми набросками наблюдательного путешественника, но все интересно и в общем очень содержательно.
10 января 1821 года Бестужев вернулся в Петербург.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
В ПЕТЕРБУРГЕ (1817–1820)
В ПЕТЕРБУРГЕ (1817–1820) Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел. Из стен закрытого учебного заведения, где безвыходно прошло целых шесть лет, он попадает в кипящий политическими страстями Петербург.Первое тайное общество — декабристский «Союз спасения» —
ССЫЛКА НА ЮГ (1820–1824)
ССЫЛКА НА ЮГ (1820–1824) Скучен белорусский тракт. Редко на станциях встречаются проезжающие. В жаркий день, в мае 1820 года, из Петербурга выехал по этому тракту Пушкин. Ссыльный поэт был в красной рубахе, в большой поярковой шляпе. Его сопровождал неизменный слуга Никита
1819–1820 ГОДЫ
1819–1820 ГОДЫ Н. В. Гоголь после смерти брата Ивана (умер летом 1819 г.) учится в Полтаве (где именно, — не установлено).Письма №№ 1–2.Заболотский. «К
Годы 1819–1820
Годы 1819–1820 Не ранее июля 1819. Л. с бабушкой был в Москве и «видел оперу „Невидимку“» (т. е. «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник» — опера в 4 действиях, слова Е. Лифанова, музыка К. А. Кавоса).Раздел «Письма», письмо № 1; ЛН, т. 45–46, 1948, стр. 499 и
Год 1820
Год 1820 Лето. Поездка Л. с Е. А. Арсеньевой на Кавказские минеральные воды к Е. А. Хастатовой.ЛН, т. 45–46, 1948, стр. 62; В память графа М. М. Сперанского. 1872, стр.
Виктор Гюго – Адель Фуше (январь 1820 года)
Виктор Гюго – Адель Фуше (январь 1820 года) Несколько слов от тебя, моя любимая Ad?le, вновь изменили мое настроение. Да, ты можешь делать со мной все что угодно. И завтра я непременно умру, если волшебный звук твоего голоса и нежное прикосновение твоих обожаемых губ не вдохнут
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 1820 ГОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 1820 ГОД На лето все уважающие себя люди покидали Петербург. Не оставалась в городе и семья Бетанкура. В мае 1820 года Бетанкур с женой и двумя дочерьми, Аделиной и Матильдой, снова поехал в Нижний Новгород. Комитетом для строений и гидравлических работ в своё
1820-1823
1820-1823 Через четыре года после женитьбы отца, когда мне минуло 18 лет, отец задумал и меня женить. Из арзамасских купцов каждый охотно отдал бы за меня свою дочь с большим приданым и деньгами; но помещик позволилнам жениться только на крепостных. У нас в слободе было три
Англия. 1815–1820
Англия. 1815–1820 29 июля 1815 года в своем первом письме, отправленном из Ливерпуля, Дж. Аллан писал своему партнеру в Ричмонд:«Я вновь стою на английской земле — больше двадцати лет прошло с тех пор, как я ее покинул. После 34 дней путешествия все чувствуют себя хорошо — Фрэнсис
1819–1820
1819–1820 1 июля 1819 (не раньше). Лермонтов с бабушкой был в Москве и «видел оперу „Невидимку“» (т. е. «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник» — опера в 4 действиях, слова Е. Лифанова, музыка К. А. Кавоса).Лермонтов, АН СССР, т. VI, письмо № 1, с. 403, 695; ЛН, т. 45–46, 1948, с. 499 и 537–538. 06 опере
1820
1820 Лето. Поездка Лермонтова с Е. А. Арсеньевой на кавказские минеральные воды к Е. А. Хастатовой.ЛН, т. 45–46, 1948, с. 62; В память графа М. М. Сперанского. Изд. Публичной библиотеки, СПб., 1872, с.