ГЛАВА XX
ГЛАВА XX
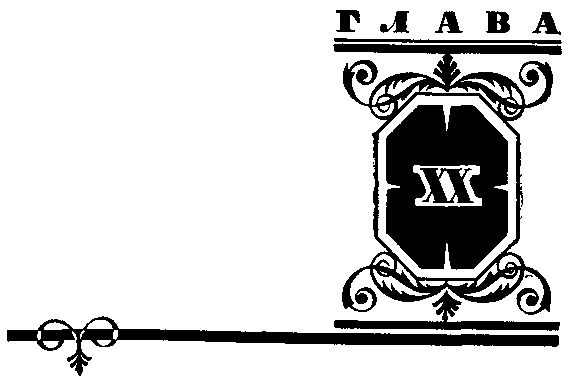
После того как министр иностранных дел Моле в марте 1839 года подал в отставку, Бейль бегал по Парижу в поисках хотя бы какого-нибудь чиновничьего места. Но увы! Для великого реалистического писателя Франции в столице короля банкиров не нашлось места ни бухгалтера, ни консьержа. Во избежание худшего Бейлю пришлось 24 июня 1839 года отправиться на половинный оклад к себе в Чивита-Веккию — пыльную, с грязными мясными лавками и черепичными крышами.
Со зловещими симптомами тяжелого и непонятного заболевания он просыпается ночью и по утрам в сильной испарине. Он думает об уходе в отставку, но о таком уходе, из которого больше не возвращаются ни к какой должности. «В конце концов я спрашиваю, — пишет он Ромену Коломбу, — стоит ли мне, именно мне, продолжать тянуть лямку, именуемую существованием?» Этот вопрос уже давно приходил ему в голову. Осечка, данная пистолетом когда-то, возвратила к жизни могучий и сильный интеллект. А теперь снова он тяготится существованием.
Наступают долгие вечера, ветер и дождь бьют в окна. На улицу выходить нельзя, потому что порывистый ветер с моря сбивает с ног. Остается только одно: при свете сорока восьми спермацетовых свечей надеть старое гренобльское платье, очинить дюжину гусиных перьев, наполнить чернильницу железными чернилами и, склеив два экземпляра в один, на огромных, как полотнища, листах бумаги перечитывать «Пармскую обитель», — делать пометки на полях, ибо обнаружились такие недочеты и промахи, которые немедленно захотелось восполнить.
20 мая 1840 года Бейль посылает Ромену Колом-бу текст «Пармской обители», выправленный для второго издания. Он пишет:
«Я писал быстро, в течение шестидесяти дней, устремив все свое внимание на события, о которых я говорю. Я вношу поправки, во-первых, чтобы до предела внести в текст ясность, во-вторых, чтобы помочь читателю вообразить себе происходящие события, и, в-третьих, чтобы попытаться ввести в жизнь все мои персонажи. Это требование жанровой литературы».
Бейль, закусив губы, со сжатыми кулаками расхаживая по комнате, напряженно работает над созданием новых новелл и хроник. Денег мало. Журнал «Revue des Deux Mondes» дал полторы тысячи франков, которые надо отработать.
15 октября 1840 года Бейль прочел в «Парижском обозрении «Этюд о г-не Бейле (Фредерике Стендале)», принадлежащий Бальзаку[107]. Бурно и стремительно он обрушился на Стендаля таким потоком похвал, который мог ошеломить гораздо больше, нежели ругань неразборчивого критика.
«Бейль, более известный под своим псевдонимом Фредерик Стендаль, по моему мнению, является одним из тончайших мастеров литературы идей…
Бейль написал книгу, в которой высокое качество мысли с переходом к каждой новой главе сияет все Солее и более ослепительным светом. В том возрасте, когда люди довольно редко находят действительно грандиозные сюжеты, когда написаны уже два десятка томов, исключительных по умственной напряженности, Бейль создал все же произведение, которое может быть оценено лишь людьми действительно огромной культуры. В конце концов его книга, по существу, есть книга о Современном властителе. Она достойна того, чтобы быть написанной каким-нибудь Макиавелли, если бы он также был изгнан из Италии и жил в XIX веке…
Возьмем таких героев романа, как герцогиня Сан-северина, как Моска, Фабрицио, государь со своим сыном, Клелия. Взгляните, как проявляются их страсти и свойства характера; ведь это же сама Италия, именно такая, как она есть, с ее тонкостью, скрытностью, необходимостью притворства, хладнокровием, упорством и неизбежностью высокой политики повсюду. «Пармская обитель» в то же время по замыслу самая девственная книга, более целомудренная даже, нежели самый пуританский роман Вальтера Скотта…
Никакая другая книга не может дать каждой странице этих живых криков страстей, этих глубоких и тонких суждений дипломатов. В этой книге вы совсем не найдете того литературного балласта, сцепляющего эпизоды, страницы, главы, который является неизбежным, мертвым, как те прослойки любого большого романа, которым мы, французы, даем название tartine. Нет, нет! В нем все действующие лица живут, размышляют, чувствуют, драма стремительно развертывается, и события все время движутся вперед. Но надо быть очень смелым, чтобы дать представление о романе, восхитительно построенном «а основе событий, до такой степени стиснутых и сжатых…
Вот что со мной случилось: при первом чтении романа, который меня совершенно поразил, я все же нашел в нем недостатки. Но когда я стал его перечитывать, я с удивлением чувствовал, что куда-то исчезли все длинноты, я сам увидел полную необходимость тех подробностей, которые в первом чтении казались мне ненужно длинными или смутными. Сейчас, для того чтобы хорошо написать об этом романе, я заново его перечитал. И вот, занявшись этим дольше, чем хотел, первоначально я задержался любованием каждой страницей поистине прекрасного произведения; и все в нем показалось мне в высшей степени гармоничным, взаимно связанным и согласованным как в силу искусства писателя, так и в силу объективной естественности излагаемого хода событий…
Слабой стороной произведения мне кажется его стиль — именно странность словосочетания там, где автор стремится к высшей ясности, пренебрегая свойствами французской фразы. Ошибки Бейля — это чисто грамматические ошибки; его язык небрежен, его синтаксис неряшлив и напоминает манеру французских писателей XVII века, но зато его концепции обладают широтой и мощностью, его мысль совершенно оригинальна и зачастую передана прекрасно…
Этот роман Бейля стоит на такой огромной высоте, что требует от читателя полного знакомства с общественными слоями, правительствами, странами, национальностями; и уже теперь я не удивляюсь больше тому молчанию, которым окружена эта книга с момента ее выхода. Это судьба всех книг, не имеющих целью бить на популярность и угождать вкусам».
Заканчивая свой отзыв, Бальзак предъявляет Стендалю категорические требования изменить не только стиль, не только язык, но выкинуть вступительную часть и начать прямо с описания битвы при Ватерлоо.
Эти требования первоначально ошеломили Стендаля, затем заставили его задуматься и, наконец, вызвали бурный протест.
Быть может, господин Бальзак прав во многом. Да, но сопоставление графа Моска и Меттерниха! Бальзак пишет:
«Все, что совершено было господином Меттернихом в течение его долгой деятельности, не более замечательно, чем то, что совершает в романе Моска. Когда подумаешь, что автор все это придумал, завязал и развязал подобно тому, как события завязываются и развязываются при дворе, — самый неустрашимый, не искушенный в творчестве ум почувствует себя смущенным, ошеломленным таким трудом. Лично я готов теперь поверить в «волшебную лампу Алладина», с которой человек входит в действительность и освещает ее с неожиданных сторон».

«Иродиада».
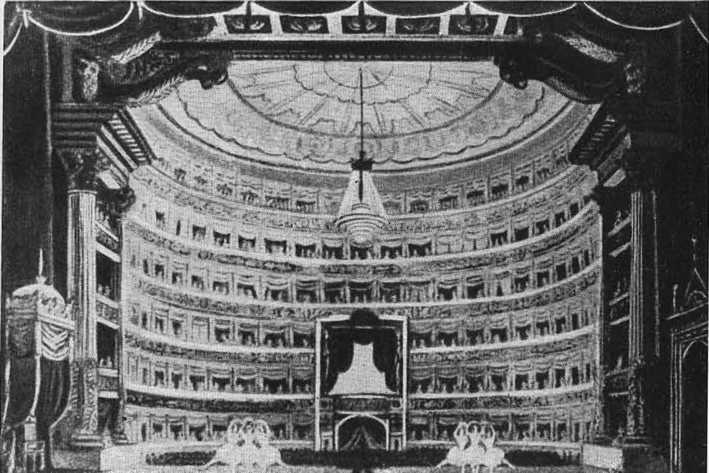
Миланский театр (Ла Скала).

Воспитательный дом во Флоренции.

Палаццо Риккарди во Флоренции.
Усталость позволила Бейлю не заметить категорического требования Бальзака — из антирелигиозного произведения превратить его роман в роман католический[108].
29 октября 1840 года Стендаль пишет:
«Прочтя статью господина Бальзака, я беру себя в руки, набираюсь храбрости, чтобы исправить стиль».
На другой день он пишет письмо Бальзаку, которое остается неотосланным[109].
«Чивита-Веккия, 30 октября 1840 года.
Я был очень удивлен вчера вечером, сударь. Мне кажется, никогда ни о ком еще не было дано такого отзыва в «Обозрении», да к тому же лучшим знатоком дела. Вы сжалились над сиротой, покинутым среди улицы. Я достойно ответил на эту доброту. Я прочел статью вчера вечером, а сегодня утром я сократил до четырех или пяти страниц пятьдесят четыре первые страницы произведения, которое вы вводите в свет.
Литературная работа для заработка внушила бы мне отвращение к удовольствию писать; я отложил радости печатания еще на двадцать-тридцать лет. Какой-нибудь литературный компилятор вновь открыл бы достоинства, значение которых вы так странно преувеличиваете.
Ваши иллюзии идут слишком далеко, например «Федра». Сознаюсь, я был смущен, — я, довольно хорошо расположенный к автору.
Но так как вы взяли на себя труд прочесть этот роман трижды, я задам вам много вопросов при первой же встрече на бульваре.
1. Позволительно ли называть Фабрицио «нашим героем»? Мне не хотелось так часто повторять слово Фабрицио.
2. Следует ли уничтожить эпизод «Фаусты», который в процессе писания слишком увеличился в объеме?
Фабрицио пользуется представившимся случаем, чтобы доказать герцогине, что он не способен к любви.
3. Мне казалось, что пятьдесят четыре первых страницы представляют собой приятное видение. Я чувствовал некоторое раскаяние, правя корректуры, но подумал о скучных начальных главах Вальтера Скотта и о столь длинном вступлении божественной «Принцессы Клевской».
Я ненавижу вылощенный стиль; признаюсь вам, что многие страницы «Пармской обители» были напечатаны прямо по продиктованному тексту. Я скажу, как говорят дети: больше я к этому не возвращусь. Однако я полагаю, что после уничтожения двора в 1792 году роль формы с каждым днем уменьшается. Если бы господин Вильмен, которого я упоминаю здесь как наиболее почтенного из академиков, перевел «Пармскую обитель» на французский язык, ему нужно было бы три тома, чтобы высказать то, что было дано в двух. Благодаря тому, что плуты по большей части бывают напыщенны и красноречивы, декламаторский тон вызовет к себе ненависть.
В семнадцать лет я едва не подрался на дуэли из-за «неопределенной вершины лесов» господина де Шатобриана, у которого было много поклонников в 6-м драгунском полку. Я никогда не читал «Индийской хижины», я не выношу господина де Местра.
Мой Гомер — это «мемуары» маршала Гувьон Сен-Сира. Мне кажется, что Монтескье и «Диалоги» Фенелона хорошо написаны. За исключением г-жи де Морсоф и ее друзей, я не читал ничего из того, что было напечатано за последние тридцать лет. Я читаю Ариосто. Мне нравятся его повествования. Герцогиня— копия с Корреджо. Я узнаю будущую историю французской литературы в истории живописи. Мы живем в эпоху учеников Пьетро да Кортоне, который работал быстро и утрировал экспрессию, как госпожа Коттен, у которой тесаные камни добываются на Борромейских островах.
После этого романа я не… Сочиняя «Пармскую обитель», чтобы настроиться на надлежащий тон, я каждое утро читал две или три страницы из «Гражданского кодекса».
Разрешите мне грязное выражение: я не хочу… душу читателя. Этот бедный читатель покорно прочитывает чрезмерно изысканные выражения, например «ветер, с корнем вырывающий волны», но после того как момент волнения проходит, они возникают в его памяти. Я же, наоборот, хочу, чтобы читателю, если он вспомнит о графе Моска, не пришлось менять своей первой оценки.
4. Я покажу в фойе оперы Расси, Рискару, посланных Рануцием — Эрнестом IV после Ватерлоо в Париж в качестве шпионов. Приехавший из Амьена Фабрицио заметит их итальянский взгляд и их миланское наречие, которое, как думают эти наблюдатели, никому не понятно. Все говорят мне, что нужно заранее познакомить читателя с героями. Я сильно сокращу аббата Бланеса. Мне казалось, что необходимы персонажи, ничего не делающие, а только трогающие душу читателя и уничтожающие романтическую видимость.
Я покажусь вам чудовищем гордости. Как, скажет ваше внутреннее чувство, этому животному недостаточно того, что я для него сделал, вещь беспримерную в наш век, — он еще хочет, чтобы его хвалили за стиль![110]
У меня только одно правило: быть ясным. Если я не буду ясным, то весь мой мир будет уничтожен. Я хочу рассказать о том, что происходит в глубине души Моска, герцогини, Клелии. Это страна, куда не проникает взор богачей, как латинист, директор Монетного двора граф Руа, господин Лаффит и т. д. и т. д. и т. д. Взор лавочников, добрых отцов семейства и т. д.
Если к темноте предмета я присоединю темноту стиля г-на Вильмена, г-жи Санд и т. д. (предполагая, что я пользуюсь редкой привилегией писать, как эти корифеи красивого стиля), если я присоединю к трудности содержания темноту этого хваленого стиля, абсолютно никто не поймет борьбу герцогини с Эрнестом IV. Мне кажется, что стиль г-на де Шатобриа-на и г-на Вильмена говорит: 1) много приятных мелочей, которые, однако, не стоило бы говорить, как стиль Авзония, Клавдиана и т. п.); 2) много мелкой лжи, которую приятно слушать.
Эти великие академики своими произведениями приводили бы публику в безумный восторг, если бы они родились около 1780 года; их шансы на величие зависели от старого режима.
По мере того, как полуглупцы становятся менее многочисленными, значение формы уменьшается. Если бы «Пармская обитель» была переведена на французский язык госпожой Санд, она имела бы успех, но чтобы высказать то, что заключается в этих двух томах, понадобилось бы три или четыре. Учтите это извинение.
Полуглупец больше всего дорожит стихами Расина, так как он понимает, что такое незаконченная строка; но с каждым днем стих составляет все меньшую часть славы Расина. Публика, становясь более многочисленной, менее доверчивой, желает большого количества правдивых фактов о той или иной страсти, о положении в жизни и т. д. Сколько стихов исключительно ради рифмы принуждены были написать Вольтер, Расин и т. д., словом все, кроме Корнеля; так вот, эти стихи занимают место, которое законно принадлежит правдивым фактам.
Через пятьдесят лет господин Биньян и Биньяны в прозе так надоедят своей элегантной, но лишенной всяких других достоинств продукцией, что полуглупцы окажутся в большом затруднении. При их тщеславном желании говорить о литературе и притворяться мыслящими что станут они делать, когда не смогут больше толковать о форме? Они кончат тем, что создадут себе бога из Вольтера. Но остроумие длится не больше двухсот лет, и в 1978 году Вольтер станет Вуатюром, между тем как «Отец Горио» всегда будет «Отцом Горио». Возможно, что полуглупцы, лишенные своих дорогих «правил», которыми бы они могли восхищаться, окажутся в таком затруднительном положении, что, может быть, почувствуют отвращение к литературе и сделаются набожными. Так как все политические мошенники обладают декламаторским и красноречивым тоном, то он вызовет к себе отвращение в 1880 году. Тогда, может быть, будут читать «Пармскую обитель».
Письмо не послано Бальзаку. В Бейле происходит сложная внутренняя работа. Проходит несколько суток, и мы читаем:
«Я не могу верить преувеличенным похвалам Бальзака. Однако я начал исправлять стиль. Но думается мне, что стиль простой, противоположный г-же Жорж Санд, Вильмену и Шатобриану, как будто бы больше идет для моего романа».
Проходит еще несколько дней, и Бейль окончательно решает расстаться с безграмотным «внутренним редактором», ибо «человек, не умеющий играть на флейте, не может играть на человеческих душах».
Он пишет: «Любовь к ясному и понятному тону разговора, который к тому же так изобразителен, вполне доведен до предела, соответствует оттенкам чувств, — вот что привело меня к стилю, моему стилю, и этот мой стиль является полной противоположностью напыщенному стилетворчеству нынешних романов».
Бейль спрашивает себя, следует ли ему идти по пути этой тщеславной надутости языка, которая сыплет туда и сюда пригоршни благородных фразок, и отвечает отрицательно: «Не следует». Он пишет: «Я не буду исправлять только небрежности того стиля, который является самым для меня подходящим».
Так окончилась борьба с Бальзаком! Бейль решил остаться самим собою. И то, что он успел проделать в романе, следуя указаниям Бальзака, он теперь старательно восстанавливает. Вновь является вступление, очаровывающее нежнейшими красками миланской весны 1800 года. «Ради нежной картины Милана 1796 года, ради образа госпожи Пьетранера я вставил первые страницы в их прежнем, непризнанном виде».
Бейль продолжает создавать новые произведения. Он пишет новеллу «Излишняя благосклонность вредит» на основе материалов хроники монастыря Паяно. Он начал хронику XVII столетия «Suora Scolastiса». Работая над этими вещами, Стендаль словно продолжал работать над «Пармской обителью»; вместе с тем он писал маленькие этюды вроде «Филибер Лескаль».
Та молчаливость, которая овладела созерцательными умами Франции, тот ужас, который замыкал уста серьезных аналитиков общественного положения Франции 40-х годов, лучше всего сказались в этом убийственном и мрачном отрывке, едва насчитывающем пять страниц, опубликованном в Гетцлевском сборнике «Diable ? Paris» в 1857 году. Он начинается словами: «Я был немного знаком с этим огромным человеком, г-ном Лескалем, который по аналогии со своим шестифутовым ростом был одним из самых крупных негоциантов Парижа». Лескаль не обладал мрачным характером, но было чудом, если он в день произносил более десяти слов. Неясно, почему именно этот человек попал на те ужины, которые устраивались по субботам в компании, «содержавшейся в большой тайне». По существу, Лескаль — это прототип Левена-отца. Бейль описывает, как сын этого Лескаля — Филио явился к нему по завещанию отца с просьбой дать такой совет, который позволил бы ему остаться в Париже.
«В добрый час, оставайтесь в Париже, но лишь при условии, что вы вступите в легитимистическую оппозицию, то есть будете сторонником самой большой нелепости: бурбонских лилий, Христа, римского папы и средневековой монархии Франции и будете всегда дурно отзываться о правительстве кого бы то ни было. Возьмите под свое покровительство какую-нибудь певичку из оперы и постарайтесь не разориться больше чем наполовину. Если вы будете исполнять все это, я буду продолжать видеться с вами, а через восемь лет, когда вам будет тридцать два, вы образумитесь полностью».
Трудно представить более ужасное предсмертное произведение, написанное каким-либо писателем мира, нежели эти советы, которые являются прямой противоположностью тому, что думает и чувствует сам Стендаль.
Наряду с творчеством он занимается раскопками, откапывает этрусские вазы, тщательнейшим образом прослеживает историю заселения Этрурии по всем материалам, какими располагал тогдашний Рим. В свободные часы он выходил на взморье. Перепела и другие птицы с африканского побережья летят куда-то в Россию, в Германию, в Северную Европу… С моря дует ветер, горячее солнце палит голову. Бейль был превосходным стрелком. Двоюродный брат рассказывает, что он из коляски пистолетной пулей убивал птицу на лету. Так и тут, нагруженный перепелками, он возвращается домой.
Дочь выходца из Франции, столяра Видо, попадается ему на дороге. Ее отец делает книжные шкафы для господина Бейля. Она кричит ему вслед:
— Господин Бейль, жара! Вам бы лучше накрыть голову!
Г-н Бейль сам знает, что жара, и он устает от этих длинных прогулок. Но у него в голове другие мысли, которые каждый раз возобновляются, когда он видит эту спокойную бедную девушку, всегда опрятно одетую в поношенное платье. Неожиданно возникает решение — устроить судьбу свою и этой девушки. То, что таким трудным казалось всегда и к чему все-таки стремилось сердце, может осуществиться, если не будет к тому «никаких препятствий». Совершенно официальным порядком Бейль делает предложение. Девушка Видо не отказывает, и искра затаенной радости мелькает у нее в глазах. Она видит ежедневно и хорошо знает этого человека. Но она знает также крутой характер отца и матери, а хуже всего — она знает, какие толки идут по всей Романье о порочных и отвратительных карбонарских связях господина французского консула.
Столяр не отказывает консулу. Это, конечно, большая честь. Но счастье дочери прежде всего; пишется письмо в Гренобль, тайком от Бейля, а Лизимак Тавернье приписывает от себя всевозможные коварные вопросы, на которые должен ответить брат столяра Видо, проживающий где-то в деревеньке за Греноблем. Ответ приходит с большим опозданием, когда измученный Бейль впервые узнал, что такое одиночество, охватывающее человека на пустынном побережье.
Но вот однажды утром раздается стук в дверь. Бейль смотрит в окно: французский пароход, привезший вчера почту, еще не ушел в Неаполь. Перед ним стоит одноглазый столяр, грустно, но решительно смотрит на французского консула и отказывает кавалеру ордена Почетного легиона в великом счастье стать мужем его дочери. В письме говорится: «Бейль? Вы говорите, Бейль? Старый Бейль умер, а ныне оставшийся в живых — это исчадие ада. Называйте его Стендаль — предшественник антихриста». Время сохранило для нас это замечательное письмо, после прочтения которого, со спокойной улыбкой пожимая руку, Бейль проводил столяра до двери и сел выправлять корректуру нового издания «Пармской обители»[111].
Эта работа была прервана. Уже в сотый раз приходит депеша по так называемому «Восточному вопросу». В 1807 году Бонапарт сказал: «Кто будет управлять Константинополем, тот будет управлять Европой, а быть может, станет истинным владыкой мира». В 30-х годах подвластные Турции Египет и Сирия неоднократно пытались силой добиться независимости. Николай I пришел на помощь султану, когда его армия была разбита египетскими войсками Мехмеда-Али, Франция же помогала Мехмеду-Али. Поэтому, признав в 1833 году власть султана над собой, Мехмед-Али в 1839 году вновь начал войну с Турцией. Россия и Англия, а затем Австрия и Пруссия заявили себя сторонницами турецкого султана. Франция выступила на защиту Мехмеда-Али. Адмирал Лалан передал ему захваченный французами турецкий флот. Французские офицеры стали инструкторами египетской армии.
Возник вопрос о преобладании французского влияния в Сирии и Палестине, что было невыгодно Англии. Французам было предложено отказаться от покровительства Мехмеду-Али. А это значило для Франции расписаться в том, что она затеяла беспринципную авантюру. Однако Луи-Филипп и французская биржа отступили.
Бейль с негодованием перечитывал депешу за депешей, чувствуя себя скандализованным тем, что он принадлежит к составу французского чиновничества, связавшего себя с неблаговидной восточной авантюрой. Но если поражения французской дипломатии и играли роль в подготовке того негодующего жеста, который сделал французский консул Анри Бейль, то все же не они вызвали его беспримерный поступок.
5 февраля 1840 года капуцинский монах из Сардинии Томас, проживавший в латинском монастыре Дамаска, исчез бесследно. Французский консул в Дамаске граф Ратти-Ментон объявил, что христианский монах Томас явился жертвой кровожадности палестинских евреев. Он лично руководит обысками в еврейских кварталах. Он требует от сирийского губернатора Шерифа-паши предоставления вооруженных сил, он подкупает лжесвидетелей, арестовывает еврейских купцов и раввинов, учиняет допросы под пыткой, вымогает деньги, а когда кровь полилась рекой по всему Дамаску, заставляет евреев откупаться от пыток и смерти. Вдруг обнаружен скелет Томаса, затем найдены и убийцы — сын австрийского генерального консула Пиччиото и четверо мусульман, которых обокрал пропавший монах. Французский граф поспешно замял это дело.
Прочитав сообщение о нем в английских газетах, Бейль созвал служащих всех консульств и представителей посольского секретариата и стал, стуча кулаками по столу, кричать, что ни один честный француз не должен сносить такого позора, что только дикая северная царская страна может допускать насилия над национальностями и что до тех пор, пока существуют такие консулы, как французский консул в Дамаске, он, Бейль, не может считать себя спокойным.
Лизимак, смотря на русского консула Аратта, пытался вставить свое слово:
— Господин консул, следует ли забывать о том, что вы подданный его величества?
— Не ваше дело говорить мне об этом! Я объявляю, что с нынешнего дня и с этого числа я порываю с французским гражданством и не состою в числе подданных его величества. Я прошу вас, или, вернее, я приказываю вам составить соответствующее заявление министерству.
С этими словами он хлопнул дверью и вышел из кабинета.
Через час Лизимак робко постучался к нему.
— Хорошо ли так? — спросил он, предлагая черновик письма и боясь, что Бейль откажется от своего намерения.
— Совсем не хорошо, — сказал Бейль, прочитав, надорвал и бросил лист. Потом взял перо и сам написал резкий, не оставлявший никаких сомнений протест с заявлением о выходе из французского подданства.
Министерство иностранных дел не сочло возможным отказать Бейлю в праве выхода из французского подданства. Звонкая пощечина, нанесенная великим писателем Луи-Филиппу и всему правительству короля банкиров, была приглушена ловким жестом: Анри Бейль — итальянец — был оставлен на посту французского консула, и по-прежнему французское посольство в Риме продолжало аккуратно высылать Бейлю консульское жалование. Вот откуда «Арриго Бейль — миланец», первая строка собственной эпитафии Бейля[112].
В Чивита-Веккию приехал немецкий итальянец, или итальянский немец, молодой краснощекий художник Зедермарк; он желал познакомиться со знаменитым европейским писателем, роман которого «Пармская обитель» дал ему самые счастливые минуты жизни. Бейль сделал ответный визит, и в течение месяца Зедермарк писал его портрет, по мнению Бейля очень удачный, отличавшийся большим сходством.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная