ГЛАВА XIV
ГЛАВА XIV
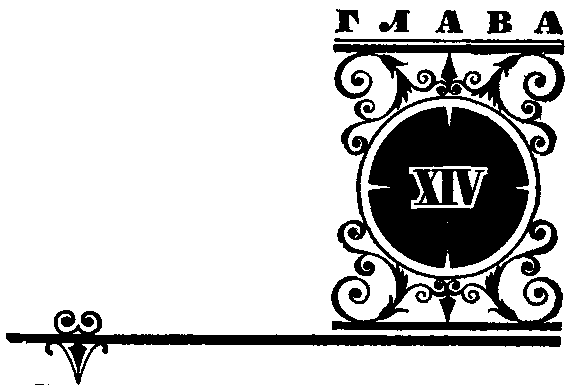
Не успели выйти «Прогулки по Риму» (1829 г.), как друзья заметили исчезновение Бейля. Где он находится, что он делает? Консьерж постоянно заявляет, что господина Бейля нет дома, а между тем окна его освещены, и днем и ночью не снимаются шторы.
Один из друзей застал Бейля в ночной рубашке. У него красные веки, небритое лицо, всклокоченные волосы — отвратительная внешность человека, проводящего время в попойках. А на столе лежит кипа бумаги. На верхнем листе — во всю страницу надпись «Жюльен». Уж не сошел ли с ума этот человек? — начинают говорить друзья Бейля. Неужели он в самом деле начал писать роман? Разве ему не известно, что «Армане» никуда не годная вещь? А что касается других книг, то он читал письмо Фредерика Монжи-старшего:
«Милостивый государь,
Я хотел бы не меньше Вас, чтобы настали, наконец, такие времена, когда я действительно смог бы отдать Вам отчет о прибылях, ожидаемых от Вашей книги «О любви». Но я начинаю думать, что такое время никогда не настанет. Не уверен в продаже даже сорока экземпляров Вашей книги. Я могу выразиться о Вашем произведении так, как о «Священных стихах» Пампиньяна: они настолько священны, что никто не осмеливается к ним прикоснуться.
Имею честь оставаться Вашим преданнейшим и покорнейшим слугой».
Казалось, урок достаточный. Пора опомниться и больше не делать глупостей.
Расхаживая по своей комнате, Бейль ворчит и записывает:
«Порядочное общество двадцатых годов ненавидит энергию во всех ее проявлениях. Французское приличие — это величайшее несчастье XIX столетия. Погоня за шаблонами, тщеславие, стремление быть как все, самое главное, любовь к деньгам — вот существенные черты французского общества. Брак по любви считается неприличной нелепостью. Любовь загнана на пятый этаж и встречается лишь среди девушек, которые, выходя замуж, обходятся без нотариуса. Величайшие люди эпохи сосланы правительством на каторгу».
Что же так его взволновало? О чем он пишет до покраснения век?
15 декабря 1827 года в Гренобле начался процесс сына кузнеца Берте, а 23 февраля 1828 года в одиннадцать часов утра на Оружейной площади в Гренобле среди огромной толпы, состоявшей главным образом из женщин, Берте лег на продолговатую перекладину из деревянных брусьев, палач нажал пружину — и блестящий треугольный топор отсек белокурую голову синеглазого человека.
Бейль об этом узнал через год из случайно попавшейся страницы «Трибунальской газеты». Он написал адвокату Дефлеару просьбу прислать ему материалы процесса. И вот перед ним огромный том всего судоговорения. Берте — сын кузнеца из маленького города Бранг, хорошо одетый, тонкий, худощавый, слабый молодой человек, с выразительным лицом и большими темно-синими глазами. Первоначальное воспитание он получил у священника родной деревни, который обучил его латинскому языку. Берте поступил в качестве гувернера к детям некоего Мишу, крупного буржуа. Мишу внезапно без объяснения причин отказывает сыну кузнеца от места и устраивает семейную сцену. Госпожа Мишу провожает Берте до калитки. Ночью с узелком через плечо сын кузнеца идет до ближайшей почтовой станции; пуля свищет у него мимо ушей. Но все кончается благополучно.
Утром он попадает в город Белле, где и поступает в семинарию. Но так как Белле находится недалеко от того места, где живет ревнивый Мишу, то сын кузнеца, готовящийся в священники, и тут не имеет покоя. Его изгоняют, и с прекрасным аттестатом в науках, но с очень подозрительными рекомендациями со стороны политического поведения он попадает на родину Стендаля, в духовную семинарию Гренобля.
Бейль с удивлением узнает, что с недавних пор в Гренобле есть такое учреждение, как духовная семинария. Нет города, где вместе с новыми фабриками и паровыми машинами не появлялись бы фабрики попов и семинаристов.
В документах не значится причина, по которой Берте исключен из духовной семинарии. Судя по оговоркам в протоколе, можно полагать, что виною была секретно-политическая характеристика; все отметки Берте в семинарии говорят о нем как об ученике исключительно талантливом, с блестящей памятью, с великолепным знанием латинских и греческих поэтов. Но наблюдение за поведением Берте показало в нем непреклонную волю и политический характер, в то время как инструкция Игнатия Лойолы требует, чтобы воспитанник иезуитской коллегии — «рег inde cadaver» — обладал повиновением наподобие трупа… Выгнанный с волчьим билетом из духовной семинарии города Гренобля, он не осмеливался показаться на глаза своему отцу, ибо десятикилограммовый кузнечный молот мог опуститься на его голову. Берте тайком проживал в городе Бранге у родной сестры. Отсюда он послал госпоже Мишу письмо, содержащее трагическое описание краха молодых надежд.
Окольным путем Берте узнает, что в семье де Кардон требуется гувернер. Одетый чисто и опрятно, с узелком, в котором сложено все имущество, появляется Берте в замке де Кардон. Меланхолическая внешность энергического юноши, красиво сложенного, скромного, привлекает к нему взоры дочери де Кардона. Молодая скучающая дворянка, из простого любопытства наблюдавшая изо дня в день Берте, замечает, что у него прекрасная походка, великолепные волосы, чудесные темно-синие меланхолические страдающие глаза. В то же время он нисколько не похож на слуг отца. Он даже лучше десятка молодых вертопрахов, приезжающих верхом в замок де Кардон. Любопытство переходит в повышенный интерес, повышенный интерес переходит во влюбленность. И так как Берте — человек, много ниже стоящий на ступенях социальной лестницы, то ему отдается полуприказание полюбить… Берте не сдается сразу. Устные требования подкрепляются страстными письмами хозяйской дочки. Письма перехватываются, и Берте изгоняют из замка.
Берте лишается места опять не по своей вине: там ревнивый муж, здесь подозрительный отец. Берте оправляется от удара. Он испытывает всепоглощающую страсть учиться и войти в жизнь полноправным членом общества. Пешком и в почтовых каретах, с фермерами, везущими молоко на городскую площадь, с торговками, провозящими на заре двуколку овощей на рынок, он попадает из города в город, из местечка в местечко. Но его имя уже оказывается известным всем учреждениям иезуитской Франции. Ни одно учебное заведение его не принимает. Он выброшен из жизни. После первоначального благоприятного разговора вдруг обнаруживается секретная характеристика, и с ним отказываются говорить. И только один нотариус Моресталь принимает Берте к себе младшим чиновником для писем. На службе у Моресталя Берте продумывает весь путь своей жизни. Он узнает, что, помимо секретных характеристик, по школам и учреждениям буржуазна Мишу рассылает клеветнические письма. Хуже всего то, что эти письма написаны ее почерком, но не ее языком. Вот что больше всего терзает душу молодого Берте.
В воскресенье 22 июля 1827 года Берте рано утром был уже в Бранге. Он вошел в церковь, встал за колоннами, и едва только госпожа Мишу опустилась на колени, как он вынул магазинный пистолет и выпустил из него два заряда: один в молящуюся буржуазку, другой в себя. Живы остались оба. Мишу была опасно ранена, а Берте неудачно всадил себе пулю между челюстью и шейным позвонком, как раз в том месте, по которому суждено было через некоторое время скользнуть треугольному ножу гильотины.
На вопрос председателя суда об истории преступления Берте сообщил только одно: «Выброшенный из общества, я был жив для двух страстей — любви и ревности». Приписывая всю вину себе и своему характеру, Берте отказался давать показания. И лишь несколько позже он рассказал подробно, что он был любовником госпожи Мишу, что горничная из ревности донесла на него супругу госпожи Мишу и он был вынужден уехать. Госпожа Мишу, его любовница и хозяйка, ночью клялась ему в спальне перед распятием, что она уйдет из дому, никогда его не забудет, будет любить всегда только его одного и найдет его где бы то ни было. А когда он возвратился по прошествии нескольких недель для тайного свидания, он убедился, что на его месте находится двойной его заместитель — репетитор и любовник. — студент Жакен.
Эти показания были записаны на основании слов Берте и скреплены его подписью. Но через два дня в порыве внезапного рыцарства молодой Берте потребовал чернила и бумагу и скрипящим гусиным пером, ставя огромные кляксы, написал душераздирающую фальшивую исповедь, где он заявлял, что Мишу никогда не разделяла его страсти, что во всем виноват он один. Сын кузнеца в порыве великодушия хотел во что бы то ни стало спасти женщину, которой он отдал любовь искренне и со всем юношеским порывом. После этого Берте успокоился. Ему казалось, что основное дело на суде уже сделано.
Госпожа Мишу, ликующая и оправданная, вышла из зала суда. Берте оказался просто негодяем, стрелявшим в свою хозяйку, влюбленным мальчишкой, который пытался соблазнить невинную и честную женщину. Перед лавочниками и приказчиками, парикмахерами и содержателями публичных заведений города Гренобля, попавшими в присяжные заседатели, был заядлый преступник из низов, покушавшийся на убийство «порядочной», то есть «богатой», женщины, перед ними был представитель того самого отвратительного четвертого сословия, которое не только хочет выскочить за пределы своего класса, но, как известно префекту парижской полиции, хочет вообще уничтожить все классы[80].
К этому времени вышла книжка Буонаротти, описывающая «Заговор равных» Кая-Гракха Бабефа. Эти опасные люди живы, они могут ежеминутно выступить с планом перевернуть все общество!
Присяжные заседатели города Гренобля постояли за себя и за сохранение монархического и католического строя Франции.
Мишу была родственницей Манта, одного из друзей Бейля. Из первых рук Бейль имел возможность узнать самые интересные подробности, дополнившие судейский протокол. И он написал роман, который назывался первоначально «Жюльен», а потом «Красное и черное». Буржуазная критика всегда имела склонность рассматривать Стендаля как эстета, сноба, аполитичного писателя, ибо, как говорил он сам, «политика в романе подобна пистолетному выстрелу на концерте». Название «Красное и черное» эти критики истолковывали как банальнейшие образы игры в рулетку или игры «Rouge et Noir». Автор не возражал. Это его устраивало… Когда ставили на «красное» в его дни, то проигрыш всегда знаменовал собою гильотину.

Стендаль в 1824 году Портрет, приписываемый ученику Давида, французскому художнику Ж.-Б. Викару

«Господин де Фонжеран». Карикатура на Бейля работы Анри Монье.

«Коканская мачта или Людовик XVIII, поддерживаемый союзниками».
Книга быстро дошла до России и появилась у Елизаветы Хитрово. Пушкин не мог от нее оторваться. В мае 1831 года он пишет Хитрово: «Умоляю Вас прислать мне второй том «Rouge et Noir». Я от него в восторге».
В 1829 году вышла книжка без имени автора. Ее считали даже переводом с английского. Она называлась «Последний день приговоренного к смерти». Когда вышло второе издание, автором оказался Виктор Гюго.
Однажды зимой наступила безработица. На чердаке не было ни топлива, ни хлеба. Мужчина, девушка и ребенок голодали и зябли. Молодой рабочий украл — семья его имела хлеб на три дня для женщины и ребенка и пять лет тюрьмы для мужчины[81].
Описав тюрьму и казнь этого рабочего, Гюго говорит:
«В Париже совершают тайно смертные казни за заставой Сен-Жак.
Господа центра, господа крайне правые, господа крайне левые, знаете ли вы, что простой народ страдает?..
Сжальтесь над массами, у которых каторга отнимает сыновей, а публичный дом — дочерей. Во Франции слишком много каторжников и что-то слишком много проституток.
Что доказывают обе эти язвы?
Они доказывают, что кровь социального организма заражена.
Вы, правители и врачи, собрались на консультацию у постели больного. Займитесь же болезнью!
Вы плохо ее лечите. Ваши законы — это только уловки. Одна половина ваших кодексов — гнилая рутина, а другая — наглое шарлатанство…
Переделайте ваши тюрьмы и ваших судей! Господа, во Франции отрубают слишком много голов! Вы устанавливаете режим экономии, соблюдайте ее и здесь!
Так как вы расположены к сокращению штатов в ваших учреждениях, сократите же количество ваших палачей, ибо жалования восьмидесяти парижских головорубов хватит на полное содержание шестисот учителей!..
Знаете ли, к чему пришли вы сейчас? Франция — одна из самых неграмотных стран Европы!»
Стендаль выступил совершенно иначе, чем Гюго. Он у правительства не просил ничего, он не только не обращался к его благоразумию — он совсем не обращался к нему… Ибо он его отрицал всем своим романом! «Писателю нужно почти столько храбрости, сколько воину. Первый должен думать о журналистах не больше, чем последний о госпитале». В одном из писем Стендаль говорит: «Если уж ты взялся за перо, не удивляйся, когда дураки будут ругать тебя сволочью». И вот, поставив эпиграфом к роману слова Дантона: «Правда, пусть горькая, но только одна правда», он зачеркивает название «Жюльен» и большими буквами во весь лист пишет: «Красное и черное», а подзаголовком ставит «Хроника 1830 года».
Отдельное издание «Красного и черного» появилось в Париже у Левавассера в декабре 1830 года. В первом томе было 398 страниц, во втором. — 486. Если мы перевернем титульный лист, то прочитаем чрезвычайно интересное обращение к читателю якобы от издателя: «Это произведение было приготовлено к печати, когда великие происшествия июля месяца обратили умы в сторону, мало располагающую к игре воображения. Мы склонны предполагать, что предлагаемые страницы, следующие за сим, были написаны в 1827 году».
Маскируясь фальшивой датой, Стендаль спасает себя от преследований цензуры Луи-Филиппа!
Смена монархии Карла X монархией Луи-Филиппа, происшедшая в июле 1830 года, вполне устроила буржуазию, которая стала, наконец, полной властительницей Франции. Но занятие престола Бурбонов новыми королями биржи и банков, одним из которых был и Луи-Филипп, не изменило к лучшему положения народа, крестьянства и пролетариата. Наоборот, гнет усилился, так как капиталистическая эксплуатация трудящихся теперь избавилась от всех феодальных помех.
Трагическая история Берте характерна для новых июльских порядков еще более, чем для режима Карла X. Стендаль, который давно проник в существо буржуазной культуры и буржуазного отношения к человеку, понимал обличительную силу своего романа и в новых условиях. Вот почему он боялся цензуры Луи-Филиппа!
Силой своего таланта он возвел описание обыденного уголовного преступления на ступень историко-философского исследования буржуазного строя в начале XIX века[82]. Он первый заметил и монументально изобразил Жюльена Сореля, молодого человека двадцати трех лет, «крестьянина, возмутившегося против низкого положения в обществе мещан, которые разбогатели, и дворян, которые, обеднев за годы революции, омещанивались».
Жюльен Сорель — это Антуан Берте; жена городского головы гражданка Реналь — госпожа Мишу; девица де Кардон, которая, по словам Берте, «по своему богатству и знатности была достойна самой блестящей партии во Франции», получила в романе имя маркизы де ла Моль (сокращенная фамилия министра Моле). Служанка, выдавшая любовную тайну госпожи Мишу, в романе — горничная Элиза. Гражданин Аппер, игравший в деле второстепенную роль, также фигурирует на страницах «Красного и черного». Это был филантроп, один из самых деятельных членов «Общества по улучшению быта заключенных». В 1828 году он, ревизуя гренобльскую тюрьму, виделся с Берте и обещал за него похлопотать. По причинам политическим (Берте считали революционером, как человека, протестующего против общественного строя и вышедшего из крестьянской среды) из хлопот Аппера ничего не вышло. Стендаль сохранил в романе его подлинное имя.
Чтобы хоть несколько завуалировать источники материала, он переносит действие из Дофине во Франш-Конте, изобретает маленький городок Веррьер и населяет городок Безансон епископом, судебным трибуналом и прочими представителями власти, которых никогда в этом городе не было. Несмотря на это, в романе проступают черты родного города автора. Добрый старый кюре Шелан, характеризуемый твердой волей и прекрасными легкими (что свидетельствует, по мнению автора, о целительном действии лесного и горного воздуха Дофине), — это вполне реальная фигура аббата-янсениста, часто обедавшего у дяди Стендаля, доктора Ганьона. Именно он однажды в споре проговорил целых три часа, держа на весу в руке ложечку с клубникой. В высшей степени интересен характер, приданный автором отцу героя. Мы видим одновременно черты хитрого и скупого, черствого крестьянина-дофинца и в то же время черты отца самого автора, оставившего слишком мало поводов для сыновней привязанности.
Французская критика подняла вопрос о наличии у героя черт автора. Об этом спрашивали самого Бейля, и он. со свойственным ему умением мистифицировать, ответил Латушу: «Да, Жюльен — это, конечно, я». Когда его двоюродный брат Коломб, удивленный, попросил подтверждения, он ответил письмом 1831 года, в котором живо протестует против самой постановки вопроса и по обыкновению отшучивается, говоря, что если бы он был карьеристом, подобно Сорелю, то, конечно, раза четыре в месяц делал бы визиты редакторам журнала «Глоб» и аккуратно бывал бы в некоторых скучных гостиных, «но у меня, — заканчивает он письмо, — удовольствия настоящего момента всегда бывают дороже всяких предвкушений»[83].
Но в одном отношении Жюльена Сореля можно сблизить с его автором: критическое отношение Сореля к буржуазно-обывательскому населению французской провинции свойственно самому писателю. И еще одно: Бейль чтил память героев, порожденных французской революцией. Кое-какие мелочи Бейль заимствовал для Сореля из своей жизни. Например, он потихоньку читает запретные тома Вольтера и маскирует возникшие при этом на библиотечной полке пробелы тем, что расставляет оставшиеся книги на месте вынутого тома. Орфографические ошибки Жюльена на первых порах его службы — это ошибки автора, когда он попал на службу к генералу Дарю. Военные замашки Сореля и его боязнь каким-нибудь проявлением трусости потерять уважение в собственных глазах есть также свойство самого автора. Мелкие штрихи любовных приключений, стычки с капитаном английской службы в кабачках Лондона и вызов на дуэль — все это автобиографические черты.
В образе городского головы города Веррьера, богатого дворянина Реналя, интересны черты буржуазного характера, возникшего и оформившегося в ранний период промышленно-капиталистического роста французских городов. Несколько тупой, самодовольный, действующий с оглядкой, боящийся революции, этот дворянин своей новизной и отвратительным влиянием на дух французского общества всегда привлекал внимание Бейля. В незаконченном романе «Федер» мы видим завершение этого типа в фабриканте Буассо.
Несомненно родство между «Адольфом» Бенжамена Констана и романами Стендаля, написанными на «французские темы». И там и здесь — своеобразный психологизм, анализ чувств и состояний действующих лиц. Но в отличие от Констана Бейль исследует не только индивидуальные явления, но тонко вскрывает их побуждения, вытекающие из характера капиталистического общества. Его анализ психологии героев — это анализ социальной психологии.
Проспер Мериме упрекал своего друга и учителя в «непоследовательности его героев»; он осуждал Стендаля за то, что тот «выставил напоказ отвратительные истины и раны человеческого сердца, слишком тяжкие для взоров». Даже этот холодный новеллист говорил по поводу «Красного и черного», что нельзя «так ярко освещать мерзости, прикрытые красивой иллюзией, называемой любовью». Но и Мериме вынужден признать: «Все без исключения ощущают внутреннюю правдивость этих ужасных черт».
Описывая первые дни пребывания молодого Сореля в Париже, автор с поразительной наблюдательностью изображает столкновение свободного ума и молодого характера с установившимися и омертвевшими формами полубуржуазной-полуаристократической идеологии Парижа эпохи Реставрации. Вместо того чтобы найти в сыне плотника раболепство перед «высшей» средой, в которую он попал, и грубость, порождающую зависть, читатель увидел в герое черты холодной и отточенной ненависти к этой среде, черты большого ума и озлобленной энергии. Сореля в момент его, казалось бы, полной победы губит ложность его положения. Истощились источники, питавшие его энергию и дававшие ей естественное применение; он оказался в тупике, из которого его холодная рассудочность не могла его вывести; и в это мгновение, полное растерянности, он поддается внезапному чувству мести, чтобы оборвать ставшую ненужной жизнь.
Буржуазная критика в истории Сореля видит историю «заслуженной неудачи завистливого и злобного плебея, ставшего патрицием». Она даже в этом не права; Сорель не увлечен честолюбивыми планами; им движет мстительность, а не честолюбие. Нет применения его силам, способности его не нужны, отсюда вырастает конфликт. Чтобы жить, нужно изворачиваться, приспосабливаться. Он мог бы это делать, но, обладая ясным и честным умом, он не может не чувствовать презрения к этой манере жить, не может не чувствовать ненависти к тем, кто заставляет его так делать, прикрываясь лицемерными лозунгами и затушевывая ими неприглядную картину общественных отношений.
Автор вкладывает в уста подсудимого замечательные слова. Жюльен говорит присяжным:
«Я вижу людей, которые, относясь без снисхождения к моей молодости, желают показать на моем примере мужественной борьбы с жизнью весь класс бедствующей и угнетенной молодежи низших слоев. Обладая счастьем большого ума и большой энергии, мы дерзнули вмешаться в основы социального строя.
В этом все наше преступление, и я знаю, что оно будет наказано тем строже, чем яснее становится, что судят меня люди чуждого мне класса».
Бейль отразил один из самых замечательных фактов своего времени: «Каким образом человек, тревожимый естественной, здоровой необходимостью деятельности, беспокоимый живым и горьким сознанием своего сословного угнетения, пытается найти себе выход из того положения, в которое его ставят свойства и признаки его класса».
Июльская революция 1830 года раскрыла глаза нашему автору: он увидел, что Париж, покрытый баррикадами, представил широкое поле деятельности именно тем самым общественным низам, из которых вышел Жюльен Сорель. В одном из писем, посвященных революции 1830 года, он писал:
«Как вы хотите, чтобы двести тысяч Жюльенов Сорелей, все-таки населяющих Францию, имевших к тому же перед собой примеры продвижения барабанщика герцога де Беллюна, унтер-офицера Ожеро, всех прокурорских писцов, которые стали сенаторами и графами Империи, — как вы хотите, чтобы они в один прекрасный день не захотели сошвырнуть со счетов вышепоименованную глупость — приспособляемость? Нынешние доктринеры не имеют даже доблести жирондистов. Жюльены Сорели теперь уже прочли книгу де Траси о Монтескье. Вот отличие о г прежних поколений. Быть может, следующий террор будет не таким кровавым, но помните 3 сентября! Народ, поднявшийся в поход на врага и уходящий из Франции, ни в коем случае не допустит, чтобы у него в тылу попы перерезали его жен. Вот удар террора, который постигнет Францию, как только она теперь захочет затеять войну».
Ко времени написания «Красного и черного» относится интересная заметка Стендаля «Лейтенант Луо, или о мотивах человеческих действий». Всеми людьми повелевает искание счастья. Но понимание счастья у людей чрезвычайно различно. Качество счастья, искомого человеком, есть то мерило достоинства характера, которое одних позволяет причислить к натурам низменным, других — к высоким. Но в основе всего должна лежать верность человека своему характеру. И Бейль описывает случай с фантастическим лейтенантом Луо, ревматиком, человеком, расположенным к простуде. Услыхав крики тонущего в холодной осенней реке, Луо сначала легкомысленно машет рукой: пусть тонет! Потом, уже не слыша криков тонущего, он задает себе вопрос: будет ли он в состоянии уважать себя впоследствии? Вместо ответа лейтенант Луо бросается в реку и спасает утопающего. В этом его чувство счастья, в этом его наслаждение, в этом его достоинство. Никаких сделок с господом богом, обещающим за подвиг тепленькое местечко в раю. Награда за добродетель в самом человеке, в этом — его счастье. Бейль говорит:
«Нужен героизм, чтобы напечатать мой трактат. Я уже отсюда вижу пятьдесят тысяч человек, отлично вознагражденных и мешающих мне его печатать. Этим людям, работающим во Франции ради денег, за деньги надо признать меня безнравственным, так же как они безнравственными признают Гельвеция и Бентама — этих лучших людей в мире…
Я уважаю краснобайство и прочие добродетели эклектических философов, и мое уважение настолько глубоко, что оно преодолевает естественное недоверие к каждому туманному болтуну, которого я имею основание считать дураком».
«Худшее из нынешних несчастий, — пишет он далее, — это то, что я философ школы Кабаниса. Я пишу книги о мотивах человеческих действий. Но так как я не краснобай и даже не маститый писатель, то, не рассчитывая на стилистические красоты, я просто собираю факты для будущей своей книги. Услышав рассказ о подвиге лейтенанта Луо, я пошел к этому человеку. «Как вы совершили это?» — спросил я его. Ответ читатель имеет в вышеизложенном…
Мне кажется, что этим я лучше всего доказал, что истинным мотивом человеческих действий является искание счастья и еще больше — боязнь страданий…
Искание наслаждений движет всеми людьми. Для меня было бы сейчас величайшим наслаждением, если бы эклектическая школа ответила мне на вызов настоящей статьи».
Бейль переходит к анализу поколений Франции. Он рассказывает о французах, родившихся после 1810 года. «Сколько людей находит выгоду в том, чтобы хвалить новую философию! Пока иезуитам не удалось перевешать всех бескорыстных ученых, самое лучшее, что они могут сделать, — это покровительствовать германскому идеализму, напускающему туман и мистику настолько, что можно заподозрить сторонников идеалистической системы в пристрастии к туману. Они смешивают в своей философии самые разнородные проблемы. А именно:
1. Науку о боге, давая положительный ответ на вопросы — существует ли бог и вмешивается ли он в человеческие дела.
2. Науку о душе. Существует ли душа? Материальна ли она и бессмертна ли она?
3. Науку о происхождении идей и понятий. Имеют ли они своим источником чувство? И все ли имеют чувство своим источником, или некоторые, как, например, инстинкт молодого цыпленка, который, вылупившись из скорлупы, немедленно начинает клевать зерно, зарождаются в мозгу без помощи чувства?
4. Науку о том, как не ошибаются в суждениях, то есть логику.
5. Исследование вопроса, чем мотивируются человеческие действия. Исканием ли наслаждений, как говорит Вергилий, или симпатией?
6. Исследование вопроса, что такое угрызения совести (угрызения совести — это приблизительно то же, что вера в привидение, то же, что воздействие на нас суждений чужого голоса. Угрызения и клятвы — это единственные ресурсы, оставшиеся религии). Являются ли угрызения совести последствием услышанных нами речей, или они зарождаются в мозгу так же, как понимание необходимости поклевать зернышки у цыпленка?»
Бейль возмущен тем, что не обходится ни одной лекции в Париже без того, чтобы не бросали комья грязи в сторонников материализма, атеизма и гедонизма, учения о стремлении к счастью, как об основном мотиве поведения.
«Про нас говорят, что мы негодяи или по крайней мере грубые скоты. Мне кажется, что частная жизнь Гельвеция стоит частной жизни Боссюэ или любого другого отца церкви.
Добродетель пишущего — плохой аргумент. Бэкон был негодяй, торговавший правосудием, и тем не менее это один из величайших людей новейшей эпохи. А сколько есть сельских попов, обладающих прекрасными добродетелями и потому особенно вредных, ибо это обскуранты!
Теперь в моде противники моих взглядов. Я с этим согласен. Но объясняется это просто: эклектическая философия пользуется покровительством власти, она греет руки около бюджета…
Сколько надо иметь мужества, чтобы бороться с модой или, лучше сказать, с пристрастием банкиров, родившихся около 1810 года, с этими пятьюдесятью тысячами попов, из которых многие образованны, красноречивы и добродетельны; с представителями правительственных кругов, которые, к сожалению, умеют читать и очень хорошо понимают, что гуманное законодательство Иеремии Бентама поражает в сердце верхушку аристократических преимуществ; и, наконец, с мнением женщин, ибо германский идеализм стремится воздействовать на женское сердце посулами небесной красоты…
Писатель, осмелившийся сейчас напечатать рассказ лейтенанта Луо, совершает почти героический поступок… Дай бог нам всем быть такими безнравственными, как Бентам и Гельвеций!»
Этот небольшой трактат о морали и материалистической философии как бы дополняет роман «Красное и черное», разъясняя идейную его суть и позиции его автора. И в этом трактате и в романе Бейль с глубоким провиденьем поставил проблемы, которые наиболее отчетливо и резко возникли перед буржуазным обществом, как только оно уничтожило последние помехи непрерывному своему обогащению.
Июльская революция устранила несоответствие между капиталистическим характером общественного строя Франции и феодально-аристократическим строем государственной власти. Буржуазия получила свободу действий. Смысл переворота отлично понял Бейль. Он писал: «Франция во главе Июльской монархии поставила банк».
Свои впечатления от июльских дней Бейль описал Сеттону Шарпу (в письме от 15 августа 1830 года):
«Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение десяти дней вообще не писал ни строки.
Чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с парижских бульваров. Кстати сказать, от самой улицы Шуазель почти до отеля Сент-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы радуются, что отделались от этих деревьев. Не знаете ли вы, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте, каким способом нам восстановить украшение наших бульваров.
Чем более мы отходим от потрясающего зрелища «Великой недели», как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатления аналогичны впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склонов Русса в двадцати лье от Женевы.
Все, что сейчас было написано наспех в газетах о героизме парижской толпы, совершенно верно.
1 августа появились интриганы, которые все чуть-чуть испортили. Король, конечно, великолепен. Он сразу выбрал себе двух дрянных советников: господина Дюпена, адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго… Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Завтра я вам напишу снова. Сто тысяч человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафайет стал истинным якорем нашей свободы. Триста тысяч человек в возрасте двадцати пяти лет готовы воевать. Но, кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалятся двести тысяч русских солдат. Простите мои каракули. Меня ждут. Чувствуем себя хорошо, но, к несчастью, наш Мериме в Мадриде; он не видел этого незабываемого зрелища; на сто человек героев-оборванцев во время боя 28 июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. «Последняя парижская сволочь» оказалась настоящими героями революции, и только она проявила действительно благородное великодушие после битвы».
Бейль начал правильно разбираться в смысле событий еще тогда, когда они были в разгаре. Он увидел глубокую противоположность героизма народа и своекорыстности буржуазии, избравшей короля по образу и подобию своему. Он чувствовал, что люди буржуазии «испортили все», что плоды победы, одержанной народными героями революции, попали совсем в другие руки.
Из путешествия по Северным Пиренеям вернулся в Париж Александр Иванович Тургенев.
Четыре министра короля Карла X на скамье подсудимых, и народ требует их казни!
Александр Тургенев, выходя под руку с Бейлем из салона Виржинии Ансло, не без некоторого чувства дрожи произносит: «Однако как настойчиво требуют их жизни!»
Виктор Гюго во втором издании «Последнего дня приговоренного к смерти» высмеивает королевского прокурора, который, всю жизнь приговаривая рабочих к гильотине, вдруг сделался врагом смертной казни, как только речь зашла о четырех министрах Карла X, покушавшихся на жизнь и свободу Франции. Бейль вполне солидарен с народом. А что до прокурора, то автор «Красного и черного» хорошо понимает, кого прокуроры любят отправлять на гильотину!
При всем скептицизме Бейля революция произвела на него огромное впечатление и пробудила воспоминания молодости. Он вновь переживает былые дни и годы, и им овладевает бешеная лихорадка писательства. Он целые дни не выходит из дому. Час за часом, минута за минутой вспоминает он встречи с Байроном, миланский кружок, легкий запах пармских фиалок, музыку, пение и веселость южноитальянских городов и этот живой, веселый, бесконечно жизнеспособный народ, которого не могут задавить ни тяжелые кандалы австрийских тюрем, ни штыки северных интервентов! И молодой чернокудрый человек с ярко-синими глазами и черными, нежно очерченными усами, лорд Байрон, запечатленный в письмах и записях.
Бейль печатает воспоминания о Байроне, пишет короткие рассказы. Один из них называется «Фильтр», другой — «Испанское приключение»[84].
Эти произведения печатаются в «Revue de Paris» уже в то время, когда Бейль далеко от Парижа. В декабре 1829 года господин Проспер Дювержье де Оранн в «Globe» назвал Бейля самым отсталым человеком во всей стране. Кто, кроме безнадежно отсталых людей, может придерживаться материалистической и атеистической философии в такие дни, когда Франция переживает серьезнейший банковский кризис, когда ее волнуют действительно животрепещущие вопросы о цене акций, а не размышления о природе ощущений?! А с момента победы буржуазии отсталые идеи господина Анри Бейля становятся попросту опасными… Романтики — вредное направление, а философия материалистов и атеистов настолько возбуждает умы, что было бы лучше господину Бейлю подыскать себе место где-нибудь за пределами Франции. Это пожелание новых хозяев страны вполне ответило стремлениям самого Бейля.
«Цвет времени переменился», — писал он. И если в дни белого цвета для него было недоступно участие в политической жизни Франции, то теперь он чувствует необходимость бежать от нее, и возможно дальше. И он ухватился за мысль, пришедшую в голову госпоже де Траси и другим его друзьям: просить министра иностранных дел дать ему место французского консула. Как только она возникла, так начались действия. И 25 сентября 1830 года Бейль получил назначение на должность французского консула в Триест.
Оглядываясь в своей комнате, Бейль видит груды наваленных книг, рукописей, папок. Человек воображал себя владыкой жизни. Он высказывал о людях суждения, анализировал характеры и создавал образы. Но настанет день, когда придется спросить: отпустит ли булочник за всю эту груду бумаги хотя бы один маленький хлебец? Доколе же верить в свое могущество, если обыкновенный извозчик не повернет головы на оклик этого «короля», а простой буржуа, располагающий деньгами, может оплатить шестиместную карету от Парижа до Триеста? Пора сделаться таким простым буржуа!
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная