ГЛАВА II
ГЛАВА II
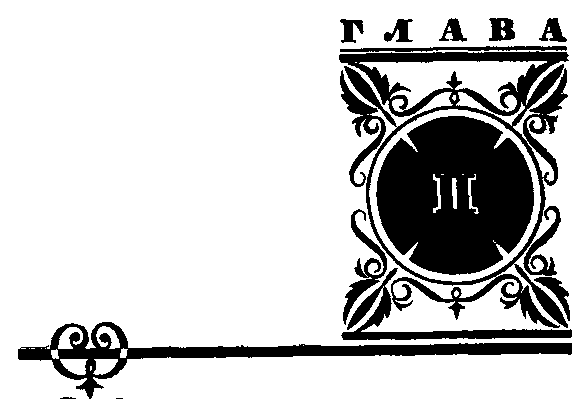
23 января 1783 года Аделаида Ганьон родила сына, а 24-го числа того же месяца г-н Анри Ганьон и г-жа Мари Раби присутствовали в качестве свидетелей при крещении, и мальчику дали имена восприемников — Анри-Мари Бейль.
Первые детские впечатления Анри связаны с двумя домами. Один — неуклюжий, неприятный, с полутемными и темными лестницами, с перилами, обитыми железом, которое царапало руки, с подвальным этажом, из которого всегда слышались хриплые голоса приезжей и домашней челяди. Это был дом отца на улице Старых иезуитов. Другой дом неподалеку, на площади Гренетт, — это дом врача господина Ганьона.
Спокойный, ясный и жизнерадостный дед был полной противоположностью отцу Анри. На всю жизнь запечатлелись в памяти Анри короткие минуты, когда Аделаида Ганьон навещала своего отца, держа на руках трехлетнего ребенка. Красивая, среднего роста, с волнами вьющихся золотых волос, Голубоглазая, с какой-то особенной, чисто итальянской лучистостью взора, с необычайной чистотой лба и очаровательным цветом всего лица, напоминающим нежнейшие переливы севрского фарфора, — она смеялась чистым и ясным смехом. Выслушивая шутки отца, она выносила ребенка на широкую веранду со стеклянным коридором, заросшим снаружи плющом и виноградом. Она срывала цветы, пела итальянские песенки, а господин Ганьон внимательно рассматривал своего внука. Он говорил, что Полина и Зинаида Бейль, внучки, «удались меньше», чем внук[4].
Светлые комнаты, стеклянная галерея, приветливый дед, чуточку свысока смотрящий на все, что творится перед его глазами, и звучные итальянские стихи, произносимые грудным тремолирующим голосом матери, — вот впечатления, оставшиеся от ранних детских лет. Запомнились и виноградные заросли в Кле, в двух милях от Гренобля. Неподалеку еще одно милое место — поместье Фюроньер и, наконец, домик в поселке Эшелль. Чего только не было там! И антресоли, и мансарда, расположенная крестообразно над верхним этажом, и лесенки, ступеньки, чердак, и закоулки — вся прелесть нелепого деревенского дома, в котором маленькие дети могут находить подобие самой таинственной местности, полной заманчивых, интересных, увлекательных загадок для «Робинзона», ищущего приключений неподалеку от своей кровати.
В сознание пяти-шестилетнего ребенка западали и иные впечатления, далеко не детские!
История с ожерельем королевы обошла всю Францию, Жан-Жозеф Мунье, язившись с новогодними поздравлениями к г-ну Шерубену Бейлю, возмущенно рассказывал о полном падении нравов королевского двора, о необходимости серьезных реформ. И г-н Анри Ганьон, ссылаясь на своих любимых философов — энциклопедистов, подтверждал тысячами примеров девятнадцатую главу книги Гельвеция «Об уме»: «невежество министров-визирей поддерживает позорное, унизительное состояние народов, являющееся следствием деспотизма. Каждый министр желал бы привести людей в состояние тех древних персов, которые, жестоко избиваемые по повелению государя, должны были являться перед ним со словами: «Мы пришли поблагодарить тебя за то, что ты вспомнил о нас».
Но эти заявления г-на Мунье и тирады Анри Ганьона не встречали сочувствия у стареющего Шерубена Бейля. Он быстро выгонял сына и дочерей, как только начинались политические разговоры или обсуждение парижских новостей.
«Если великий Вольтер, сидевший в Бастилии за сатирические стихи против короля и изгнанный из Франции без всяких законных поводов после столкновения с одним из Роганов, не служит вам примером, то не ждите пощады за ваше осуждение двора ни вы, господин Мунье, ни вы, уважаемый тесть», — такова была обычная формула старого судейского чиновника, и ею пресекались слишком пылкие фразы г-на Мунье.
Но г-ну Шерубену Бейлю приходилось сдаваться и с горечью выслушивать резкую критику двора, когда в его неуютной гостиной появлялся Барнав-старший и приводил с собою молодого сына, адвоката Антуана Барнава.
Антуан Барнав никогда не мог забыть давнишнего случая с его матерью в гренобльском театре. Губернатор провинции герцог Клермон Тоннер вошел в театр перед самым поднятием занавеса, занял места в переднем ряду и, не видя, куда можно было бы приткнуть двух своих челядинцев, приказал сержанту полиции согнать с места г-жу Барнав с девятилетним сыном Антуаном. Когда госпожу Барнав силой стащили с кресла, а мальчика сбили с ног пинками, публика в знак протеста покинула театр. Гренобльские горожане, собираясь у Барнавов, выражали им свое сочувствие в течение целой недели Театральный сезон был сорван. Театр пустовал, а герцог Клермон Тоннер написал в Париж реляцию о сопротивлении гренобльской буржуазии правительству.
Буржуа любили дворянские титулы. Они охотно покупали личное дворянство. Дворянские гербы дорого стоили. Надо было копить деньги и быть бережливым. Но сколько ни плати и как роскошно ни одевайся, все равно любой Клермон Тоннер может согнать тебя с кресла в театре при посредстве полицейского сержанта. А письмо, посланное Клермоном Тоннером королю, будет прочитано, в то время когда письмо г-на Барнава не будет даже принято на почте в адрес Версаля.
«Напрасно министры вроде господина Тюрго или Неккера стремятся поправить расшатавшееся хозяйство Франции. Страна, несомненно, идет к гибели, — говорит Барнав, — только живые силы третьего сословия могут спасти Францию».
Барнав и Мунье были теми людьми, которые пробудили раннее политическое любопытство в Анри Бейле, будущем Стендале.
Современники и сам Стендаль отмечают чрезвычайный блеск речи и увлекательность выражений Барнава. Жорес дает характеристику Барнаву как «одной из любопытнейших личностей той эпохи, несшей на себе некоторые черты самого Стендаля». Жорес хочет сказать, что маленький Бейль, в детстве видевший и слышавший знаменитого соотечественника, воспринял и воспроизвел некоторые черты Барнава.
Резко обрывая собеседников, буквально затыкая глотку стареющему Шерубену Бейлю, молодой Барнав указывал по примеру Гельвеция на то, что движущей силой в развитии общества являются не мнения, а интересы, что идеи и интересы — это одно и то же, что материальные побуждения двигают мировой историей и что победителем в этой борьбе будет та общественная группа, которой удастся наладить соотношения производительных сил. Следуя за Гельвецием, Барнав, не стесняясь присутствием мальчика Анри, ниспровергал религию, сводил к материальным причинам решительно все явления церковного, государственного строя, указывал на чрезвычайную относительность морали и правил поведения, на текучесть и быструю перемену содержания одних и тех же понятий на протяжении десятилетия[5]. И как бы в ответ мы читаем в письме молодого Бейля от 29 января 1803 года из Парижа к сестре Полине следующие строчки, посвященные Барнаву и Мунье:
«Посуди сама, Барнав и Мунье были только мелкими адвокатами, как и все они в Гренобле. Но оба они достигли высоких степеней славы. По моим наблюдениям, Париж раздвинул пределы этой славы, ибо в Гренобле, в среде своих собратьев, они не могли бы так развернуться: большинство сотоварищей ревниво закрыло бы им дорогу.
Существует верное правило, которое позволяет узнать человека, рожденного для славы: если кто-либо ненавидит людей, стоящих выше, если кто-либо к людям с высокими умами проявляет ненависть, то такой человек навсегда останется посредственностью.
Отсюда — человек, завидующий всему миру, всегда останется убогим человеком. Барнав будет мне служить примером для доказательства того, что человек, воодушевленный великими страстями, сумеет возвыситься над теми, кто этими страстями не обладает. Взгляни, например, на Бартелеми д’Орбана (того, который показывал мне гримасы). Когда он выступил в начале революции, он был более вооружен знаниями, нежели Барнав. Однако какая огромная разница между этими двумя людьми! Через десять лет перестанут говорить о Бартелеми д’Орбане, а пройдет сто лет — и еще не перестанут цитировать Барнава как великого человека, скошенного на пороге юности. Ты уже сейчас замечаешь по тону, когда говорят: «господин д’Орбан» и коротенько произносят: «Барнав».
Последняя фраза в частном, семейном письме двадцатилетнего Бейля свидетельствует о горячности отношения к человеку Барнаву, а не политику Барнаву.
Когда под давлением грозных событий при дворе в 1787 году решились созвать «Совет Нотаблей», то есть знатных представителей дворянства, для суждения о важнейших государственных мероприятиях, молодой Барнав и Мунье полностью ушли в политику.
21 июля 1788 года в самом Гренобле движение захватило широкие круги буржуазии. По инициативе муниципалитета города собрались Генеральные штаты — представители трех сословий провинции в замке Визиль, где коноводами либеральных буржуа выступили Барнавы — отец и сын, вместе с Мунье сформировавшие негласный комитет, который внес предложение потребовать от короля созыва Генеральных штатов. К этому времени относится первая политическая брошюра Барнава, посвященная Визильскому съезду.
Мунье во время подготовки выборов в Генеральные штаты первый пустил мысль об удвоенном количестве представителей третьего сословия (то есть о равенстве числа членов третьего сословия и первых двух вместе). Когда 20 июня 1789 года королевский представитель объявил о роспуске Генеральных штатов[6] и депутаты третьего сословия собрались в зале Jeu de paume, Мунье предложил произнести клятву «не расходиться до окончания законодательных работ». В 1792 году Мунье, оставшись сторонником конституционной монархии, сложил добровольно звание депутата, удалился в Германию. Он там переждал бури и политические грозы, вернувшись на родину уже во время империи Наполеона, и тихо и незаметно дожил свой век.
Барнав, речами и письмами нанесший разительный удар старому французскому режиму, внезапно возгорелся чувствами преданности лично к королю и особенно к королеве. После 10 августа 1792 года он вместе с Ламетом был обвинен в переписке с двором, попал в гренобльскую тюрьму, потом предстал перед революционным трибуналом в Париже и был обезглавлен. В 1913 году в фамильном архиве Фрезернов-Пиперов нашли письма Марии-Антуанетты к Барнаву. Они показывают, что этот странный человек был пойман в ловушку и что Мария-Антуанетта тонко разбиралась в людях и умела скомпрометировать врагов монархии.
Но вернемся к биографии Бейля.
Наступил 1789 год. Собрались Генеральные штаты, объявили себя Национальным собранием[7] (17 июня 1789 года), постановили не расходиться, пока не выработают конституции (20 июня). А 14 июля народ взял приступом Бастилию. Разгорался революционный пожар, и искры его долетали до Гренобля. Анри с особенным волнением слушал все, что говорилось об этих событиях, потому что еще 7 июня 1788 года он впервые увидел кровь революционного народа.
В истории Дофинезского революционного движения этот день называется «днем черепиц». Из окон комендантского управления губернатор Клермон Тоннер видел, как с Эйбанских холмов спускаются толпы повстанцев со знаменами. Он выстрелил, два полка ударили в штыки, а горожане, взобравшись на крыши, снимали тяжелые черепицы и кидали их в солдат. С Новой улицы двигался отряд под командой унтер-офицера Бернадотта. Произошло кровавое столкновение. И маленького Бейля оттаскивали от окон, так как он не мог оторваться от страшного зрелища. В «Жизни Анри Брюлара» он подробно повествует об этом, замечая, что именно этот Бернадотт был сделан шведским королем. С пяти лет революция вошла в его жизнь и надолго стала повседневным бытом.
В судьбе ребенка происходит роковая перемена. Он осиротел не полных восьми лет от роду — Аделаида Бейль умерла в 1790 году. Г-ну Шерубену Бейлю было в тягость возиться с детьми, управлять большим недвижимым имуществом и продолжать работу нотариуса и заслуженного адвоката гренобльского парламента. Он был еще не стар, когда скончалась его супруга. Крестьянки окрестных сел и деревень, ходившие на работу в Фюроньер, в Кле, в Эшелль, очень скоро испытали на себе тяжелые прихоти г-на Шерубена Бейля, который нелегко сносил положение вдовца. А затем в доме появилась тетка Серафия, сестра покойной супруги.
Незамужняя дочь доктора Ганьона, г-жа Серафия, как всегда называет ее Бейль в своих записках, по-прежнему звалась «мадемуазель», хотя, сначала негодуя и плача, а потом по привычке, она должна была занять при адвокате Шерубене Бейле место своей умершей сестры…
В семилетнем возрасте мальчик узнает такие стороны жизни, которые озлобляют и ожесточают душу. Шарканье ночных туфель из комнаты Серафии до кабинета отца, побои, наносимые слугам тяжелой рукой тетки Серафии, и кухонные сплетни, очень рано подслушанные, — все это разрушает родительский авторитет и делает мальчика настороженным и насмешливым. Трудно биографу определить, что было тяжелее маленькому Бейлю — смерть горячо любимой матери или равнодушие нелюбимого отца. Потеря матери ощущалась еще тяжелее потому, что отец никогда по-настоящему не был отцом.
Анри и его сестры были переселены, к их великой радости, в дом старого Ганьона. И с первых дней мальчик полюбил простор большого парка, расстилавшегося за пределами дома. По ступенькам крытой террасы, мимо пальм и агав, упиравших в стекла веранды свои толстые мясистые листья, он привык убегать с сестрами на левый берег Изеры и очень рано понял прелесть такого сиротства, при котором отец не мешает никаким ребячьим забавам.
В доме доктора Ганьона главные заботы о детях приняла на себя мадемуазель Елизавета, сестра доктора Ганьона, благородная, бескорыстная женщина, сухая, высокого роста, с ясными глазами и с тем особенным видом самоотречения, который является отличительным свойством людей, много страдавших непонятными и никому не нужными страданиями. Ее незлобивость расположила к ней внучат, которые нашли в ней постоянного защитника от тетки Серафии, военные действия против которой начались с первых дней сиротства. Бейль повел наступление как опытный стратег и великолепный «беспризорный» тактик.
У Серафии была подруга мадам Шенева, строгая дама, помешанная на католическом ритуале. Она считала своим долгом вмешиваться в воспитание Анри Бейля и его сестер. И вот маленький человек взбирается на чердак дедовского дома, спрятав под полою огромный кухонный косарь для колки древесного угля. И когда мадам Шенева проходит по тротуару, визгливым голосом окликая болонку, громадный металлический предмет, почти превышающий рост воинственного мальчика, низвергается сверху и вонзается в землю у самых ног госпожи Шенева[8]
Вечером заседает семейный трибунал. Г-н Шерубен Бейль в четвертый раз вынимает табакерку. Он задыхается от смеха и чихает в зеленый шелковый платок. А тетка Серафия, поднося костлявый кулак к картошкообразному носу маленького Бейля, в сотый раз повторяет, что из этого проклятого мальчишки может выйти только дорожный бригант и что его отвратительная жизнь несомненно окончится на виселице.
Произошел раскол, сестра Зинаида сделалась ярой сторонницей тетки. Сестра Полина подружилась с маленьким Бейлем. Бейль и Полина составили республиканскую партию. Зинаида выдавала все их разговоры, подслушивала, подсматривала.
Бейль в первоначальном наброске своих воспоминаний о детских годах записывает следующее:
«Я был отчаянный республиканец, что вполне понятно. Родители мои были крайними роялистами и ханжами…
В довершение всех бед я соорудил себе небольшое трехцветное знамя, с которым торжественно прогуливался один по необитаемым комнатам обширного нашего дома в дни республиканских побед… Меня подстерегали, ловили, обзывали «чудовищем». Родные плакали от бешенства, я рыдал от восторга. «Прекрасно! — вскричал я однажды. — О, как сладко пострадать за отечество!» Кажется, меня избили, что, впрочем, случалось весьма редко. Но самое главное — в клочья разорвали мое знамя. Я решил, что я мученик за отечество, и пламенно возлюбил свободу… У меня было два или три изречения, которые я всюду писал. К большому моему огорчению, я их совершенно забыл. Они вызывали у меня слезы умиления. Вот одно, которое мне удалось вспомнить: «Жить свободным или умереть». Я предпочитал его, как более красноречивое, другому, которым обычно его заменяли: «Свобода или смерть!» Я обожал красноречие с шестилетнего возраста. Думается мне, отец, наверное, передал мне свое восторженное преклонение перед Жан-Жаком Руссо, которого затем проклял как антимонархиста».
Шерубен Бейль не только проклял Руссо, он тщательнейшим образом запирал книжный шкаф. Мальчик подобрал ключи и, расставляя тома Вольтера так, чтобы незаметно было освободившееся пространство, убегал с книгой куда-нибудь подальше, в тень платанов, и запоем читал Вольтера, Руссо, энциклопедистов.
А у деда можно было открыто читать том за томом «Энциклопедию» и даже — с величайшим наслаждением — трактаты Гельвеция.
Там были запрещенные и сожженные рукой палача книги, но там же была и «Эротическая Фелиция, или мои Фредены» — книжка, повергшая мальчика в безумие эротической фантастики на целые месяцы. Но, как бы парализуя эти влияния, действовали другие впечатления: тихонько, с дедом, а иногда и один, мальчик входил в запущенные, вечно бывшие под замком комнаты любимой дочери доктора Ганьона — Аделаиды Бейль. Лютня, портреты итальянских поэтов, ноты простонародных итальянских песен, слабый аромат когда-то живых и резких духов пробуждали воспоминания неизгладимые, но потерявшие контур, и образ матери вставал, как пленительное видение, которое давало защиту от тяжелых, отвратительных явлений жизни.
Об этих впечатлениях никому не говорилось; они впервые были записаны после возвращения с холма Яникула в Риме. Солнце заходило за Монте Альбано, в воздухе была восхитительная теплота, а пятидесятилетний Бейль вместе с ощущением невероятной радости жизни почувствовал, что жизнь прожита. Это было написано уже в 1832 году…
Среди детских воспоминаний Бейля резко выделяются упоминания о преподавателях. В двух-трех строчках рассказывает он первое впечатление о театре, где он видел корнелевского «Сида», но подолгу и с негодованием останавливается на тех людях, которые совершали дикий и отвратительный эксперимент над душой ребенка.
Ультраправый адвокат Шерубен-Жозеф Бейль, казалось, сорвался с цепи и, утеряв свою обычную лукавую расчетливость и практическое чутье, так яростно демонстрировал свою преданность королю и католической церкви, что друзья сочли необходимым предложить ему некоторую умеренность в высказывании взглядов, «ибо существует противоположная партия».
Новая французская конституция требовала от служителей церкви присяги. Священники восставали против «адова измышления». Они отказывались присягать и тайком уносили причастие; переодевшись, они ютились по частным домам и подвалам, приобщали графинь и старых маркиз, которые искали «священников, не оскверненных революционной присягой»; это длилось до тех пор, пока санкюлоты парижских революционных секций не выволакивали их из подвалов и не вешали на ближайшем фонаре. Такие неприсягавшие попы были обнаружены Бейлем, когда он по холодным и скользким лестницам, обитым железом, спустился в подвал собственного дома: он увидел, как грязные, засаленные люди с остатками пищи на небритых усах вылезали наверх, и услышал, как один из них сипло говорил любезности старой горничной г-на Шерубена. Этот священник — аббат Райян — волей отца сделался учителем маленького Анри Бейля, когда умер первый преподаватель латинского языка Жубер. Маленький худой человек с зеленоватым цветом лица и беспокойной ласковостью взгляда был воспитателем не только Анри Бейля, но и Казимира Перье, одного из реакционнейших министров при Луи-Филиппе. Этот период своей жизни Бейль называет временем райяновской тирании.
«В воспоминаниях об аббате Райяне нет ничего утешительного, — пишет он, — ничего, кроме уродства и грязи, и я уже не менее двадцати лет с отвращением отвожу взор от воспоминаний об этой ужасной эпохе. Этот человек мог бы сделать из меня негодяя, ибо он был превосходным иезуитом… Если бы его правила привились ко мне, я был бы теперь богат, но был бы негодяем, и меня не посещали бы очаровательные видения прекрасного, которыми часто бывает полно мое воображение…
Райян, совсем как министерские газеты наших дней, только и говорил нам об опасности свободы.
Я был мрачным, угрюмым, недовольным… Я ненавидел аббата, ненавидел отца как причину появления этого аббата. Но более всего я проникался ненавистью к религии вообще, к той религии, во имя которой меня терзали. Я доказывал моему товарищу по кандалам, робкому мальчику Ретье, что все, чему нас учили, было пустыми сказками… У нас была большая иллюстрированная библия в зеленом переплете с гравюрами на дереве. Что может производить на детей большее впечатление? А я был все время занят разыскиванием несообразностей, нелепостей, противоречащих честному и здравому смыслу, в этой бедной библии».
Единственный аббат, который оставил светлые воспоминания в памяти мальчика, — аббат Шелан, особый тип вольтерьянского аббата: культурный почитатель античной поэзии, только по внешности служитель культа, но в душе эпикуреец-безбожник, любитель Мабли, автора «Республиканской истории Рима», почитатель Рейналя, одного из самых интересных людей эпохи Просвещения.
Приезды аббата Шелана были отдыхом для маленького Бейля. С ним можно было говорить о том, что Авраам, занимавшийся астрономией, был гораздо меньшим негодяем, чем все остальные библейские герои. Шелан спокойно и благодушно выслушивал изречения маленького ересиарха Бейля.
Мальчик находит в библиотеке имения Кле «Дон-Кихота» на французском языке. Бейль пишет: «Я смеялся до упаду над «Дон-Кихотом». Подумайте о том, что я не знал смеха со дня смерти моей бедной матери. Я был жертвой самого последовательного аристократического и религиозного воспитания».
За чтением книги «Брюсовские путешествия в Нубию и Абиссинию» также отдыхал от иезуитских мучений мозг мальчика. Брюс пробудил в маленьком Бейле любовь к точным наукам, к картографии, к математике. Бейль пишет: «Возникла гениальная мысль: математика откроет мне путь из Гренобля в открытый мир». Иезуит Райян хорошо знал математику и вселял в голову Анри не только сомнение в абсолютности ее истин, но и мысль о суетности светских наук вообще. Эвклидовская аксиома о непересечении параллельных линий была начисто разбита уже на первых уроках: было начато разрушение математических истин, которые должны были уступить место вере.
Геометр Луи-Габриэль Гро, посетитель местного революционного клуба якобинцев, вместе с уроками математики преподавал маленькому Бейлю самые крайние политические взгляды. Он рассказывал, как в одно прекрасное утро Париж остался без хлеба, как вооруженный народ сбил с ног королевскую охрану, как короля и королеву с наследником перевозили из Версаля в Париж при громких криках, что «ежели главный булочник с главной булочницей переедут в Париж, то, конечно, подвоз хлеба возобновится». Он рассказывал о том, как санкюлот надел на короля красный фригийский колпак, бывший знаком позора шатовьесского штрафного батальона, арестовавшего своих офицеров за кражу солдатских денег. Он говорил, что с этой поры красный фригийский колпак сделался головным убором революционного Парижа и что вместо белого бурбонского знамени с лилиями возник новый национальный флаг Франции: белый бурбонский цвет сделался третьим наряду с синим цветом города Парижа и красным цветом фригийского колпака.
Якобинец Гро вселял ненависть к королю, любовь к республиканской доблести римлян. Революционное законодательство уничтожило дворянские привилегии и превратило гигантский земельный фонд французской аристократии в национальную собственность, и старый Бейль почувствовал себя истым дворянином!
Каждый день, собираясь за обеденным столом перед наступлением сумерек и еще не зажигая света, тетка Серафия и старый Бейль вполголоса говорили: «Они никогда не посмеют выполнить свой гнусный приговор». В Париже Конвент судил короля за измену, за сношения с иностранными правительствами, начавшими войну против Франции.
Маленький Бейль отворачивался, чтобы скрыть свое негодование.
«Почему же не казнить короля, если он изменник?» — думал он.
Наступил вечер 28 января 1793 года. Мальчик сидел в кабинете отца на улице Старых иезуитов. Приходили зимние сумерки, надвигалась январская ночь. При свете ламп Бейль читал «Манон Леско» аббата Прево, когда раздался грохот тяжелой почтовой кареты и мальпост, сотрясая звенящие стекла, промчался на постоялый двор. Это был лионский курьер.
— Нужно пойти узнать, что сделали эти негодяи, — сказал отец, вставая.
«Надеюсь, что предатель казнен», — подумал я. Затем я стал размышлять о крайнем различии чувств моих и моего отца. Я нежно любил полки революционных солдат, в красивом строю шедших по Гренеттской площади. Я живо представлял себе предателя-короля, который хочет, чтобы этих молодых людей искрошили австрийские штыки».
Пока мальчик размышлял об этом, открылась дверь, зимний холод и пар ворвались в комнату. Вернулся отец.
«Я еще помню его в сюртуке из белого молетона, который он не снял, выйдя на улицу.
— Конечно, — сказал он с тяжелым вздохом. — Они его убили.
Меня охватил прилив радости, один из самых сильных, какой я испытывал когда-либо в жизни. Читатель, может быть, найдет, что я жесток, но каким я был в десять лет, таким остался и в пятьдесят два года. Когда в декабре 1830 года этот наглый мошенник де Перроне и другие (министры реакционного Карла X, вызвавшие взрыв июльской революции 1830 года.—А. В.), подписавшие ордонансы, не были казнены, я сказал: «Парижские буржуа принимают свою душевную холодность за цивилизацию и великодушие…»
Я так был восхищен этим актом народного правосудия, что не мог больше читать «Манон Леско»— один из наиболее трогательных романов».
Террор не был силен в захолустном Гренобле. Бейль вспоминал впоследствии о казни только двух человек — священников-контрреволюционеров. Десятилетний Анри смело выразил свое восхищение этим актом, за что был наказан и отцом и ненавистной Серафией.
Двоюродный брат Бейля Ромен Коломб в записках говорит о политических колебаниях Бейля, о неясности его идеалов и стремлений. Подготовляя издание собрания сочинений Анри Бейля, господин Ромен Коломб стремился всячески измерить политическую революционность Бейля своей собственной гренобльской меркой. Вся последующая французская критика, а за ней многие русские историки и псевдоисторики шли по пути истолкования Стендаля как аристократа, бонапартиста, эстета и сноба.
«Анри Брюлар» — автобиография Стендаля — рисует нам детство Бейля совершенно иначе. Одиннадцатая глава рассказывает о том, как после опубликования «Закона о подозрительных» в город Гренобль осенью 1793 года приехали граждане Амар и Мерлино, представители народа. 10 декабря 1835 года Бейль записал:
«Это были два представителя народа, прибывшие в один прекрасный день в Гренобль и опубликовавшие через некоторое время список ста пятидесяти двух основательно заподозренных контрреволюционеров, а затем трехсот пятидесяти просто подозрительных лиц, взятых под наблюдение…
На мою семью опубликование этих двух списков подействовало, как удар грома».
С нескрываемым восторгом воспроизводит Бейль впечатление первых минут детской свободы, когда ненавистный контрреволюционер — отец — попал в тюрьму. Двадцать два месяца он числился в списках и сорок два дня провел в тюрьме.
Десятилетний мальчик, заложив руки за спину, заявляет отцу: «Амар внес тебя в список лиц, подозреваемых в том, что они не любят Республику. А я не сомневаюсь в том, что ты ее не любишь». При этих словах все покраснели от гнева, и меня чуть не отправили под замок в мою комнату. Меня бойкотировали, со мною не говорили. Я думал: «Это же настоящая правда — то, что я сказал. Отец похваляется своей ненавистью к новому порядку вещей… Какое же он имеет право сердиться?»
Следующим актом своеобразной гражданственности десятилетнего Бейля было так называемое «письмо Гардона». Священник, снявший с себя сан, гражданин Гардон, всей душой отдавшийся революции, организовал детский батальон «Эсперанс» по типу спартанских военных школ молодежи. Военные игры, лагерные стоянки, дефилирование на площадях с песней Марсельского батальона — все это произвело сильнейшее впечатление на молодого Бейля, которого тщетно старались не выпускать из комнаты. И вот он взял лист бумаги, не похожий на обыкновенные ученические листы, и от имени Гардона написал уверенным, взрослым почерком предложение своей семье послать юного Анри Бейля в Сент-Андре для зачисления в «Батальон надежды». Тетка Серафия поручила департаментскому писарю Турту сличение почерков. Бейль записывает это событие и новую ссору с отцом и теткой:
«Лучше я буду обедать в одиночке, — сказал я им, — чем с тиранами, которые все время ругаются».
Тираны все же вынуждены были начать обучение маленького Бейля в согласии с новыми законами Франции. Бейль поступил в Центральную школу, открытую в силу декрета Конвента 25 февраля 1795 года по плану, разработанному французским философом Дестютом де Траси. А в школьном президиуме к тому времени заседал основатель гренобльской публичной библиотеки, местный философ и дед Анри Бейля — доктор Анри Ганьон.
«Начались пленительные годы моего обучения, — писал Бейль, — но в товарищах я нашел эгоистичных буржуа».
Анри вступил в школу в 1796 году. Революция уже пошла на убыль. Давно отгремел грозный 93-й год якобинской диктатуры. В 1794 году Робеспьер казнен, якобинская диктатура уничтожена. Молодые революционные армии уже отразили первые натиски интервентов, перешли в наступление и водрузили трехцветное знамя в Бельгии, Голландии, Италии. Восходила звезда Бонапарта. Буржуазия и утомлена и напугана размахом революции. Она хочет покоя и порядка, хочет разобраться в том, что успела захватить, чтобы мирно наслаждаться плодами победы. Крестьянство, его зажиточная верхушка в первую очередь, также жаждет передышки; феодальные повинности уничтожены, сеньоры прогнаны, земля захвачена. Ее нужно пахать… А беднота городов и деревень требует, чтобы весь урожай по твердым ценам отдавался государству… Нет, крестьянство на это не согласно. Оно переживает медовый месяц собственности, равно как и торговцы не хотят закона о «максимуме» цен на продукты.
Наступает период термидорианской реакции. Буржуазная контрреволюция торжествует победу над народными массами, над теми, кто своей кровью завоевал для нее победу, а отныне должен своим трудом доставлять ей наживу…
Белый террор — расправа с якобинцами, с «бешеными», с цареубийцами — свирепствует и в Париже и в провинции.
Наконец и самый Конвент, Конвент термидорианский, «очищенный» от якобинцев, от «Горы», прекращает существование, на смену ему приходит открытая форма буржуазной контрреволюционной диктатуры — Директория (27 октября 1795 года).
И начался еще больший, чем в первые дни термидора, разгул неистовых спекуляций, вакханалия наживы на поставках, на продажах и скупке имуществ, на обесценении ассигнаций, на вздувании цен… «Эти ужасные санкюлоты достаточно насладились, теперь наш черед», — и Париж покрылся игорными домами, шикарными притонами разврата, увеселительными заведениями, в которых уцелевшие представители старой знати, разбогатевшие откупщики, высшие чиновники во главе с самими «директорами» наслаждались жизнью…
Хотя Бейль писал, что в школе вместо благородных и самоотверженных товарищей он встретил сухих, черствых, расчетливых, эгоистических буржуа, но это не помешало ему в описываемые годы подружиться с Бижильонами. Анри, прозванный «Ходячая башня», позабыв застенчивость, влюбляется в сестру братьев Бижильонов — Викторину, почти так же сильно, как был он влюблен в сестру Мунье, тоже Викторину (см. портрет, сохранившийся в рукописях Бейля). В позднейших записях он сам признает себя виновным в том, что оборвалась эта долгая хорошая дружба, прекратились поездки в долину Изеры. В деревенском доме Бижильонов, за ореховым столом, покрытым скатертью из грубого домотканого холста, подростки Бижильоны и Бейль ели сушеный виноград и непросеянный хлеб, одним словом «жили, как живут молодые кролики, играющие в лесу и мимоходом питающиеся молочаем».
Через год Бейль вызывает ученика, прозванного «Голиафом», на дуэль из-за эпиграммы. С заряженными пистолетами дуэлянты отправляются в соседний лес. Юные доносчики вызывают школьную администрацию, дуэль прерывается.
Двадцать вторая глава «Анри Брюлара» рассказывает:
«Весь Юг был взволнован осадой Лиона. Я был за Келлермана и республиканцев, мои родные — за эмигрантов и Пресси». И далее: «Осада Тулона меня сильно волновала».
Но все это было в часы досуга. Основное время было занято подготовкой к выпускным экзаменам. С ними была связана надежда на отъезд из Гренобля.
Три года подряд, с 1796 по 1799 год, Бейль был увлечен математикой как наукой, «освобождающей от Гренобля», — так по крайней мере сам он истолковывал для будущих читателей свои математические увлечения. Уменье чувствовать ярко, остро и непосредственно никогда не мешало ему мыслить стройно, логически и разумно. «La langue de la calcule»— язык вычислений привлек Бейля гораздо раньше, чем язык литературных образов и эмоций. Ненависть к «здравому смыслу» как к сумме обывательских благоразумий давала ему возможность увлекаться вещами, достойными с точки зрения разума. Отсюда внутренняя собранность мыслей и чувств.
Бейль очень рано научился анализировать явления, исследовать подлинные мотивы человеческих действий и вносить элемент оценки в тот почти математический анализ, с которым он подходил ко всякому поступку или проявлению общественной энергии. Вот почему математика давала удовлетворение молодому Бейлю не только как средство в будущем избавиться от Гренобля, но и как «абсолютно точный источник истины, утоляющий юношескую жажду правды».
Но главную роль в формировании взглядов молодого Бейля еще в Гренобле сыграл один из замечательнейших людей тогдашнего времени — Клод-Адриан Швельцер, принявший латинскую фамилию Гельвеций.
Бейль писал:
«Опорой для меня был лишь мой здоровый разум, веривший в книгу Гельвеция «Об уме». Я намеренно употребляю слово «веривший». Для меня, воспитанного под колпаком и горящего тщеславием, для меня, получившего свободу только благодаря поступлению в Центральную гренобльскую школу, для меня Гельвеций мог быть лишь совокупностью предвидения того, что я должен встретить в жизни».
Сочинение «De l’esprit» вышло в начале августа 1758 года и наделало столько шума, подверглось такому преследованию, как не многие книги.
Ни «Трактат об ощущениях» Кондильяка, ни книга «Человек-машина» Ламетри не напугали до такой степени королевскую Францию и римскую церковь, как замечательный трактат Гельвеция.
Уже самое начало трактата «Об уме», где Гельвеций говорит о том, что он предполагал составить теорию нравственности так, как составляется экспериментальная физика и другие науки, породило целую бурю негодования. А защита свободы мысли, права философа нападать на заблуждения в поисках истины не могла не вызвать ненависти иезуитов.
С точки зрения Гельвеция, две причины производят явления духовной жизни: физическая чувствительность и способность сохранять впечатления, полученные в результате ее. Эта способность есть человеческая память. Вот из этих чисто материальных свойств человеческого существа и развилось то, что называется у людей духом или умом.
Гельвеций проводит в дальнейшем разницу между животными и людьми как носителями элементов ума. Он указывает на то, что человеческая организация гораздо более совершенна, а ум есть самый совершенный вид материи. Гельвеций, посещавший естествоиспытателя Бюффона, использовал чисто бюффоновское различие между рукой и копытом для анализа отличия духовной организации человека от духовной организации животных, отстоящих друг от друга, как рука живописца от коровьего копыта.
Гельвеций полагает, что ложные суждения являются результатом или наших страстей, или нашего невежества. Страсти приковывают все наше внимание лишь к одной стороне предмета, который рисуется нашему воображению. Значит, влияние страсти — это влияние элиминирующее, избирательное, в то время как невежество закрывает для нас предмет или целиком, или его основные свойства. Значит, в отличие от влияния страсти невежество делает нас пассивными в отношении предмета, а страсть — повышенно активными лишь к одной стороне его. Однако Гельвеций указывает и на огромную положительную роль страстей, ибо страсти, облагороженные, служат источником великих подвигов, открывают нам силу, нужную для прогресса, обогащают наше просвещение, вырывают нас из объятий лени и инертности, удушающей лучшие силы нашего духа.
В основе первого рассуждения Гельвеция лежало замечательное заключение: «Заблуждение отнюдь не присуще природе человеческого ума». Он приходит к выводу, что все люди обладают умом, в основе своей правильным. Нет аристократических и плебейских истин, а есть универсальное равенство ума, при котором истины добываются большей или меньшей напряженностью вложенного умственного труда. В оценке тех или иных явлений единственной истиной является интерес.
Слово «интерес» понимается Гельвецием в широком и распространительном смысле. Интерес или выгода любой идеи — это главное мерило и единственный способ определения ее ценности. Гельвеций говорит, что для всякого маленького общества понятие честности есть результат большей или меньшей привычки к полезным для этого маленького круга или маленького общества действиям. И не существует такого добра, которое люди любят ради него самого, равно как не существует такого зла, которое люди ненавидят просто потому, что это принято называть злом. Люди вовсе не злы, говорит Гельвеций, а подчинены своим интересам. В одной группе людей эти интересы усматриваются в одной форме связи явлений, действий и предметов, а в другой эта связь определяется иными элементами, «в зависимости от того, какая группа общества и какой класс берет на себя оценку добра и зла, нравственного и безнравственного, честного и бесчестного». И поэтому Гельвеций делает основной вывод, показавшийся чудовищным его современникам, хотя практически он выражал норму их поведения: «Нужно жаловаться не на испорченность людей, но на невежество законодателей, у которых всегда частный интерес преобладает над интересом широких человеческих слоев».
Путь, который Гельвеций определяет для человечества, — это путь замены частного интереса интересом широкообщественным. Он говорит:
«Дух кружка, дух семьи, дух своего сословия способен истребить в душах граждан всякую любовь к благу общества, человечества и к родине. Но для понимания общечеловеческих интересов недостаточно субъективного благородства души, а нужны объективные знания человеческой природы. В ком глубокое научное знание сочетается с субъективным благородством — этот компас человечества указывает путь его развития».
Не ограничиваясь этим сравнением с компасом, Гельвеций все общество человеческое считает кораблем перед бурей и, к великому ужасу своих современников, заканчивает свою тираду словами:
«Когда корабль застигнут долгим штилем и голод своим повелительным голосом определяет людям жуткий жребий, бросая который одни решают, кому быть жертвой других; одни избирают в пищу других, определяя, кто будет несчастной жертвой для остальных, — тогда этих избранников голода, этих немногих убивают во имя спасения всех. И надо убивать без угрызения совести, ибо этот корабль есть эмблема всякого народа. Все становится законным и добродетельным, если преследует благо общей связи человечества».
Гельвеций полагает, что время неизбежно вносит огромные изменения как в мир физический, так и в мир нравственный. Под словом «добродетель» на самом деле можно понимать всего лишь желание всеобщего счастья. Что есть цель добродетели, красоты, как не общественное благо и не счастье массы людей? Однако часто преследуется польза одних за счет других. В основе законов, нравов и обычаев лежит польза экономическая.
Гельвеций приводит далее «перечень этнографических примеров». Он оправдывает жестокость старинных племен, которые доблестью считали то, что ныне считается варварством. Рисуя картину будущего человеческого счастья, Гельвеций проводит различие между добродетелью истинной и добродетелью предрассудка. Самой большой и самой опасной добродетелью предрассудка он считает порчу людей, происходящую от религии.
Но когда Гельвеций пытается создать положительный идеал, он оказывается гораздо слабее, чем в области критики. Замалчивая имена подлинных врагов человечества, Гельвеций только высказывает мысль о том, что «надо сорвать с них маску и показать в этих покровителях невежества тех подлинных негодяев, которые являются врагами человечества».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная