ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII
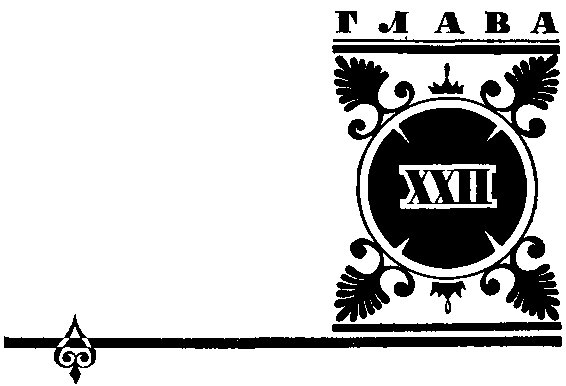
Стендаль родился накануне Великой буржуазной революции, за шесть лет до ее начала. Стендаль умер накануне первого самостоятельного революционного выступления нового класса, пролетариата, за шесть лет до революции 1848 года.
Жизнь его протекла в эпоху торжества и упадка освободительной борьбы буржуазии против феодализма.
Великие освободительные идеи, которые Стендаль жадно впитал в самые ранние детские годы, не были осуществлены ни в эти годы, ни позже, когда он был юношей, молодым человеком. Наоборот, буржуазия, получив то, что ей нужно было более всего, возможность и право на беспрепятственное обогащение путем эксплуатации народа, быстро отреклась от идеалов своей молодости, даже от притязаний на власть: чтобы сохранить кошелек, она готова была уступить корону, которую надела было на себя в 1789–1792 годах. Ее она вручила Наполеону…
Но идеалы молодости буржуазии были идеалами молодости Бейля. Он от них не отрекся…
Все лучшее, что в культуре создано было передовым человечеством в эпоху подготовки штурма феодального мира, все прогрессивное, что значительно опережало реальные возможности буржуазного строя, — подлинная свобода и благо народа — все это на всю жизнь определило сознание Стендаля.
В отношении революционном и идейном буржуазия обанкротилась на глазах Бейля, и он понял, что от нее ждать нечего. Он понял это тем лучше, что он хорошо ее изучил, он знал ее и понимал лучше, чем она самое себя… И он рассказал все, что знал о ней, в своих произведениях…
Но Бейль не понял и не увидел, какой новый класс явился законным правопреемником революционного наследства, он не видел, что идеи подлинной свободы и социального равенства, к которым подошла революция и перед которыми остановилась, что эти идеи могут быть и будут воплощены по-настоящему лишь пролетариатом.
Таким образом, Бейль чувствовал себя всю жизнь одиночкой, случайно уцелевшим представителем великого века, держателем замечательного идейного наследства.
Он мужественно отстаивал свои идеи, оберегал их, хранил их чистоту — и смело прилагал их к действительности тем единственным способом, который у него оставался, — в творчестве.
В этом — источник его реализма, аналитического, ясного, даже резкого и стремительного, как речи и дела людей в первые, лучшие годы революции…
Как человек с умом, и смелым и не связанным никакими условностями, он предчувствовал будущее, но смутно, вернее абстрактно, — как неизбежную победу свободы и счастья человечества. Он обращался к этому будущему, он понимал, что пишет преимущественно для читателя того времени, которое решительно не будет похоже на его эпоху.
Но как художник, как создатель образов, он весь был в настоящем, даже в прошлом; он описывал людей, подобных себе, потерпевших крушение в великой исторической битве, людей, опоздавших родиться или не успевших умереть, а быть может, поспешивших родиться, а следовательно, и умереть…
Крах его героев, — а они все терпят крах: и Октав, и Жюльен, и Люсьен, и Фабрицио, — это выражение исторической бесперспективности.
Подлинный представитель передового человечества своего времени, смертельный враг и феодальной реакции и буржуазного контрреволюционного либерализма, искренний друг народа, Стендаль — основоположник реалистического романа — отличается от своих современников, писателей-реалистов, и в первую голову от величайшего из них — Бальзака — именно тем, что он был сознательным хранителем и выразителем лучших идей демократической революции. Он не вступал ни в какие сделки ни с буржуазным обществом, ни со своею совестью; он не искал идеалов в прошлом, как Бальзак, он ненавидел настоящее сильнее, чем Бальзак, потому что он отрицал его во имя будущего. Оттого и стиль его реализма иной, чем у Бальзака, у Флобера; оттого не нашлось общего языка у обоих великих реалистов — Бальзака и Стендаля.
Стендаль по крайней мере в трехстах из своих тысячи семисот писем говорит, что его всегда преследовало стремление, сознаваемое как долг: «обеспечить максимальное понимание тех фраз, которые выражают его общественно полезные мысли». С этим связана и его языковая установка. Язык Стендаля — французский язык, очень корявый с точки зрения поклонников Мопассана и совершенно, быть может, непригодный для пародийного стиля Анатоля Франса. Но это прекрасный, четкий, чистый и ясный язык. Его тяжеловесность — это тяжеловесность золота. Лигатура ни в прямом, ни в переносном смысле несвойственна Стендалю.
В письмах И. С. Тургенева, изданных в Париже Гальпериным-Каминским, Тургенев приводит все желчные отзывы Флобера о Проспере Мериме. Этот великий реалист был, в сущности, выразителем только субъективного идеализма буржуазии своего времени. И совершенно правильное суждение высказывает Поль Лафарг, когда говорит, что Маркс видел вещи изнутри, а Флобер только снаружи; Стендаль выходил за пределы буржуазного субъективного идеализма, он был в корне не согласен с идеалистической философией Германии, с эклектизмом Виктора Кузена. Анри Бейль-Стендаль чужд и субъективному реализму буржуазного романа. Поэтому мы имеем право говорить о народности его творчества.
Стендаля отдаляла от современников его классовая трактовка героев, событий и положений — все, что и не грезилось реалистам типа Флобера и Гонкуров.
По этой же причине Стендаль в течение десятилетий был сознательно замалчиваем буржуазными критиками и историками литературы — это было неудивительно и в годы Июльской монархии, и при Второй империи, и при Третьей республике, и еще менее удивительно, что и нынешние критики, все эти Лансоны, Фаге, третируют Стендаля… Они отлично понимают, что его подлинно критический реализм, насыщенный великими революционными идеями, составляет драгоценную часть культурного наследства, которую пролетариат бережно принимает и развивает.
Уже в 1830 году «Литературная газета» Пушкина — Дельвига стала проводницей идей Стендаля. Еще до выхода «Красного и черного» в ней печатались полученные через посредство Соболевского выдержки из произведений Стендаля. Немного погодя журнал «Сын отечества» напечатал отрывок воспоминаний Стендаля о Байроне[114].
Обстановка последующих лет не дала возможности полностью развернуться влиянию Стендаля на русскую литературу. Но многие литературные произведения носят явные следы этого влияния. Спутник Стендаля Волконский выпустил книгу «Рим и Италия средних и новейших времен в историческом, нравственном и художественном отношении» (сочинение князя А. Волконского, члена Римско-аркадской академии, Москва, 1843–1845) под прямым воздействием Стендаля. Через четыре года после смерти Стендаля его произведениями зачитывался пятнадцатилетний мальчик Лев Толстой. По картинам виденного им Бородинского боя Бейль создавал картины боя при Ватерлоо. Бейль обращал большое внимание на все отвратительные, «изнаночные» стороны войны. Лев Толстой по картине битвы под Ватерлоо, прочитанной в «Пармской обители» Стендаля, воссоздал Бородинскую битву. Но Лев Толстой дает картины пацифистского отрицания войны. С точки зрения Льва Толстого любая война, и гражданская, классовая, и захватнически империалистическая, одинаково плоха. Стендаль войну расценивает в зависимости от того, понимают ли воюющие смысл и значение происходящих событий. Лев Толстой — пацифист, Стендаль — антимилитарист, антимилитарист сознательный и глубоко умеющий оценить гражданскую войну, ведущую к революционным достижениям, как нечто более благородное и высокое, как нечто более бережливое и экономное в расходовании человеческих сил, нежели любая война, предпринятая ради колоний, ради банковских операций, ради приобретения новых рынков.
Однако Толстой для своих батальных картин пользовался именно изображением битвы при Ватерлоо, как это дано Бейлем в «Пармской обители».
М. Горький в письме на мое имя сообщил следующее:
«Уважаемый Анатолий Корнелиевич!
Насколько могу вспомнить, это было так: Л[ев] Николаевич] беседовал на террасе в Гаспре с А. П. Чеховым; я и Сулержицкий пришли в тот момент, когда Л[ев] Николаевич] высмеивал «Грациэллу» Ламартина. Затем стал читать на франц. языке стихи Казимира Делавинь. Когда мы вышли из гостиной на террасу, он, поздоровавшись, снова обратился к Чехову со словами о французах как исключительных мастерах формы; буквально этих его слов не помню, а приблизительно они были таковы: щеголевато, цветисто, но всегда «свободно и легко пишут, а вот Тютчев писал французские стихи, — но плохо; он и в стихах был дипломат». После этого он и сказал, что если б не читал описания Ватерлоо в «Шартрезе» Стендаля, ему, наверное, не так бы удались военные сцены «Войны и мира». И — подумав: «Да, у него я многому научился, прекрасный сочинитель он». Далее он заговорил о Нодье, но я был вызван доктором Никитиным и конца беседы не слышал.
В другой раз на даче «Нюра», где я жил, он, увидав книгу Стендаля «О любви» — в подлиннике, — сказал моей знакомой Васильевой: «Это — пустая книга, вы читайте его романы, он — романист, не философ. Жаль, что Бальзак, должно быть, плохо знал его. Бальзак — сочинитель хаотический, болтливый».
В манере Л[ьва] Николаевича] говорить были какие-то зияния, как будто он некоторые свои мысли и не выговаривал, удерживая их только для себя. Почти всегда говорил утвердительно и редко комментировал тему подробно. Может быть, по этой причине иногда казалось, что он противоречит себе и даже как будто противоречит из каприза. Основной чертой его интеллекта я считаю нелюбовь к разуму, боязнь разума. Казалось, что он рационалист против своей воли. Рационализм у него был нехороший, китайский, а не европейский.
В одном из писем к Арсеньевой он сказал: «Ум слишком большой — противен». Но простите, это уж очень в сторону от Стендаля. О Толстом всегда хочется говорить много и все-таки всего Толстого не выговоришь.
Будьте здоровы, А[натолий] К[орнелиевич].
Жму руку
А. Пешков.
8 мая 1928 г.»
Так свидетельствует величайший пролетарский писатель нашей страны о воздействии Стендаля на Льва Толстого.
Однажды, вынув случайно лотерейный билет № 1935, Бейль шутя произнес:
«В этот год я буду иметь наибольшее число читателей».
На Западе за сто лет книги Бейля-Стендаля вышли тиражом, не превышающим в общей сложности пятидесяти тысяч экземпляров. За двадцать лет существования советской власти СССР выпустил около полумиллиона его книг[115].
В год выпуска первых советских изданий Стендаля автор этой книги обращался за советами и справками к одному из лучших знатоков Стендаля — покойному Артуру Шюке. Этот профессор Коллеж де Франс написал лучшую биографию Стендаля и затем посвятил всю свою жизнь разработке документалий наполеоновской эпохи. Приветствуя издание 1923 года, Артур Шюке писал мне тогда же:
«Я должен сказать, что ваше определение изолированной судьбы и последующей популярности Стендаля, завоевавшего весь литературный мир, напоминает мне судьбу вашей Великой Октябрьской революции, которая несомненно из явления, намеренно изолированного в пределах Восточной Европы, становится достоянием всего мира».
Этими прекрасными словами мы можем закончить книгу об одном из важнейших основоположников французского реализма, об одном из любимейших писателей Советского Союза.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII Прибытие на острова. — Гонолулу. — Что я там увидел. — Наряды и нравы местных жителей. — Животное царство. — Фрукты и очаровательные свойства некоторых из них.В одно прекрасное утро в пустынном море показались острова — еле заметные возвышения над водной
Глава XXII
Глава XXII Прибытие на острова. — Гонолулу. — Что я там увидел. — Наряды и нравы местных жителей. — Животное царство. — Фрукты и очаровательные свойства некоторых из них.В одно прекрасное утро в пустынном море показались острова — еле заметные возвышения над водной
Глава XXII
Глава XXII Том вступил в Новое общество — «Юных друзей трезвости», так как членам этого общества выдавали шикарные «знаки отличия». С него было взято обещание никогда не курить, не жевать табаку, не ругаться скверными словами. После этого он открыл одну новую истину: если
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII В Москве без меня. Мирная жизнь моя во Владимире скоро была возмущена вестями из Москвы, которые теперь приходили со всех сторон. Они сильно огорчали меня. Для того чтоб сделать их понятными, надобно воротиться к 1834 году.На другой день после моего взятия в 1834 году
Глава XXII
Глава XXII Большие начали поговаривать об отъезде в Ясную Поляну. У меня на душе встала забота: Мотька.«Как сделать, чтобы папа и мама позволили мне взять его с собой? — думала я. — Довезти его до Самары я берусь. Он будет смирно лежать у меня на коленях. Ну, а потом? Как везти
Глава XXII
Глава XXII Весенним утром к нам в барак неожиданно вошел полковник Евстигнеев в сопровождении большой группы офицеров своего Управления.— Ну, опять скажете: Евстигнеев весеннюю «парашу» принес. Но это факт — Комиссия Верховного Совета СССР по пересмотру ваших дел прибыла
Глава XXII
Глава XXII — Слушай, Гордон, — как-то обратился ко мне Том Поуп перед лекциями. — Что ты скажешь, если сегодня я приглашу тебя на «парти»?— Скажу «отлично», если, конечно, ты приглашаешь только меня, а не бутылку виски вместе со мной.— Ну, этого можешь не опасаться, —
Глава XXII
Глава XXII В конце 1970-х — начале 1980-х годов основной костяк Служба лётных испытаний истребительной авиации (СЛИ ИА) состояла уже из выпускников Центра подготовки испытателей, часть которых как-то сразу уверенно и прочно заняла своё место в коллективе испытателей 1-го
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII Счастливый владелец вывески Жерсен удостоверил, что «написана она была за неделю, да и то художник работал только по утрам; хрупкое здоровье, или, лучше сказать, слабость не позволяла ему работать дольше».С каким же чудовищным напряжением он должен был писать,
Глава XXII
Глава XXII Настала пора, про которую говорят: солнце на лето, зима на мороз. Солнце день ото дня поднималось все выше и выше. Полярная ночь кончилась, дни становились длиннее и длиннее. И хотя до настоящей весны в Заполярье было еще далековато, все же воздух менялся, он стал
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII Обдорск давно ждал «советских».Правительство со своей стороны сделало все, чтобы заинтересовать местное население новыми ссылками. Еще за два месяца до нашего прибытия местным приставом были получены инструкции о том, как нас принять, как строго за нами следить.
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXII (101) Другой способ воспитания известен из «пифагорейских изречений», касающихся как образа жизни, так и человеческих мнений, из множества которых приведу несколько примеров. Пифагорейцы призывали изгонять дух соперничества и вражды из истинной дружбы, а также из
Глава XXII
Глава XXII — А почему мы должны платить местовые, если налоги отменены?!?!— Уважаемые, не надо криков! Власть теперь народная, и мы вместе с вами, как представители народа…В очередной раз думаю, что Наталья не ту стезю выбрала. Ей бы львов и тигров дрессировать. Так рулить