ГЛАВА XIX
ГЛАВА XIX
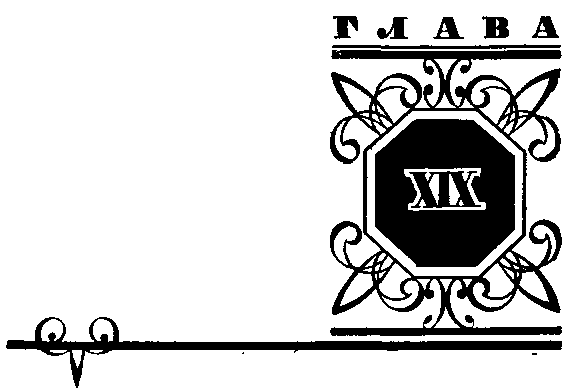
Бейль приехал на родину, когда протекли первые шесть лет владычества биржи и ее ставленника Луи-Филиппа.
Судьбой его было возвращаться во Францию после длительных отлучек в такие периоды, когда в стране произошли серьезные перемены, и взор пытливого наблюдателя поражает все, что он видит: многое прежнее и привычное исчезло или изменилось до неузнаваемости, а многое такое появилось, о чем он и не думал, чего и не ждал. Так было в 1821 году, после семилетнего пребывания в Италии, так и теперь. Тогда Бейль застал уже определившейся, так сказать, устоявшейся, со всеми ее характерными чертами, монархию Бурбонов, а теперь — монархию Июльскую.
И он по совести не мог бы сказать, что нынешняя ему нравится более предыдущей… Конечно, нет теперь и помина о средневековых бреднях Карла X, старое дворянство присмирело и не мечтает более о полном восстановлении дореволюционных порядков.
Но политической свободы нет по-прежнему, правительство, напуганное восстаниями в Лионе и в Париже, покушениями на короля, деятельностью тайных обществ, пропагандой «безумцев социалистов», все решительнее и круче сворачивает на путь реакции, на путь преследования свободной мысли и слова.
В предисловии, которое Бейль написал незадолго до смерти к книге «О любви», он очень удачно охарактеризовал господствующие классы общества: «Властвующая буржуазия и брюзжащая аристократия…» Хотя они и продолжали спорить между собою о характере и доле участия в управлении государством, но их интересы давно уже совпали в общем стремлении к угнетению народа, эксплуатации его.
Старая и новая земельная аристократия совместно с банками и ростовщиками грабили крестьянство.
Промышленная и финансовая буржуазия с азартом новизны эксплуатировала новый класс фабричного пролетариата.
Во Франции в порядок дня стал социальный вопрос в самой его острой и решительной форме, как вопрос рабочий… Пока еще подспудно, в недрах общества, шли серьезные, глубокие процессы, которые вылились в революцию 1848 года.
Когда Бейль вернулся в Париж, до нее еще было далеко. Но ее предвестники уже давали себя знать: по всему было видно, что буржуазия, ставшая контрреволюционной еще в 1793 году, ныне превратилась в злейшего врага своего народа…
Мериме рекомендует Бейлю познакомиться с испанской семьей Монтихо. Мария-Мануэлла, графиня Тэба, и две ее дочери, Евгения и Пака, любезно встречают писателя Бейля. Он интересен им, потому что приносит альбомы английских гравюр и рассказывает чудесные истории о Русском походе, об императоре Наполеоне, о его генералах. Евгения вскакивает на колени к господину Бейлю, и он с пафосом говорит: «В бою под Молодечно пуля пробила мне кивер» или «Русские морозы оледенили мою голову — вот почему у меня на лбу вырос этот чуб!» Маленькие слушательницы благоговейно ждут прихода интересного рассказчика. В дни, когда бывает господин Бейль, их не отправляют до вечерней зари ложиться спать.
Через много лет Евгения Монтихо вышла замуж за принца-авантюриста Шарля-Луи Бонапарта и сделалась императрицей Франции, а Проспер Мериме занял пост французского сенатора…
В 1836 году Бейль в последний раз раскрыл папку зашифрованных страниц «Красного и белого». Он с ужасом заметил, что потерял шифр. Усталость и недовольство собою привели к тому, что он перестал заниматься этим романом. 1836 год был годом такого же «окончания» и «Анри Брюлара». Обе вещи остались недописанными, так же как набросок первых глав замечательного романа «Федер» или «Муж за деньги». Острое чувство французской действительности, лживой, мрачной и тяжелой, когда под крышами все растущего Парижа возникли новые люди с новыми мыслями, а правительство добивалось «выкройки» человеческих голов по старому штампу, взволновало Бейля, и это волнение отразилось в динамическом напряжении первых глав «Федера».
1837 год Бейль сплошь посвящает писанию хроник. Он изредка ходит в театр смотреть игру великолепной Рашель, изредка выезжает в Бретань.
Но чаще всего его можно встретить у Жерара и у Виржинии Ансло с его старым другом Корефом[104].
7 февраля Виржиния Ансло пишет Соболевскому: «Приходите на совершенно интимное дружеское собеседование, в котором примут участие ваши друзья Бейль и Кореф».
Это был человек недюжинного ума; судя по рецептам, сохранившимся в двадцати восьми томах архива Соболевского, он был серьезный врач. Доктор Кореф выступает во всех мемуарах и характеристиках тогдашнего времени как литературный деятель, а между тем Бонфон выставляет его чуть ли не шарлатаном и заурядным медицинским мистификатором. Это объясняется тем, что исключительный талант, которым владел Кореф, был подобен таланту певца и пианиста; они умирают, сохранив по себе память только в словесной молве и не оставив никаких творений. Никто не записал блестящих импровизаций и рассказов Корефа, фантастических, исторических, бытовых. Тысячи его анекдотов наполняли парижские салоны. Нашелся один человек, который отдал должное имени Корефа, — это Теодор-Амедей Гофман, который в своих «Серапионовых братьях» изобразил доктора Корефа под видом Винцента и советника Креспеля. Евгений Сю описал его под именем Брадаманта.
В 1838 году Бейль ездил в Англию[105]. Датировка этих путешествий до сих пор не установлена полностью. Сеттон Шарп знакомит Бейля с Теодором Гуком, главным редактором ежемесячного журнала «Новый ежемесячный сборник». Гук, Бейль, Сеттон Шарп часто видятся в Лондоне. Гук дал возможность Бейлю увеличить свой заработок настолько, что он решил целиком отдаться творческой работе и остаться на половинном окладе в министерстве иностранных дел. Английский «Атенеум» произвел на Бейля прекрасное впечатление. Именно там он отдыхал всей душой. Среди саркастических, едких и умных суждений своих друзей он находил гораздо больше пищи для ума, нежели в салоне Виржинии Ансло.
В январе 1839 года Бейль сдал в печать хронику, написанную им очень быстро, широкими мазками. Он описывает XVI столетие в Италии. Повесть называется «Аббатиса из Кастро». Используя «Записки по югу Франции» Миллена и докладные записки инспектора исторических памятников Проспера Мериме, Бейль выпустил «Записки туриста» — вещь замечательную по количеству материалов, выписок из местных архивов, собственных наблюдений и анекдотов, слышанных в дилижансах. Миллен умер. Проспер Мериме не обиделся за огромное количество выдержек из его произведений, не оговоренных как цитаты. Единство впечатлений, получаемых от книги, таково, что мы не можем не узнать Франции тогдашнего времени, с ее нравами, обычаями, избирательными подкупами, старинными хрониками судов, затерявшимися в местных архивах муниципалитета, и с происшествиями, которые внезапно оживляют перед нами картины совершенно невероятных событий: какая-нибудь девушка-провинциалка совершает подвиг, достойный мировой славы, оставшийся незамеченным, или юноша совершает акт величайшего бескорыстия в корыстолюбивую эпоху биржевиков, фабрикантов, политических спекулянтов и организаторов избирательных подкупов.
Работа над новеллами и хрониками, над мелкими записями событий, зарисовками характеров, выписками из протоколов и летописей были фундаментом для нового огромного здания. 4 ноября 1838 года в маленькой комнате на улице Годо-де-Моруа Бейль начал диктовать стенографу. Через 52 дня, 26 декабря того же года, роман был окончен, а 28 марта 1839 года Стендаль держал в руках первый, еще пахнувший типографской краской экземпляр огромного тома на рыхлой полотняной бумаге, края которой выступали за пределы розовой обложки. Стендаль признается: «Я импровизировал, когда диктовал, и не знал, что будет написано в следующей главе».
Так появился роман «Пармская обитель» — «La chartreuse de Parme». Буквальное значение термина «чертоза» — картезианский монастырь — монашеский орден старинной Франции. Если отвлечься от специфически монастырского слова «чертоза», то мы получим заглавие, означающее узкий, замкнутый, отшельнический горизонт североитальянского феодального города, поглощенного только своими делами.
Роман посвящен жизни Италии после падения наполеоновской монархии, когда Австрия вторгалась не только в государственное устройство, но и во все бытовые мелочи жизни итальянцев. Но «Пармская обитель» не бытовой роман, а история молодого человека, попавшего в обстановку, чуждую естественному развитию характера. Огромный разбег революционной волны вынес на своем гребне не только Бонапарта, но целое поколение военных героев. Когда волна спала, они оказались на мелководье.
Италия привыкла к тому, что заурядные кондотьеры, представители богатых семей или банальные авантюристы из корабельных пиратов Средиземного моря, завоевывают города, наворовывают и грабят колоссальные состояния, получают титулы от римского императора или короля обеих Сицилий и становятся дворянами. Для итальянской молодежи восхождение корсиканского мелкотравчатого чиновничьего сына по ступеням исторической славы не было диковинкой: «Сегодня вышел в мир Бонапарт, завтра — я». Вот почему молодой и непосредственно чувствующий итальянец Фабрицио дель Донго с таким упоением следит по карте за молниеносными движениями бонапартовских войск по Европе, по Италии. Ему самому хочется принимать участие во всех упоительных событиях своего времени, его жадные глаза желают видеть картины битв, а ему преподносят мессу и попа в лиловой сутане! Фабрицио дель Донго — обаятельный характер молодого итальянца XIX столетия, не находящего себе никакого применения в жизни. Государь «е склонен делать его офицером, потому что давать оружие такому человеку, который сбежал во Францию, к Наполеону, и был участником битвы при Ватерлоо, по меньшей мере неблагоразумно.
Государь влюблен в тетку Фабрицио и хочет сломить упорство и самолюбие этой женщины, растоптать и кинуть в грязь ее благородство. Это создает неблагоприятные условия для карьеры Фабрицио. И вот мелкая семейная интрига приводит к тому, что молодой человек попадает в тюрьму, а герцогиня Сансеверина и граф Моска стремятся его спасти. В тюрьме он узнает, что девушка, случайно виденная им, Клелия Конти, дочь генерала Фабия Конти, коменданта тюрьмы, живет неподалеку. Бой стенных часов из ее комнаты и щебетанье канарейки на окне у девушки доносятся через узкий и высокий тюремный двор в открытую форточку камеры заключенного.
Стендаль мастерски показывает, как из крушения личных надежд, из безнадежного отчаяния при встрече с суровой действительностью, превращающей богатого и блистательного молодого человека в ненужную арабеску жизни, возникает великая грусть юного сердца.
Духовная карьера Фабрицио дель Донго облекла его в лиловую сутану помощника монсиньора архиепископа Пармского — Ландриани. Куда девать пыл юности? Где настоящая, подлинная жизнь, ради которой стоит что-нибудь отдать? Где та цель человеческого существования, ради которой можно отдать самую жизнь? И Фабрицио умирает в расцвете лет…[106]
Пусть как угодно гневается критика, но граф Moска чрезвычайно напоминает самого Бейля. Критики, сомневающиеся в этом, пусть перечитают письма Бейля в издании Барреса. Моска принужден «с волками жить и по-волчьи выть». Но он очень хорошо знает жизнь. Он разыгрывает роль верноподданного, в то же время прекрасно оценивает все события, происходящие перед ним. Он не зол по природе, он иронический наблюдатель, но он знает, что на его месте мог бы быть кто-либо в тысячу раз более опасный для общества — человек, упоенный собственной властью. Моска скептик. Он скептически относится к своим министерским полномочиям. Он «такого возраста, когда позволительно быть застенчивым».
В образе обаятельной герцогини Сансеверины Бейль воплотил Метильду Висконтини. Эти темнозолотые волосы и синие до аметистового блеска глаза, соблазнительная и мудрая улыбка и чарующие жесты, эта женщина благородного характера и сильного ума, обладающая бесконечной способностью самопожертвования, умеющая выходить из самых трудных положений в жизни ради любимого человека или любимого дела, — это, конечно, только Метильда Висконтини, та самая, которую Сальвоти тщетно пытался допрашивать о преступлениях Конфалоньери, Уго Фосколо, самого Бейля и других миланских карбонариев.
Бейль особенно любил сравнивать ее лицо с лицами североитальянских женщин на полотнах живописцев леонардовской школы. Вот почему в качестве любимого портрета Метильды Висконтини Стендаль всегда имел перед собой Иродиаду Бернардо Луини.
В то время когда Бейль был увлечен описанием битвы при Ватерлоо, когда перед ним лежали планы Москвы и кроки Бородинского боя, а кругом валялись портреты Кутузова, Барклая де Толли, его навестил князь Петр Андреевич Вяземский.
Бейль хотел использовать войну 1812 года для описания потрясающей картины битвы при Ватерлоо. Этой битвы наполеоновский спутник не видел. Но он был свидетелем Бородинского боя. И тут он не мог отделаться от России и от проклятых воспоминаний о русских морозах, от ужасов крепостного права, от зрелища забитого и угнетенного русского мужика и мелкого ремесленника Москвы, Смоленска, Вязьмы, Вильны. Автобиографизм проявился во всех произведениях Бейля. Заканчивая описание битвы при Ватерлоо, Бейль не может обойтись без русских впечатлений.
В марте 1839 года у министра иностранных дел Моле Вяземский вторично встретился с Бейлем и говорил с ним о происхождении Шарля-Луи Бонапарта. Остроумные высказывания о Талейране, Флао, Гортензии и Бонапарте вызвали восхищение Вяземского. В переписке с А. И. Тургеневым он уделял немало внимания автору «Красного и черного» и теперь с упоением выслушивал его разоблачения о происхождении претендентов на трон императора французов — человека, с которым Бейлю не пришлось столкнуться в жизни.
Коротенькие строчки из записной книжки Вяземского освещают нам картину необычайной прозорливости Бейля в исторических прогнозах.
Так ли уж благополучно во Франции со стороны бонапартистских претендентов, говорит он Вяземскому. Луи Бонапарт легко переломит ребра Луи-Филиппу не потому, что он хорош, а потому, что Луи-Филипп, по словам Бейля, «величайший шулер, король шулеров», и потому, что Франция дошла до последней точки революционного кипения.
Эти отзывы свидетельствуют, что Бейль распознал в Луи-Наполеоне авантюриста, заслуживающего только презрения, пародию на Наполеона.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная