10 МОЙ ДОМ ЗА ТРИСТА ТЫСЯЧ И ДРУГИЕ ПОЛУТРИУМФЫ
10
МОЙ ДОМ ЗА ТРИСТА ТЫСЯЧ И ДРУГИЕ ПОЛУТРИУМФЫ
В начале двадцатых я, как многие люди в кино, выручил солидные деньги на сделках с недвижимостью. Прожив некоторое время в нашем скромном голливудском доме, я занял 50 тысяч долларов у Джо Шенка и купил себе другой. Прожил в нём шесть месяцев и продал за 85 тысяч. Потом купил ещё один, прожил там ещё шесть месяцев и продал за 85 тысяч. Часть прибыли я отдал маме на покупку большого дома для всего семейства.
В 1924 году я построил красивый дом с тремя спальнями в Беверли-Хиллз для моей собственной семьи. Он обошёлся всего в 33 тысячи долларов, но стоял на огромном участке с бассейном и был идеальным для нас четверых. Я был так уверен в нём, что не позволил жене посмотреть на него, пока не пришло время вселяться. Я хотел её поразить.
В тот великий день, когда она должна была его увидеть, мы взяли с собой миссис Беренис Манникс, её муж Эдди работал тогда менеджером на студии Шенка.
Моя жена бросила один взгляд на дом и заявила, что он слишком мал.
— Во-первых, — сказала она, — в нём нет комнаты для гувернантки. Где она будет спать?
Нашему Джиму было три года, а Бобу год. До тех пор мне никто не говорил, что им требуется гувернантка, которая будет ночевать в доме.
— Разве ты не понимаешь, Бастер? — сказала она. — Для нас нужна одна спальня, другая для мальчиков, третья для лакея и повара. И нам нужно место на ещё одну спальню для неё.
Тем временем миссис Манникс охала и ахала очень громко по поводу нового дома.
— О, что бы я дала за этот дом! — восклицала она. — Он совершенен.
Я посмотрел на жену, затем на неё.
— Если ты действительно хочешь его, Беренис, — он твой, — сказал я. — Пусть Эдди взглянет на него, и, если ему понравится, я вам его продам.
Дом понравился Эдди примерно так же, как его жене. У него было только одно сомнение насчёт покупки: Шенк мог решить вернуться в Нью-Йорк и сделать там свою штаб-квартиру. Если бы это произошло, Маннике был бы вынужден ехать с ним. В таком случае в любое время, когда ему придётся ехать на Запад, он бы продал его мне обратно за те же деньги. Вскоре Эдди стал одним из «Большой тройки» на студии «Метро-Голдвин-Майер». Он продержался там дольше всех, но по-прежнему живёт в доме, который был слишком мал для моей первой жены.
Я, конечно, ничем не рисковал, делая это предложение. В середине двадцатых годов поместья разрастались по всей Южной Калифорнии, а самые отборные участки и дома находились прямо здесь, в Беверли-Хиллз.
Дом, который я в итоге построил для нас четверых в Беверли, был таким громадным, что удовлетворил всех. Это был двухэтажный особняк с пятью спальнями, двумя дополнительными спальнями для прислуги и трёхкомнатными апартаментами над гаражом для садовника и его жены, работавшей у нас горничной. Что вместе с поваром, лакеем, шофёром и гувернанткой составляло шесть человек прислуги.
Дом стоял на трёх с половиной акрах красивой лужайки. Вместе с землёй он обошёлся мне в 200 тысяч долларов, и мы потратили ещё 100 тысяч, обставляя его. Часть мебели я спроектировал сам: огромную кровать, которую жена хотела для своей комнаты, элегантную кровать для себя и пару чудесных высоких бюро из тёмного дуба с зеркалом во весь рост между ними. Я заказал эти предметы у плотников на студии.
До сих пор помню, как трепетал от волнения и гордости в день, когда Ник Шенк впервые увидел дом.
Этот мультимиллионер присвистнул и прошептал: «Надеюсь, Бастер, ты не зашёл слишком далеко».
Я сказал ему: «Нет» — и искренне верил в это. К тому времени я получал 2 тысячи долларов в неделю плюс 25 % от прибылей с моих фильмов, что давало мне дополнительно 100 тысяч в год.
Вложить 300 тысяч долларов в дом показалось мне самым надёжным, что я мог сделать. Конечно, мне не приходило в голову, что однажды жена заберёт у меня это чудесное имущество. В связи с чем вспоминаю, что, после того как мы въехали в дом, личные траты жены на одежду и разные безделушки в среднем достигли 900 долларов в неделю, и я никогда их не ограничивал.
Теперь я понял, что в нашем браке был один недостаток: моя жена, неудавшаяся актриса, могла соревноваться с женщинами-звёздами из нашей компании только в области трат, развлечений и роскошной жизни. Это было чем-то вроде работы, потому что в ту эру бешеного мотовства очень немногие женщины-звезды немого кино отличались бережливостью, а их заработки были огромны. Но было бы нечестно и смешно притворяться, что я сам был бережливым. Я покупал себе всё, что хотел, в том числе лучшую одежду, машины, охотничье и рыболовное снаряжение. Я не пожалел денег ни на громадный бассейн, ни на внутренний двор позади дома. Я потратил 14 тысяч долларов только на то, чтобы пересадить туда сорок две большие пальмы с подъездной аллеи.
Не меньше, чем жене, мне нравилось устраивать вечеринки, а зимой у нас проходили костюмированные балы. Приглашение на наши вечеринки считалось наиболее желанным в Голливуде, кроме разве что сказочных праздников, которые давали Херст и Марион Дэвис. Больше всего мне нравились вечеринки с барбекю, которые мы устраивали каждое воскресенье с мая по октябрь, за исключением тех выходных, когда уезжали в город.

Я призывал Бастера Коллиера и Эда Брофи, чтобы они помогли мне обслужить около восьмидесяти приглашённых гостей. Многие другие приходили без приглашения. Они слышали о прекрасных жареных цыплятах, бифштексах и отбивных из баранины. Уилсон Майзнер, величайший остряк в Штатах, имел постоянное приглашение и хвастал, что может учуять мою стряпню даже из Санта-Барбары, за 90 миль.
Среди тех, кто очень редко отказывался прийти, было большинство «тузов» с «Метро-Голдвин-Майер», режиссёров и их жён: Майеры, Манниксы и Талберги, Кларенс Браун с женой, Джек Конвей, Боб Леонард, Сэм Голдвин, Ховард Хьюз, Херст и Марион Дэвис, Джо Шенк и, конечно, все родственники жены.
Пока мальчики были маленькими, я беспокоился о том, как их балует семейство жены, а мои собственные мать и сестра от всего сердца им помогают. Чего бы мои сыновья ни пожелали, всё моментально доставлялось. Я не хотел, чтобы Джима и Боба избаловали, ради их же блага. Как и все, я замечал, насколько трудной и неприветливой может оказаться жизнь избалованного ребёнка, когда он вырастает.
Будучи детьми Бастера Китона, мальчики росли дикими и необузданными, их воображение не располагало к созидательным проектам. Так, однажды им надоело выслушивать просьбы мыть руки и лицо перед едой, и они ухитрились перекрыть воду в доме. Абсолютно всю. Моя жена, отчаявшись добыть хоть каплю воды изо всех кранов на первом этаже и на втором, позвонила в водный департамент Беверли-Хиллз, и оттуда прислали экспертов. Люди из департамента перекопали 150 футов лужайки, ища пробоину в основных трубах, пока кто-то не обнаружил, что вода перекрыта под всеми раковинами, какие были в доме.
В другом случае ребятам не понравилась еда, которую им подали. Узнав от гувернантки, что им так или иначе придётся всё съесть, они подождали, пока она повернулась к ним спиной, а затем выбросили еду с тарелок в нагревательную решётку, вделанную в пол. Обогрев был включён, и их преступление быстро открылось, когда еда начала гореть на решётке.
Раблезианская натура этих детей пробудилась в день визита одной очень светской дамы из Беверли-Хиллз, пришедшей уговаривать мою жену поработать для благотворительной кампании. Матрона привела свою золотоволосую маленькую дочку. Ей было около четырёх, и она рвалась играть с Бобом и Джимом. Через полчаса или немного позже жена пригласила гостью попить чаю на крыльце. Оттуда они и увидели девочку, исполняющую весенний танец на лужайке, и моих сыновей, хохочущих запрокинув головы и хлопая в ладоши. Джим и Боб сняли с неё всю одежду.
Парни разработали ещё один небольшой трюк, который мне совсем не нравился. Как только в местном кинотеатре показывали мой очередной фильм, мои сыновья ломились туда без билетов. Когда билетёр пытался задержать их, они начинали ругаться: «Да вы-то что говорите? В конце концов, здесь показывают фильм нашего отца. Так почему мы должны покупать билеты?» Тем временем гувернантка стояла у кассы за билетами. Каждый раз она требовала, чтобы они её подождали, но мальчики всё равно прорывались внутрь, останавливаясь только для того, чтобы обескуражить человека у двери.
Моя жена тоже была упряма в некоторых вопросах. Она хотела, чтобы первой родилась девочка, и пришила на детские вещи розовые ленточки. Когда родился мальчик, она отказалась менять их на голубые.
— Розовый — для девочек, — сказал я, — голубой — для мальчиков.
— Нет, розовый — для мальчиков, — настаивала она. Я не стал спорить, подумав, что ей нравится розовый.
Меня слегка задело, что она настояла назвать нашего первого сына Джимми. Я думал, его нужно назвать Джозефом, как четырёх первых сыновей в моей семье, предшествовавших ему. Но она предпочла имя Джеймс, и его окрестили Джеймсом.
Бридж всегда был любимым комнатным спортом в Голливуде, но с одним исключением: я не интересовался им до тех пор, пока не отправился в Нью-Йорк в одном поезде с Ником Шенком, мистером Хайрамом Абрамсом и его женой.
Абрамс, президент «Юнайтед артистс», и его жена были великолепными игроками в бридж. Узнав, что мы с Ником не умеем играть, они предложили научить нас. По жребию мистер Абрамс достался мне в партнёры.
Как многие старые игроки в пинокль, первый раз пробующие бридж, я неохотно жертвовал своими картами ради партнёра. Мистер Абрамс говорил мне, что я тупица, и к концу дня его тон стал ещё более оскорбительным. В итоге я сказал: «Лучше сыграем во что-нибудь другое, потому что, если вы ещё раз меня обзовёте, получите по физиономии». С этими словами я выбежал из купе. Ник Шенк последовал за мной и попытался успокоить, но я не успокоился и отказался иметь дело с Абрамсом до конца поездки.
Он так огорчил меня, что я потратил сотни часов свободного времени на изучение игры. Я перечитал о бридже всё, что смог найти, и только тогда стал играть, начав с четверти цента за очко. Моя игра постепенно улучшалась, и я перешёл на цент, потом на 10 центов и, наконец, на 25 центов за очко — а это уже бридж высшей лиги и большие деньги. Через два года с лишним после той поездки меня пригласили в нью-йоркские апартаменты Джо Шенка на обед. Там были Сэм Голдвин и Абрамс. После обеда Абрамс заявил:
— Думаю, сегодня мы не будем играть, ведь у нас нет четвёртого.
— Нет, есть, — сказал Шенк.
— Кто?
— Бастер играет, — ответил Джо.
Мы разбились на пары, и нам с Абрамсом выпало стать партнёрами. Мистер Абрамс содрогнулся и попросил перетасовать карты. Ни Шенк, ни Голдвин не возражали, потому что оба недавно играли со мной на Побережье. В тот вечер после перетасовки мне в партнёры достался Голдвин.
Я был в Нью-Йорке две недели, много играл в бридж по 25 центов за очко, и мистер Абрамс часто бывал на этих играх. Я взял за принцип требовать перетасовки каждый раз, как он доставался мне в партнёры. В день отъезда я имел удовольствие получить от него чек на 3 тысячи 400 долларов, покрывавший его проигрыши мне за две недели.
— В следующий раз, — сказал он, подписывая чек, — пожалуйста возьмите меня в партнёры.
— Зачем? — спросил я. — Так мне гораздо веселее и к тому же прибыльнее.
Улыбающийся Сэм Голдвин был ещё одной «шишкой», кто мог вспылить за карточным столом. Но образ мыслей Голдвина, величайшего из всех независимых голливудских продюсеров, временами казался детским.
Однажды вечером он, его жена и чета Шенков обедали у меня дома, и Голдвин объявил:
— Я только что купил «книгу года».
— Ты имеешь в виду «На западном фронте без перемен?» — спросил Шенк.
Голдвин кивнул, и Шенк сказал ему:
— Я тоже хотел сделать заявку, но, как следует обдумав, решил, что не буду её покупать. Я понял, что это ужасная история, и самое плохое — у неё печальный конец. К тому же герой — немец, а они проиграли войну.
— Я всё обдумал, — произнёс Голдвин со счастливой усмешкой, — и сделаю так, что немцы победят в войне.
Мы оба, потрясённые, смотрели на него. Шенк сказал:
— Ты шутишь, Сэм.
— Нет, не шучу, — ответил Голдвин.
— Если ты попытаешься изменить конец мировой войны, — с жаром заявил Шенк, — то сделаешь себя посмешищем на весь мир.
На следующей неделе, когда мы трое снова собрались вместе, Голдвин объявил:
— Я продал «На западном фронте без перемен»
«Юниверсал» на 10 тысяч долларов дороже, чем купил, и был рад от неё избавиться!
В заключение этой истории: фильм, в котором немцы не победили, сделал колоссальные сборы — 8 миллионов — и спас «Юниверсал пикчерс» от банкротства.
У меня с Сэмом произошла стычка в один вечер, когда мы были партнёрами по бриджу. Мои карты были плохими, и он вёл себя весьма грубо. Я предпринял всё, что мог, и указал ему, что, играя с Шенком, Луисом Б. Майером и другими «шишками», он умел контролировать свой гнев. И предложил контролировать его и теперь.
Мои карты не сделались лучше, и он не переставал браниться.
— Может быть, ты хочешь, чтобы я блефовал, — спросил я, — или чтобы я разбил этот стол о твою голову?
— О, теперь ты у нас столы кидаешь? — сказал он.
Игра окончилась тем, что Фрэнсис, его жена, испугавшись, что дойдёт до драки, вошла в комнату со шляпой и пальто Сэма в руках.
Это было вскоре после крушения моего первого брака. Я больше никогда не играл в бридж с Сэмом Голдвином и не думал, что снова увижу его, до того дня, когда был в отчаянном положении, разорён и очень нуждался в работе. В Голливуде все об этом знали, и я был благодарен, когда секретарша Сэма позвонила мне и сообщила, что её босс хочет увидеться со мной насчёт роли в фильме о Джоне Л. Салливане, старом кулачном бойце.
В назначенное время я прибыл в его офис, и секретарша сказала: «Да, мистер Голдвин ждёт вас». Я вошёл, Голдвин поднял взгляд. Некоторое время посмотрев на меня, он покачал головой: «Я думал, ты сможешь сыграть одну роль в этом фильме, Бастер, — сказал он, — но сейчас, увидев тебя, понял, что ошибался. Ты никогда с ней не справишься».
Не знаю, чего Сэм ожидал от меня: чтобы я вцепился ему в глотку или упал на колени и умолял о роли. Но он явно не ожидал того, что я сделал: я засмеялся и вышел.
Думаю, в тот день Сэм чувствовал себя так же по-дурацки, как я в одно воскресенье в 1926 году.
Сидя на крыльце приморского дома Биби Дэниелс, я заметил девушку в сильном прибое, у которой, похоже, были неприятности. Буруны набегали один за другим, сбивая её с ног. Каждый раз, как ей удавалось подняться, очередная большая волна накрывала её. На всякий случай я пошёл туда, чтобы доставить её на берег в безопасности. Но выяснилось, что ей и там было неплохо. Когда мы вышли из воды, к нам подбежала Биби Дэниелс и спросила: «Вы встречались?» Я ответил: «Нет», и она сказала девушке: «Это Бастер Китон» и мне: «Бастер, это Гертруда Эдерли. Ты о ней читал. Пару недель назад она переплыла Ла-Манш».
На протяжении всех двадцатых годов одним из главных общественных событий были новогодние вечеринки, которые давал Джо Шенк в казино в Тихуане. Джеймс Джей Коффрот, организатор боксёрских боёв в старые времена, и Бэрон Лэнг, хозяин казино, пытались превратить казино в главную игровую площадку для взрослых на всём Западном полушарии. Но оно привлекало жителей Соединённых Штатов, измученных сухим законом, главным образом тем, что являлось легальным питейным заведением.
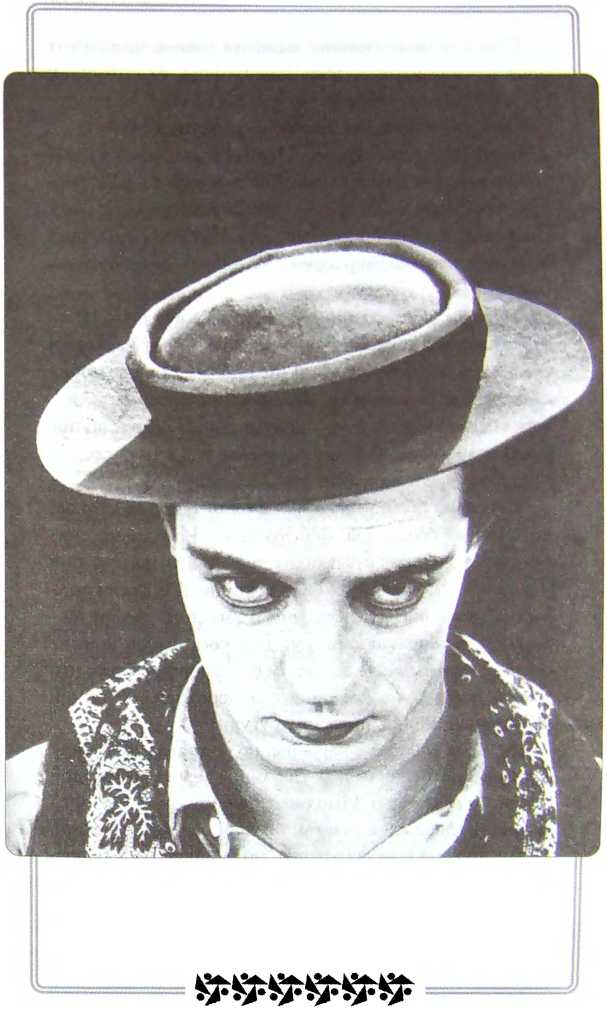
С ним у меня связано одно из самых идиотских приключений из-за красивой женщины, от которой я старался держаться как можно дальше. Об участи тех, кто этого не делал, страшно даже подумать.
Этой женщиной была Мэри Нолан, белокурая, стройная и ослепительная кинозвезда с «Метро-Голдвин-Майер». В дни, когда она работала в шоу Зигфелда[55], её знали как Имоджен (Бабблс) Уилсон и объявили на весь мир самой красивой девушкой на Бродвее.
Фрэнк Тинни, сценический комик, был первым из её несчастных поклонников, и он даже не влюбился в неё. Она в него влюбилась. Прежде чем она разлюбила кроткого маленького Фрэнка, он потерял жену, дом, сбережения, работу и репутацию. В обмен он получил только полицейский протокол, когда она подвела его под арест за избиения.
Избиений было несколько, а одно такое жестокое, что врач из больницы, осмотревший Имоджен, сказал: «Эта женщина выглядит так, будто попала под машину». Имоджен отсудила у Тинни 100 тысяч долларов, затем погналась за ним в Лондон, где он пытался начать новую карьеру. Там состоялось примирение, а позже новые побои. Всё закончилось тем, что Фрэнк вернулся в Америку, где переходил из одной психиатрической клиники в другую.
Это был конец его карьеры, но её только началась. Имоджен отправилась в Берлин, где стала звездой экрана под именем Имоджен Робертсон. Она продолжала попадать в газеты, первый раз как спутница испанского короля Альфонсо, подарившего ей брошь с драгоценными камнями и уикенд в королевском дворце, а позже — в компании с германским бароном, который отвёз её в замок на Рейне.
Как Мэри Нолан она стала звездой на «Метро-Голдвин-Майер» и любовницей одного из главных продюсеров студии. Он тоже бил её так сильно, что она снова попала в больницу. Из своей палаты она позвонила ему и довела до такой ярости, что он приехал в больницу, где ещё раз избил её. Позже она засудила возлюбленного на полмиллиона долларов.
Но это двойное насилие над Мэри произошло через несколько лет после новогодней вечеринки в Ти-хуане. В числе гостей были Том Микс, Гари Купер, Джон Бэрримор, Ричард Дикс, Бастер Коллиер, Луис Уолхайм, Дэвид Уорк Гриффит и несколько актёров помоложе. Один из них только начинал становиться знаменитым и пришёл с девушкой, на которой позже женился. Они по-прежнему известны, поэтому назовём их Уолтер и Эвелин.
Гриффит, величайший из режиссёров раннего периода, уже несколько лет не делал фильмы, но его взгляд был подобен камере, а чутьё на романтические сюжеты всё ещё работало. И то и другое работало особенно активно в подобные вечера, когда вместе с нами он поглощал отборные крепкие напитки.
Так случилось, что Мэри Нолан и Уолтер сидели рядом, напротив него. И он увидел в этой молодой паре достаточно блеска и красоты, чтобы заставить мир благоговейно трепетать и удивляться: девушка — блондинка с короной чудесных волос, светящейся кожей, лицом ангела и самыми синими глазами во всём христианском мире; молодой человек — статный красавец с вьющимися чёрными волосами, мощными плечами и неопытный, как юный дикарь.
Морщинистое орлиное лицо Гриффита сияло, пока он изучал их. Казалось, он был в восторге.
— Вы помолвлены? — спросил он.
— Нет — ответил Уолтер, робко улыбаясь мисс Нолан. Судя по всему, он забыл в тот момент, что его девушка сидит рядом по другую руку.
— Какая жалость, — произнёс Гриффит тем особым голосом старого доброжелательного южанина, которым он околдовывал сестёр Гиш, Дика Бартелмеса и других, добиваясь от них великих ролей. И мягко добавил: — Почему бы вам не подумать об этом?
Увлечённый, первый мастер экранной истории начал сплетать роман из жизни:
— Почему бы вам, двум красивым молодым людям, не пожениться здесь, в живописных окрестностях старой романтичной Мексики? Какой союз! Эта молодая женщина даже сейчас носит прекрасное белое платье, которое могло бы стать её свадебным нарядом! А её жених — один из красивейших юношей мира!
Они оба скромно потупили глаза, но Эвелин как будто превратилась в камень.
— Почему бы вам не подумать об этом? — убеждённо повторил старик взволнованным голосом. — Упоительная идея, не правда ли? Обвенчаться под звон колоколов Старой Мексики на Новый год.
К тому времени все за столом прекратили болтовню и только пили, а он продолжал:
— Нежная музыка. Церемония пройдёт в старом монастыре. А церковные колокола! Подумайте о колоколах этой загадочной, древней, живописной страны. Каждый год на протяжении столетий они приносили надежду на счастье и свободу храбрым, сердечным людям. И звон этих древних колоколов принесёт надежду на счастье и вам, мои дорогие дети.
— Я хочу, — сказала Мэри, у которой между романами не нашлось времени выйти замуж.
— Думаю, это было бы хорошо, — отозвался Уолтер.
После обеда при первом удобном случае я повлиял на Бастера Коллиера и Луиса Уолхайма и предложил:
— Давайте всё организуем.
Такие же любители проказ, как и я, они загорелись желанием помочь. Мы обсуждали, кого из влиятельных местных граждан можно попросить завязать этот узел. Архиепископа? Мэра?
Тут Уолхайм, бывший профессор колледжа, указал, что в Мексике, католической стране, возможны некоторые формальности, тормозящие церемонию.
Тогда мы решили, что венчание будет фальшивым. На вечеринке присутствовал нью-йоркский адвокат, похожий на мексиканца. Кто-то предложил уговорить его совершить обряд. Нам к тому же пришло в голову, что пройдёт немного времени, и Уолтер сможет оценить услугу, которую мы ему сделаем, устроив фальшивое венчание. Но наши венчальные планы были быстро разрушены Эвелин, невестой предполагаемого жениха.
— Уолтер, — спросила она медовым голосом, — ты видел, как красив лунный свет во внутреннем дворе?
— Нет, — признался он.
— Хорошо, пойдём со мной.
Он послушно встал, извинившись перед Мэри Нолан.
— Взгляни, дорогой, — воскликнула Эвелин, как только он оказался с ней наедине, — ты когда-нибудь видел такое чудо?
Уолтер недолго изучал лунный свет. Едва он поднял глаза к небу, как Эвелин переместилась влево. Она всего лишь ударила его ладонью, но оплеуха оказалась такой тяжёлой, что раскроила ему губу и свалила его в большой кактус. Минут пятнадцать Уолтер приводил себя в пристойный вид, и позже чистильщик обуви сказал, что половина времени ушла на выдёргивание колючек из седалища.
Представ перед публикой, он поспешил к Эвелин и уже не отходил от неё. Тем временем Мэри Нолан исчезла, и все надеялись, что она больше не появится.
В час ночи я стоял в баре, обдумывая свои дела и в тот момент был занят приятным делом — питьём. Неожиданно Мэри подбежала ко мне, схватила за руку и потащила. Её дыхание было прерывистым, отчего её грудь вздымалась и опускалась очень привлекательно. Смущённый этим, я был проведён через ряд комнат, мимо игорных столов и ещё одного большого бара. Указав на мускулистого незнакомца, она чуть ли не прорыдала:
— Вот он!
— Кто? — спросил я, уставившись на него.
— Мужчина, который оскорбил меня.
Говорят, ничто не может отвлечь азартных игроков от стола, но этот дрожащий голос смог. Казалось, в тот момент на меня смотрели тысячи лиц. Все ждали, что я буду делать, а я думал только о том, что на вечеринке у Шенка собралось много рослых парней, романтичных и галантных: Ричард Дикс, Джон Бэрримор, звёзды-ковбои, такие, как Том Микс. Почему для защиты своей чести она выбрала меня, а не кого-нибудь ещё?
Но я похлопал её по руке и подошёл к сердито смотревшему незнакомцу.
— Не думаю, что ты в чём-то виноват, — сказал я самым вежливым тоном, — но она немного выпила. Почему бы тебе не извиниться, чтобы она замолчала?
Незнакомец доходчиво объяснил, что я могу сделать для Мэри, использовав грязнейшее из четырехбуквенных англо-саксонских слов.
Теперь Китон действительно оказался в трудном положении, а все остальные, похоже, были в трансе. По крайней мере, никто не пытался вмешаться. Пока я обдумывал проблему и приходил в бешенство из-за того, что этот шут поддержал выходку Мэри, он прояснил дело, добавив:
— К тебе это тоже относится.
— Ты меня сильно озадачил, — сказал я ему, — но мы не будем разбираться на публике. Давай спустимся во внутренний двор, где сможем всё уладить очень быстро.
— Нет, — ответил он.
— Что значит «нет»? — спросил я, подходя и беря его за руку, пытаясь увести. Но к ужасу игроков, он вцепился в кромку ближайшего стола и уволок его почти на три фута. Я пытался оттащить его, но он держался за стол мёртвой хваткой. Тем временем фишки на столе раскатились во все стороны, а глубоко потрясённые игроки пытались водворить их обратно на различные позиции у линий «Ходить» и «Не ходить», на «Поле» и другие точки зелёного стола.
Я дёргал этого труса за свободную руку, но не мог оторвать его. В конце концов, не зная, что делать дальше, я направился к бару, где был до того, как началась вся ерунда. По дороге встретил Бастера Коллиера и Луиса Уолхайма и рассказал им о случившемся.
Увидев, что я по-прежнему взвинчен, они заманили меня во внутренний двор, где был колодец. Они подняли меня и свесили в него вниз головой.
— Это вечеринка. Зачем позволять таким пустякам огорчать себя? — сказал Уолхайм. Как и все, Луис обычно относился философски к неприятностям своих друзей.
Что уж говорить, я находился не в том положении, чтобы спорить с ними. Они поставили меня на ноги, только когда я поостыл. Мы вернулись в казино, и Бастер Коллиер заказал мне выпивку.
Немного погодя появилась трепещущая Мэри Нолан.
— Ну вот опять, — сказал я Уолхайму.
— Прости меня, — начала Мэри, — прости меня, Бастер, за то, что я тебя втянула в это дело. Я объясню твоей жене, чтобы она не подумала…
— Не беспокойся, — сказал я, — но что этот парень тебе сделал?
— Он положил руку мне на грудь.
Я посмотрел на чрезвычайно глубокий вырез её платья. Одна её грудь выпала.
— Наверное, она выпала, как сейчас. Тот здоровенный трус ещё и джентльмен. Он вежливо прикрыл её. Но я не джентльмен, и на этот раз тебе придётся вернуть её обратно самой.
Полнометражные фильмы, которые я начал делать в 1923 году для выпуска на «Метро-Голдвин-Майер», очень хорошо приняли. «Три эпохи», первый из них, состоял из трёх эпизодов, где я был показан живущим в каменном веке, во времена Римской империи и в наши дни. Смысл этой комедии заключался в том, что любовь и отношения мужчины и женщины не меняются с начала мира.
«Три эпохи» пошёл хорошо, а следующий, «Наше гостеприимство», даже ещё лучше. В первую неделю в «Кэпитол», большом бродвейском кинотеатре Лоу для премьер, он достиг кассового рекорда, а в сотнях других почти сравнялся с кассовым рекордом для сетей.
Для выпуска на «Метро-Голдвин-Майер» я сделал ещё пять полнометражных фильмов, работая на собственной студии: «Шерлок-младший», «Семь Шансов» (Seven Chances), «Иди па Запад!», «Сражающийся Батлер» (Battling Butler) и второй из двух моих фаворитов — «Навигатор».
Мы собирались начать «Шерлока-младшего» в 1924 году, когда я решил что-нибудь сделать для своего друга Роско. Прошло больше трёх лет с тех пор, как его оправдали, и судьи заявили, что перед ним следует извиниться, но он по-прежнему был отстранён от съёмок в кино.
Роско разорился и пребывал в унынии. Он не мог уплатить огромные издержки от трёх судов, и Джо Шенк тайно внёс за него больше 100 тысяч долларов. Роско совершил кругосветное путешествие, а затем попытал счастья в водевиле. В конце концов он появился в «Коттон-клубе» — ночном клубе в Калвер-Сити. Никто, кроме друзей и любителей скандальных сенсаций, не пришёл посмотреть на него. И смотреть на него было тяжело. Роско больше не был смешным и напоминал старого беспомощного актёра, который знал, что с ним покончено, но отрабатывал свои номера по необходимости.
После завершения его ангажемента в «Коттон-клубе» я предложил Лу Энгеру дать Роско режиссуру «Шерлока-младшего». Лу ответил, что это можно организовать, но будет лучше, если мы дадим ему другое имя. Я предложил Уилл Б. Гуд (Will В. Good), но его признали слишком шуточным, и мы изменили его на Уилл Б. Гудрич (Will В. Goodrich).

Эксперимент провалился. Роско был нетерпеливым и раздражительным и бросался на каждого в группе. Он доводил до слёз мою главную актрису Кэтрин Макгуайр по дюжине раз на дню.
Однажды, когда Роско уехал домой, мы собрались в кружок всей компанией, стараясь придумать, что делать дальше. Было ясно, что мы не можем снимать фильм с режиссёром, чья уверенность в себе пропала, а нервы полностью издёрганы. Но кто из нас найдёт мужество сказать Арбаклу, что он больше не нужен?
Лу Энгер, благослови его Бог, придумал, как выйти из положения. Он сообщил, что Херст, продюсировавший картины Марион Дэвис, ищет режиссёра для нового фильма — киноверсии «Красной мельницы», старого мюзикла Виктора Герберта.
— Херст, — говорил он, — уже беседовал с двумя известными режиссёрами, но сомневается, что они справятся с работой. Он и Марион Дэвис всегда восхищались режиссурой Роско. Они мне так и сказали. И им его очень жаль.
Нам показалось, что с новой бригадой и другим типом фильма Роско может удачно поработать.
Случайно узнав, что Марион в тот вечер пригласила на обед нескольких друзей в свой приморский дом. я захотел поговорить с ней о Роско в качестве режиссёра, прежде чем идти к Херсту. Я уповал на доброту Марион и знал, что она может заставить газетчика выполнить почти любое её желание. В тот вечер я выехал в Санта-Монику повидаться с ней. Она пригласила меня присоединиться к вечеринке.
— Нет, благодарю, — ответил я, — мне бы хотелось поговорить с вами пару минут наедине.
Марион провела меня в другую комнату, и я рассказал, в каком ужасном состоянии находится Роско.
— Одна режиссёрская работа, — сказал я, — пусть даже под другим именем, может всё изменить и помочь ему начать всё заново.
Для Марион было типично не спросить, почему я, сочувствуя ему с такой силой, не дал Роско режиссуру собственного фильма. Я прояснил то, о чём она не спросила, но меньше всего мне хотелось рассказывать о нашей неудаче в работе с Роско:
— Мы уже собирались начать новый фильм с ним в качестве режиссёра, но я буду рад до смерти, если вы позволите ему работать в вашем фильме. Ваш — гораздо более крупная продукция. К тому же он поймёт, что получает шанс, потому что вам с Уильямом Рэндольфом всегда нравилась его работа. Мы с Роско были такими близкими друзьями, что получить работу от меня для него значит очень мало. Он может неверно истолковать это как дружескую помощь.
Марион подала идею Херсту. Думаю, помогло то, что Херст никогда не верил своим газетам и всему, что они печатали о Роско во время его бед. Однажды я слышал, как он говорил, что продал на этой истории больше газет, чем на гибели парохода «Лузитания».
После уикенда Роско позвонил Лу Энгеру в величайшем возбуждении. Перед ним была дилемма. К его изумлению, Херст хотел, чтобы он режиссировал новый фильм Марион, а картины Дэвис были роскошной продукцией и стоили больше миллиона долларов в те дни, когда миллионные фильмы встречались редко.
— Что мне делать, Лу? — спросил он. — Я не могу подвести Бастера.
— Не беспокойся о Бастере, — ответил Лу, — не упускай свой шанс, Роско. Бастер сам всё закончит.
Роско использовал в кредитах имя Уильям Гудрич.
Довольно странно, но «Красная мельница» получилась очень хорошей картиной. Роско как-то сумел сделать первоклассную режиссёрскую работу.
Душевный подъём, вызванный этим фильмом, к несчастью, не продлился долго. В 1927 году он сделал турне со сценическим фарсом «Моя детка», но не добился успеха. На следующий год его освистали в Париже. Не из-за скандала, просто французы увидели, что некогда великий комик уже не смешон. А ведь всего несколько лет назад они так ему поклонялись, что правительство позволило Роско возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Перед смертью, в 1933 году, Роско делал комедии в двух частях для «Уорнер бразерс» на их студии «Флэтбуш», но им тоже не хватало качества и вдохновенной оригинальности его ранних фильмов.
В день, когда я услышал о смерти Роско, мне вспомнился маленький эпизод, показывающий, каким «зверем» был мой старый друг. Это случилось, когда мы делали нашу последнюю двухчастевку в Нью-Йорке. В тот день мы ездили на Кони-Айленд сиять несколько пляжных сцен. Роско сказал Лу Энгеру, что нам нужна хорошенькая девушка, которая смотрелась бы в купальнике.
Объявление было дано, и Роско отобрал из толпы шестнадцатилетнюю блондинку. Перед поездкой на Кони-Айленд она вошла в гримёрную Роско и покрутилась перед ним, чтобы он мог восхититься её купальным костюмом.
— Прекрасно, — сказал он и отвернулся.
— Подождите, мистер Арбакл, — сказала она, — я принесла ещё один. Может быть, он вам больше понравится.
Она вытащила второй купальник, закрыла дверь и начала снимать первый, чтобы переодеться. Прежде чем она успела слишком далеко зайти со своим стриптизом, Роско убежал. Он ворвался в гримёрную, которую я делил с Элом Сент-Джоном, и рассказал, что произошло. По его требованию Лу Энгер взял на роль другую девушку.
Да, таким был на самом деле человек, которого пресса, публика и церковь объявили сексуальным извергом. Думаю, эта история также очень хорошо иллюстрирует, до каких пределов доходили ещё до начала Первой мировой некоторые юные девушки, желая попасть в кино.
Но всё же в трагедии толстого комика была одна воодушевляющая нота. Голливуд, «город, где не знают о любви», «город, не хранящий секретов», не позволил внешнему миру узнать, кто был Уильям Гудрич до тех пор, пока это могло причинить вред Роско Арбаклу.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава тридцать пятая. В городе Живых Богов, тридцати тысяч Будд и шестидесяти тысяч монахов
Глава тридцать пятая. В городе Живых Богов, тридцати тысяч Будд и шестидесяти тысяч монахов Наконец наши глаза удостоились лицезреть жилище самого Живого Будды! У подножия Богдо-Олы стояло белоснежное здание тибетской архитектуры, крытое зеленовато-синей черепицей,
XXXV КАК Я ПРИВЕЗ ИЗ КОНСТАНТИНЫ ГРИФА, КОТОРЫЙ ОБОШЕЛСЯ В СОРОК ТЫСЯЧ ФРАНКОВ МНЕ И В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ — ПРАВИТЕЛЬСТВУ
XXXV КАК Я ПРИВЕЗ ИЗ КОНСТАНТИНЫ ГРИФА, КОТОРЫЙ ОБОШЕЛСЯ В СОРОК ТЫСЯЧ ФРАНКОВ МНЕ И В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ — ПРАВИТЕЛЬСТВУ Пока мы кувыркались на дороге, ведущей из Крепи в Компьень, о чем я имел честь рассказать вам в предыдущей главе, два человека в сопровождении двух спаги и
АГЕНТ «ТРИСТА ШІСТЬ»
АГЕНТ «ТРИСТА ШІСТЬ» В кабінеті згустились вечірні сутінки. На круглому старовинному столі в бронзовому канделябрі горіли чотири свічки, потріскуючи гнотиками. Густий жовтий віск стікав на бронзу. Тепер обстановка не була схожою на офіційну, що, на думку міністра, мало
Триста грамм халвы для президента
Триста грамм халвы для президента Однажды, будучи человеком, не искушенным в бизнесе, я спросил Леонида Синицына:— А что дальше происходит с деньгами, поступившими в президентский спецфонд?Синицын от таких тем всегда старался уходить. Вот и на этот раз ответил неохотно,
ТРИСТА ДНЕЙ НА ЛЕДЯНОМ КУПОЛЕ
ТРИСТА ДНЕЙ НА ЛЕДЯНОМ КУПОЛЕ Дизель-электроход "Обь", тогдашний флагман нашего антарктического флота, должен был отправиться с участниками очередной, 12-й полярной экспедиции из Ленинграда в сентябре 1966 года. Для подготовки у меня оставалось немногим меньше полугода. За
Глава 11. Триста вторая победа
Глава 11. Триста вторая победа Предвидение будущего это вызов жизни. Капитан Эдди Рикенбакер Встреча Эриха с командующим истребительной авиацией генералом Адольфом Галландом была краткой. Галланд хотел перевести Эриха в Испытательную Команду, летавшую на Ме-262. Это
Триста шагов до смерти
Триста шагов до смерти Все остальное было как сон. Кошмарный, мучительный сон. Шесть румынских солдат, грязных, продрогших и чем-то обозленных, остервенело ругаясь и толкая в спину прикладами винтовок, привели Алексеева и Сергеенко в штаб румынской разведки. Высокий
Глава 11 Триста вторая победа
Глава 11 Триста вторая победа Предвидение будущего – это вызов жизни. Капитан Эдди Рикенбакер Встреча Эриха с командующим истребительной авиацией генералом Адольфом Галландом была краткой. Галланд хотел перевести Эриха в Испытательную команду, летавшую на Ме-262. Это
Из летописи полка: запись шестая Триста шагов до смерти
Из летописи полка: запись шестая Триста шагов до смерти Все остальное было как сон. Кошмарный, мучительный сон. Шесть румынских солдат, грязных, продрогших и чем-то обозленных, остервенело ругаясь и толкая в спину прикладами винтовок, привели Алексеева и Сергеенко в штаб
ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ДРУГИЕ МАСШТАБЫ
ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ДРУГИЕ МАСШТАБЫ В апреле 1968 года генерал-полковник М. Г. Григорьев как один из самых авторитетных и опытных руководителей назначается первым заместителем Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Маршала Советского Союза Н. И.
Где, за какой период и в каких документах и материалах хранятся личные архивы подданных Российской империи и граждан Советского Союза за последние триста и более лет
Где, за какой период и в каких документах и материалах хранятся личные архивы подданных Российской империи и граждан Советского Союза за последние триста и более лет • Метрические книги.• Исповедальные росписи.• Ревизские сказки.• Переписи населения.В Российской
Главные документы и материалы, в которых хранятся личные дела и записи подданных Российской империи и граждан Советского Союза за последние триста и более лет
Главные документы и материалы, в которых хранятся личные дела и записи подданных Российской империи и граждан Советского Союза за последние триста и более лет Метрические книги содержат материалы о рождениях, браках и смертях подданных Российской империи с 1918 по 1722
Триста тысяч золотых
Триста тысяч золотых Уровень благосостояния Ли Бо — не самый важный для историко-литературного анализа вопрос, но он весьма занимает исследователей. К сожалению, в не столь еще давнем прошлом некоторые выводы строились на весьма поверхностных и далеко не научных
Глава 9 СКАНДАЛ, РАЗВОД И ТРИСТА ТЫСЯЧ В ГОД Все еще 1995 год
Глава 9 СКАНДАЛ, РАЗВОД И ТРИСТА ТЫСЯЧ В ГОД Все еще 1995 год Антонио был на седьмом небе от счастья. Мелани была рядом с ним, а ничего важнее этого в мире просто не существовало. Актер никак не мог набраться смелости, чтобы начистоту поговорить с Анной. Он надеялся, что та сама
Ю. Чернов. Триста фронтовых дней, а потом — вся жизнь
Ю. Чернов. Триста фронтовых дней, а потом — вся жизнь (Об авторе и его книге)Бывают встречи, которые врезаются в память на всю жизнь.Обычная редакционная командировка и в то же время не совсем обычная. Много ли у нас найдется участников Великой Отечественной войны, чье имя